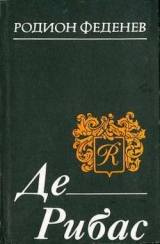
Текст книги "Де Рибас"
Автор книги: Родион Феденёв
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Часть вторая
От любви до заговора
1. Крымская золушка, неаполитанский маркиз и война
1787
Мягкой украинской зимой февраля 1787 года в гостиной кременчугского дома Василия Попова – Базиля – шла игра в старинный Гальбцфельф. Робберы были короткими, быстрыми – играли трое: Базиль за банкомета, понтеры – Рибас и адъютант Потемкина Рибопьер. Базиль сдавал по две карты, если кто-то набирал 9, 19 или 29 очков, тот и выигрывал, взяв прикуп или без него. 8, 18 или 28 очков – тоже было весьма не дурно. Небольшие ставки и свободная игра без записи позволяли говорить на любые темы.
За прошедшие три года многое переменилось в жизни господина полковника мариупольского легкоконного полка. Уж не было той остроты и того восхищения, которые овладели им после памятного разговора с князем Потемкиным. Увы, Греческий Проект предполагал новые разделы земель и народов. Австрия рассчитывала на Истрию, Сербия на венецианскую Далмацию. Франции предназначался Египет. Россия получала влияние в новом государстве – Дакии, в котором должны были объединиться Молдавия, Валахия и Бессарабия. Кроме того, трон свободной Греческой империи прочили внуку Екатерины Константину Павловичу.
И вдруг всколыхнулся от великой вести Новороссийский край: монархиня собралась посетить новоприобретенные земли и Тавриду. Поселенцы, войска и племена – все засуетилось и заметалось в приготовлениях. В конце января Потемкин уже встречал Екатерину в Киеве. Стоит ли говорить, что встреча сопровождалась пушками, приемами и пышными балами. Правда, в свите императрицы среди иностранных послов и вельмож гордо маячил новый фаворит Дмитриев-Мамонов, но для Потемкина он не шел в счет: сам князь и приблизил его к Екатерине.
Пока в Киеве шли торжества, Попов вызвал Рибаса из Новоселицы для подготовки перехода полка в Кременчуг. Доброжелательный и всегда ровный в отношениях с людьми Базиль происходил из духовенства, учился в Казанской гимназии и преуспел в правителях московской канцелярии Долгорукого-Крымского, после смерти которого стал служить у Потемкина, побывал секретарем при собственных делах Екатерины, теперь споспешествовал князю, чтобы тот не ударил в грязь лицом во время монаршьего путешествия.
– Вот вскроется Днепр, станет судоходен, – говорил игрокам-понтерам Базиль, – и флотилия императрицы пойдет вниз по реке. Вот тогда и начнутся главные заботы.
Рибас после сдачи карт получил восемнадцать очков – фигуру и восьмерку, надеялся на выигрыш, но Базиль прикупил и открыл фигуру, пятерку и четверку – девятнадцать. Он рисковал рублем – и получил от Рибаса рубль. Но зато Рибопьер, частенько прикладывавшийся к графину с вином, проиграл Рибасу четыре. Базиль продолжал банковать, ловко проделывал «брюле ле карт» – «сжигал» карты, что означало верх полной колоды положить под ее испод, а Рибас спросил:
– Но почему императрица выбрала такое время года для путешествия? Осенью она болела. И теперь, в стужу, в такую дальнюю дорогу?
– Надо же когда-нибудь и на новые пределы собственной империи взглянуть, – отвечал Рибопьер.
– Ей пятьдесят восемь. Отнюдь не молодые годы, – сказал Рибас.
– А вот ты это ей и скажи, – смеялся Рибопьер.
Попов дружески улыбнулся, покрутил лысоватой головой и напомнил:
– Объявляйте ставки, господа. Но предварительно в карты не смотреть.
В это время пришел начальник интендантского управления барон Бюлер, сразу включился в игру – правила это дозволяли – и сказал:
– Что только не напридумывают! Пошел слух, что светлейший хочет отделить свои края от России, сделаться таврндским царем и завести себе там гарем!
– Открываем карты, господа! – намеренно пресекал опасный разговор Базиль, но когда снова заговорили о Потемкине и императрице, объявил перерыв в игре, сложил с себя обязанности банкомета и сказал:
– Пусть лучше-ка Осип Михайлович расскажет, как он в карты у Зорича играл.
Зорич, бывший фаворит императрицы, был теперь владетельным царьком в Шклове, где держал три театра, собственный кадетский корпус на четыреста воспитанников и основал единственную в мире Академию картежной игры. В Академии преподавали лучшие знатоки Европы, профессора своего дела. О, тут играли и в «триумф», и в «лабет», и «откуп», и «кюльбас», «брускем-биль», и «брискан», и в «кумушку», и в «гок», и в «пок». Зорич был азартен и крайне самоолюбив, но никакой проигрыш не мог пошатнуть его несметных богатств. Впрочем, шкловский Мидас делал ставки сообразно капиталам своих партнеров.
– У меня правило, господа, – сказал Рибас в ответ на предложение Базиля. – В игре не совмещать два греха: вино и карты. Азарт требует ясной головы, иначе демоны азарта могут наслать на тебя безумие. В тот вечер, когда я был в выигрыше, Зорич сел играть против меня и вдруг поставил сто тысяч. Я сказал ему, что таких денег не имею и играть не могу. Тогда он, господа, взял и прировнял мои десять тысяч к своим ста. Я не соглашался, но он настаивал. Что ж, его самонадеянность и заносчивость меня задели. Стали играть. Но каковы бывают причуды Фортуны! У меня от моих тысяч оставалось две сотни, но на них я выигрывал его девяносто пять! Потом все менялось – я снова оставался почти ни с чем, а потом снова выигрывал.
– Колоду надо было поменять, – сказал Рибопьер.
– Меняли, и не раз. И тасовали щедро. Меняли не только карты, но и игру. Пробовали и «фараон» и «макао», и «горки» – а результат один – никто не может выиграть! Меж нами договор был: кончить, когда я проиграю все десять тысяч, а он – все сто. И никак! Уж утро. Профессор Академии за соседним столом письмо в Париж пишет о таком небывалом случае, а нас Фортуна продолжает за нос водить.
– Чем же кончилось? – спросил барон Бюлер.
– Я предложил играть в «пикет».
– И что же?
Рибас улыбнулся, развел руками и ничего не сказал.
– Выиграл, – ответил за него Базиль. – Но Зорич правилу Осипа Михайловича не следовал: усердно смешивал карты с вином. Дело под утро, а «пикет», сами знаете, требует внимания большого. А какая уж тут сосредоточенность, если Зорич носом клевал.
– Надо было выспаться, а вечером снова начать, – сказал Рибопьер.
– Это против договора, – отмахнулся Бюлер. – Так не играют.
– Мы разошлись, – сказал Рибас. – Но я, господа, подумал, что благородно будет и мне приравнять сто тысяч Зорича к моим десяти. Значит, я выиграл у него десять тысяч, а не сто. И девяносто тысяч я ему с лакеем отослал.
– Зря, – сказал Бюлер. – Он миллионер. Что ему сто тысяч?
– Миллионер, а скуповат, – сказал Базиль. – Девяносто тысяч принял, но велел сказать, что выполнит любое желание Осипа Михайловича. – Базиль рассмеялся. – И пришлось выполнить на посмешище всего Шкло-ва!
– Какового же было желание? – спросил Рибопьер.
– Зорич у себя завел такой порядок, – отвечал Попов. – С утра запрягают тридцать экипажей, и они разъезжают по Шклову целый день только для того, чтобы любой дворянин мог сесть и ехать куда ему угодно. Во г Осип Михайлович и пожелал, чтобы одного коня в этих экипажах назвали Семеном!
Офицеры расхохотались: Зорича звали Семеном.
– С тех пор, кто в Шклов ни заезжает, требует экипаж с Семеном, – смеялся Базиль. – А если конь на конюшне, то ждут: вот Зорича запрягут, и поедем!
Утром Рибас уезжал в Новоселицу. Возле полковничьей кареты его поджидал адъютант, но Попов отозвал Рибаса в сторону и тихо сказал:
– Что касается ваших вопросов: почему императрица зимой выехала из Царского, объясню. Предполагалась срочная встреча с императором Иосифом. А теперь дела задержали его в Вене. Говорю вам потому, что знаю, как вы извелись в Новоселице в ожидании стоящих дел.
Надежно схваченные льдом Ворсклу и Орель карета Рибаса легко миновала по санному пути, не выезжая на ветхие мосты. Полковник смотрел на них с тревогой: вести полк в Кременчуг придется в апреле, когда льда, верно, уж не будет. Выдержат ли мосты до тысячи всадников с обозом? В Новомосковске на реке Кильчени решили заночевать. Еще недавно Новомосковск назывался Екатеринославом, но из-за гиблости места Екатеринослав перевели на правый берег Днепра, а хиреющий Новомосковск встретил путников большим шумом на площади. Слышались крики, надсадная ругань. Рибас послал адъютанта узнать: в чем там дело, и тот скоро вернулся, смеясь:
– Вербовщик везет полсотни молодых баб в Крым. Там за каждую ему обещали по пять рублей. Но здешние холостые украинцы заплатили вербовщику Шмулю Ильевичу по шесть рублей и начали выбирать себе будущих хозяек. И ничего не выбрали. Потребовали деньги назад. А Ильевич вернул им по пять рублей. Рубль, говорит, за просмотр. Вот и стали его бить. А он кричит: за осмотр девок да еще с битьем – это по два рубля с вас!
Посмеялись. К ним подъехал на открытых санках один из купцов Фалеевых – Михаил и пригласил ночевать у него. За обильным столом с французской померанцевой водкой, неисповедимыми путями оказавшейся в заснеженных краях, Рибас сделал выговор приказчикам Фалеева:
– Красных кож обещали. А все не везут.
– Перепорю всех, – сказал Фалеев. Тонким лицом он походил на отца, которого Потемкин, к неудовольствию дворян, сделал премьер-майором и правой рукой в торговых делах. У Фалеевых были и поместья, и земли, и водяные мельницы, и заводы, да еще в придачу торговая компания «Жамес и Сиднев», владеющая судами в Крыму. Впрочем, англичанина Жамеса и тульского купца Сиднева Фалеевы оставили только в названии компании, а доходное дело вели сами.
Рибасу хотелось привести мариупольцев на встречу Екатерины в портупеях, перевязях, подсумочных и епанечных ремнях красной кожи, а не черной, как у прочих. Но после застолья в жарко натопленных покоях он теперь думал не об этой романтической затее, а о том, что ему сказал Попов перед отъездом. Было очевидным: присоединение Крыма к России турки не простят. Подготовка к войне вдвойне очевидна. И если при этом императрица, забыв о хворобах, едет на встречу с австрийским императором, значит, нужны срочные переговоры и союз в предстоящей войне.
За эти годы ссора с женой из-за опубликованной переписки с Дювалем потеряла остроту, их отношения восстановились разлукой и письмами. В них, и в письмах Бецкого легко читалось, что теперешний вершитель русской политики, дунайский знакомец Рибаса Александр Безбородко холоден ко всему английскому. За этим угадывалось: Англия не только толкает Порту к нападению, но и, верно, продает ей медные пушки и новые корабли. Людовик XVI был занят внутренними проблемами, от которых лишь морщился, а со всей страстью предавался только двум родам государственной деятельности: охоте и слесарному делу. Последнее он обожал. Если день проходил без охоты и слесарни, он записывал в своем дневнике: «Ничего».
В прошлом году, когда Рибас играл у Зорича, умер в начале марта Фридрих Великий. В Екатеринославских полках заговорили о том, что новый прусский король Фридрих-Вильгельм немедленно начал интриговать в Константинополе с аглийскими целями: столкнуть Порту и Россию, пока у последней нет союзников. Екатерина теперь не зря спешила на юг. Но еще поговаривали, что Фридрих-Вильгельм обещал султану втравить в будущую войну и шведов. А для этого были основания. Густав II еще со времен своего магдебургского падения с лошади не унял обид, претензий и великого самомнения. Слова Екатерины, что Александр Македонский не падал по своей оплошности с коня, наверняка достигли ушей мнительного Густава.
Об одном Рибас мог только догадываться: каковы амбиции во всей этой политической талии его родного Неаполя? Увы, Дон Михаил, глава неаполитанского рода Рибасов, умер. Известие о его смерти достигло Джузеппе спустя полгода. Горечь утраты разделить было не с кем. Виктор Сулин жил в Севастополе. Рибас написал о смерти отца Эммануилу – брат к этому времени стал капитаном и стоял с полком в Крыму под Керчью. Младшие братья готовились к военной карьере в Неаполе и писали редко.
С тех пор, как Рибас получил из Королевства Обеих Сицилии последнее письмо от Андрея Разумовского, о политической жизни Неаполя вестей не было. Недаром граф Андрей беспокоился, что королева Мария-Каролина неосторожна с его письмами: через придворную даму ©ни попали к испанскому послу, разразился скандал, и Екатерина перевела графа Андрея в Венецию. Послом в Неаполе стал полусумасшедший меломан Павел Скавронский. Отец его был душевнобольным. Умерев, оставил баснословные богатства, и сын женился на племяннице Потемкина, жил заграницей, музицировал, сочинял ералаши, пока не дозрел до дипломатической должности. Но и в своем посольском доме продолжал говорить с гостями речитативом.
За эти годы умер Дидро. Умер, как писала Настя, после весьма умеренного обеда в новой квартире, которую ему через Гримма наняла Екатерина. Свою новую обитель в отеле «Безон» он величал дворцом, но прожил в нем всего две недели. Императрица передала его вдове тысячу ливров, что составляло пенсию на пять лет вперед.
Солнечная оттепель разбудила полковника утром. Молодой Фалеев, прощаясь, поставил в карету презент – корзину с французской померанцевой и обещал проследить за доставкой кож. До Новоселицы путь был недолог, но Рибас уж не думал ни о предстоящих будущих заботах, ни о делах дипломатов. Теперь он с удовольствием представлял, как примет рапорт дежурного офицера, зайдет к себе, переоденется и отправится в дом полкового капельмейстера, где с нетерпением ждала его прелестная Айя.
Встреча с ней произошла два года назад при стечении самых разных обстоятельств. Приехав в Кременчуг по делам полка, Рибас встретил там Марка Войновича, подивился появившейся у капитана степенности, важности. Марк Иванович говорил со значением:
– Я командую эскадрой в Севастополе, а все приходится просить. Хлопотал об отводе мне земли в Крыму.
– Отказали?
– Нет. Но стоило мне попросить, Потемкин ругался, что Крым разворовали. Николай Мордвинов шесть тысяч десятин получил на Южном берегу. Я просил вдвое меньше. А Попов отхватил себе тридцать тысяч десятин. Даже юнгфера Пересухина у нас земли имеет.
Услыхав о Мордвине, вспомнив его флорентийскую мадонну-англичанку, Рибас спросил:
– А что Мордвинов? Женился? Где он?
– Назначен старшим чином Черноморского адмиралтейства, – сумрачно отвечал граф. – Пребывает в Херсоне. Женился, но жену с собой, кажется, не привез.
После присоединения Крыма к России татарам была обещана неприкосновеность имущества и владений. Но многих склоняли к отъезду мурзы и турецкие посулы, и татары бросали дома, виноградники, сады и уезжали в Турцию. Бывшие ханские земли и большая часть степного Крыма оказались свободны. И, когда Рибас говорил об этом с Войновичем, услыхал знакомый голос:
– И вы Крымским собственником хотите стать, Джузеппе?
Это был Виктор Сулин. Он ничуть не изменился, восторгался Тавридой и советовал Рибасу:
– Вам надо непременно иметь земли в этом сказочном краю.
– Чтобы купить, денег нет, – отвечал Рибас.
– Где вы видели охотников покупать, если светлейший князь и бесплатные ордера на землю дает? Греки у нас селятся в Балаклаве, Аутке. Кубанцы в степях. Четыре тысячи церковников в Новороссию пришло и никто без земли не остался.
Одним словом, Рибас тут же через Попова получил ордер на полторы тысячи десятин в Акмечетском (Симферопольском) уезде. Правда, Попов сказал:
– Когда камеральное описание земель будет закончено, тогда межевые планы выдадут.
Но все-таки неожиданно для себя Рибас сделался землевладельцем, испросил отпуск и отправился в Крым вместе с Виктором. В канцелярии Ак-мечети ему предложили тысячу тридцать девять десятин удобной земли и сто семьдесят пять неудобий при деревне Биюк-Сюрен, куда они отправились, прихватив с собой переводчика-толмача. Встретил их татарский староста и указал дом с садом, который Рибас мог занять. Но господа расположились на лужайке возле зарослей кизила. Адъютант разжег костер, из аула явилась шумная депутация с барашком.
– Требуют, чтобы староста разделил на всех имущество мурзы, – сказал толмач.
– Пусть разделит, – отвечал новоявленный землевладелец.
Родственники старосты были этим возмущены. Его противники неумело кланялись землевладельцу и привели из селения девочку-подростка в темных нищенских одеждах.
– Они дарят ее вам в жены, – объяснил толмач.
Она была худа, для татарки высока ростом, упиралась, закрывала лицо платком, но ее подвели к Рибасу, заставили кланяться.
– Поздравляю, – сказал Виктор. – Сеньора хоть куда.
А сеньора, немного освоившись, принялась хлопотать у костра. Толмач объяснил, что она дочь грузинки из гарема местного князька, сбежавшего в Очаков, зовут ее Анаида, живет в селении из милости. За трапезой девочка прислуживала, принесла миску с водой, чтобы господин землевладелец совершил омовение. Рибас подарил ей золотой и они уехали в Севастополь, где Войнович пригласил их сопутствовать ему в крейсерстве между Ахтиаром и Козловым. Дом графа был на противоположной стороне от Севастопольской пристани. После завтрака друзья вместе с Войновичем на гребном катере приплыли к пристани, где дежурный офицер доложил, что утром солдаты поймали татарку, которая то что-то высматривала на верфи, то заглядывала в окна казенных домов. А окликнули – пыталась бежать.
– Я ее расспрашивал – молчит, – сказал дежурный офицер. – Велел запереть ее в якорном сарае.
– Пусть посидит, – сказал Войнович – Вернемся – расспросим.
– Золотой рубль при ней нашли, – сказал офицер.
Виктор и Рибас переглянулись.
– Сеньор, не вашу ли это жену в якорной сарай посадили? – засмеялся Виктор.
Да, это была испуганная, покорная, обрадованная спасением Анаида. Войнович, узнав ее обстоятельства, отправил ее в свой дом на попечение жены. Вернулись они через полмесяца, так как продлили свое крейсерство до самой Кинбурнской косы. Во время обеда жена Войновича ввела в столовую девушку, в которой было невозможно узнать несчастную Анаиду. Перед пораженными гостями предстала стройная, темноволосая синеглазая красавица.
– Добрый день, – сказала она, тщательно выговаривая слова, и смутилась, потупила взор. Мужчины онемели, а жена Войновича, смеясь, сказала:
– Она не только красавица, но и умница. Все хватает на лету. Вы когда уезжаете, Осип Михайлович?
– Через пару дней, – ответил Рибас, а жена Войновича перешал на французский:
– Она считает, что обязана всюду следовать за вами. Но уж вы ей скажите, чтобы она оставалась здесь. А еще лучше – прикажите. Мы к ней привыкли.
С чувством сожаления полковник исполнил все, что от него требовалось. А через год Виктор привез Анаиду в Новоселицу.
– Так уж пришлось, – сказал он. – Она объявила, что уедет к вам сама.
Вот так и появилось в жизни Рибаса это поразительно нежное и пугливое существо. Способностей она была необыкновенных. Довольно бойко говорила по-русски и даже вставляла в свою речь французские заученные фразы. Но что оставалось делать? Рибас поселил ее в доме полкового капельмейстера, и Айя, как девушку по-домашнему звали Войновичи, учила с капельмейстером грамоту, читала, вела хозяйство и была счастлива, когда господин полковник брал ее с собой на прогулки. Полковые офицеры оказывали ей особое почтение. Не было ни одной ярмарки, с которой ей не привозили подарки. Когда Рибас болел и не мог есть из-за воспаленного простудой горла, Айя грела на кухне мешочки с песком, несла их полковнику и сидела на полу возле постели, а смотрела на Рибаса так, что он начинал понимать древний обычай, когда цветущая жена почитала за счастье быть заживо погребенной вместе с умершим воином.
Полковые романы – отнюдь не редкость. И Рибас ездил с офицерами на приемы в окрестные имения, где в провинциальных жеманницах недостатка не ощущалось. Молодая вдова Катрин Васильчина, владелица имения под Новоселицей, жила в нем с тетушками и молоденькими наперсницами. Офицеры благоговели перед Катрин, а ее фантазиям удержу не было. То объявлялась охота на степных лисиц с помощью луков. То предлагалось найти в стогу сена записку Катрин, и офицеры дружно брались за дело.
– Зачем вы предложили им это? – спрашивал Рибас.
– Награда – мой поцелуй, – смеялась обольстительница. – А заодно они переворошат сено и оно высохнет.
– Кому же адресована записка?
– Вам, всем и никому, – отвечала Катрин. – В ней всего лишь строка из Овидия.
Тайные офицерские романы в степной провинции ни для кого не составляли секрета. Но Анаида, Айя, Аида, Наяда, как он ее называл, любила Рибаса открыто, страстно, выказывала ему преданность, не стесняясь никого, и связь с ней господина полковника приняли в Новоселице как нечто само собой разумеющееся, и девушка расцвела в непосредственную, обаятельную, прелестную женщину, которая могла бы составить счастье любому, даже светскому человеку. «Что стало бы с ней в татарском селении Биюк-Сюрен, не появись я там почти случайно?» – спрашивал себя Рибас. Но здесь же задавал себе и другой вопрос: «Что будет с ней, когда моя жизнь переменится, когда я уеду в Петербург?»
Полковой священник отец Михаил крестил девушку, дал ей имя Анна, отчество выбрал по своему имени – Михайловна, а фамилию записал Князева, узнав, что мать ее была женой князя. Сколько ей было лет, она не знала, но священник, взглянув на высокую грудь девушки, женский стан, тут же и определил: «Семнадцатый год девка без православной веры живет».
В конце декабря, уезжая в Кременчуг, Рибас ощутил неожиданную холодность любящей его женщины. Она не знала, что он скоро уедет, и ее отчужденность нельзя было объяснить ревностью. На его расспросы не отвечала, почти не бывала у него. Но теперь, возвращаясь после почти трехмесячного отсутствия, Рибас почувствовал радостную приподнятость от предстоящей встречи, клял себя за невнимательность к преданной Наяде и решил в предстоящий поход полка в Кременчуг взять Айю с собой.
В Новоселице дежурный премьер-майор Карл Вильсен доложил, что в полку все спокойно, но случилось три происшествия. Конник первого эскадрона напился пьян и его нашли замерзшим на берегу Кильчени. Двое солдат силой напоили до смерти поляка, привезшего бочку водки, и оправдывались тем, что водка была, как вода, а шинкарь продавал ее, как крепкую двойную: вот и попробовали на нем ее крепость. Унтер Савельев, бывший на постое в семье ремесленника-грека, вдруг переломал у хозяев всю мебель и стал рубить стены. Содержится под арестом и не помнит того, что творил.
Уже дней десять Рибаса ожидало письмо из Петербурга, от жены, и он удивился: почему письмо не попало к нему в Кременчуге. Послание Насти он отложил на потом, назначил на завтра офицерский сбор и поспешил к Айе. Но на крыльце его догнал Карл Вильсен и сказал по-русски с акцентом:
– Уефала Анья. В началье генваря уефала. До сих пор нет.
Как? Куда уехала?… Но расспрашивать офицера Рибас не стал, заставил себя улыбнуться и сказал:
– Да. Я знаю.
Подробности он узнал через четверть часа, когда вошел в дом капельмейстера. В комнатах, где жила Айя, все осталось, как прежде. Альков застелен зеленым бархатом, выложенные изразцами печи натоплены.
– После Рождества она как будто заболела, – рассказывал капельмейстер. – А потом как-то зашел проезжий казак, из бывших запорожцев. Сказал, что переночует у меня, хоть я его и не пускал. Человек он богатый, веселый. Переночевал, а утром она пожитки собрала да и уехала с ним.
– Что за казак? Куда уехала? – нетерпеливо спрашивал Рибас.
– Да кто знает? Он и про Крым говорил, и про свой дом где-то на Днепре. Много он ей рассказывал. Видно, много повидал.
– А имя его?
– Если бы знать, спросил бы. Казак да казак. Но не из простых. Пояс серебряный. У пистолей дерево позлащенное.
– Велела она мне что-нибудь сказать?
– А как же. Чтобы не беспокоились. Что так надо.
Конечно же, в полку уже знали обо всем. Он отправился к себе, солдату велел топить баню, адъютанту оповестить господ офицеров о вечеринке с французской померанцевой и стал читать письмо жены. Из него узнал, что Бецкого все забыли, как забывают добродетель, когда она становится привычной. Дочери росли. Старшая мечтала стать смольнянкой. Как бы между прочим, Настя сообщала, что Безбородко увлекся некой девицей Давиа. Об этом романе много говорят. Вершитель политики России настолько ценит ее певческий талант, что его жена однажды увидела на певице свои бриллианты, после чего императрица распорядилась выслать певицу из Петербурга.
В конце письма Настя писала о «Трактате дружбы, мореплавания и торговли» между Неаполем и Россией, который был передан императрице перед ее отъездом на Юг. Это была важная новость для полковника. Посланника Скавронского и официальных лиц от короля Фердинанда Безбородко ждать не стал и уехал вместе с императрицей. Это удивило неаполитанского посла герцога Серракаприолу, но теперь Рибас знал: встреча с Иосифом была важнее. Впрочем, Скавронский, по всей вероятности, поедет следом за императрицей. Рибас решил непременно повидать его, чтобы перед отъездом посланника в Неаполь передать с ним деньги для матери.
Полковые будни ознаменовались примеркой новой формы, которую Потемкин вводил в войска уже несколько лет. Рибасовы конники щеголяли в коротких куртках вместо кафтанов, панталоны в обтяжку сменили на удобные штаны, треуголки – на поярковые каски с султанами из конского волоса. Потемкину нужно было стать Президентом Военной Коллегии, чтобы отменить в армии пудру, косу, букли. Во многих садах Новоселицы чучела обзавелись обновой – прусскими париками. Но по сути в армии мало что менялось. Конечно, ружья теперь не имели прямых лож для удобства держать их во время смотра – начали думать о том, что из таких ружей прицельно не выстрелишь. И в прикладах не выдалбливали камеры, в которые клали черепки, чтобы при исполнении ружейных приемов каждый удар производил громкий звук. Перемены не коснулись обеспечения войск. Полковым командирам приходилось убывших выдавать за присутствующих, вести тайную бухгалтерию, чтобы полки имели божеский вид.
Купец Фалеев сам сопроводил обоз с кожами в Новоселицу, угощал отменной стерлядью, говорил:
– В марте еду в Херсон. Повезу из Крыма ковры для встречи императрицы. Вашему воинству ковров не надобно?
Воспользовавшись случаем, Рибас отправил с Фалеевым в Кременчуг письмо Базилю:
«29 февраля. Как поживаете, предорогой друг? Знаете ли, что привычка проводить время с вами, сделала для меня меньше сносным тех, с которыми прежде здесь был довольно хорош. Не прощу вам того, что вы мне сыграли штуку, приучив меня к вашему обществу, ваша совесть ответит за скуку, которою страдаю здесь. Для довершения неудач, я нашел свою клетку пустою: единственная птичка, которую там оставил, воспользовалась моим отсутствием, дабы поместиться у какого-то запорожца. В окрестностях тоже находится соловей… но эти птички требуют много забот в их кормлении, а это не по моей части. Пользуюсь выездом г. Фалеева, чтобы поговорить с вами; но это будет только на минутку, ибо я боюсь отнять у вас время, которое вы посвящаете киевским красавицам, а особенно госпоже канцелярии. Мне очень нужно вас о многом спросить и многое сказать… Граф Скавронский прибудет ли в ваши края перед отъездом в Неаполь? Я имею просьбу к нему, которая для меня очень важна».
Под Кременчугом Мариупольский полк расположился на берегу Днепра в двух верстах от уреза воды, как приказали, чтобы не тревожить ясны очи императрицы кострами и непарадным лагерным бытом. Утром командующий Кременчугской дивизией генерал-аншеф Суворов произвел смотр полкам. На Совете сказал коротко:
– Первым от легкой конницы пойдет Мариупольский. А за ним – Павлоградский и Полтавский. Где полковник мариупольцев? – и, найдя глазами Рибаса, кивнул ему: – Благодарю-благодарю!
Царский караван судов из восьмидесяти галер медленно приближался к Кременчугской пристани. Ахнули пушки, грохнули оркестры, и Рибас попридержал переступившего с ноги на ногу английского скакуна. Издали полковник видел декоративно сияющего Потемкина, знакомые лица послов – австрийского Кобенцля, французского Сегюра, принцев Нассау и Ангальта. Важное, но какое-то кукольное лицо Екатерины выражало восторг и милостиво улыбалось. Архиепископ Екатеринославский, родом вятич, переводчик Мильтона и член Российской Академии отец Амвросий говорил речь от имени смиренной паствы божией.
По всей вероятности, перемена средств передвижения – с галеры на карету не прошла бесследно для императрицы, она поспешила в генерал-губернаторский дом и скрылась в его покоях, когда мимо по улице браво шли екатеринославские кирасиры, гремели оркестры и легкие конники салютовали палашами. Разместив полк в лагере, Рибас переночевал в палатке, а утром первого мая верхом прискакал к генерал-губернаторскому дому. В саду Базиль представил его принцу Нассау-Зигену.
– Вы полковник мариупольцев? – переспросил Нассау. – Завидую вам. Я в России до сих пор без должности. До приезда сюда я был на испанской службе и командовал плавучими батареями в Гибралтаре. А теперь выполняю мелкие поручения князя: занят устройством сел, садов, чтобы везде достойно встречали императрицу.
Потомок древнего рода Оттонов и Нассау Оранских, в родословной которого были и короли Англии и германские императоры, кивнул в сторону дома:
– Там опять хлеб-соль, речи, иконы. По-моему в Кременчуге никто не успокоится, пока не приложится к руке монархини.
Принц Ангальт, гуляя по аллеям, занимался странным делом: сходил с дорожки и пробовал вырвать из земли то дерево, то куст.
– Принц! – окликнул его Нассау. – Не сомневайтесь: в Кременчуге все настоящее, уверяю вас. К стволам не привязаны ветки. А цветы персика – не крашеная бумага. Это ранний сорт.
– Почему вы так уверены? – сомневался Ангальт.
Нассау расхохотался:
– Уверен потому, что я этот сад не устраивал!
В это время всех отвлекли всадники в черных одеждах, высоких папахах. Кинжалы воинов были в серебряных ножнах. Всадники спешивались у крыльца.
– Это тоже местные жители? – спросил Нассау.
– О, нет, – ответил Рибас. – Скорее, это кавказцы.
– Ваша правда, – сказал Попов. – Это депутация Осетинского народа и Кабардинских племен. Прибыли просить императрицу о крещении. – Повернувшись к Рибасу он тихо промолвил: – Обязательно зайдите ко мне после маневров. – И поспешил к депутации.
– Как прошла встреча на Днепре с королем польским? – спросил Рибас у принца.
– Бедно, – отвечал Нассау. – Король Станислав ждал императрицу в Каневе три месяца и успел промотать три миллиона.
Обед, на который были приглашены генералитет, все полковые командиры и чиновники не ниже шестого класса, был дан в специально выстроенной зале под оркестр и малороссийское хоровое пение. За десертом исполняли ораторию Джиованни Сарти. Сочинитель руководил исполнением лично и делал это так же вкрадчиво, как интриговал в кругах придворных музыкантов. Екатерина несомненно отметила присутствие Рибаса за столом, потому что, когда встретилась с ним на мгновение взглядом, на лице монархини мелькнула тень озабоченности.








