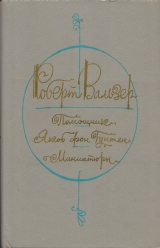
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Так оно лучше будет. Вид у тебя уверенный, спокойный, в меру скромный. Или хочешь поделиться добытой в праздности мудростью? Изволь! Я весь внимание. Нет, лучше уйди. Весь твой вид меня раздражает, ты, старая… Вот, чуть не выругался. Ходит тут, провоцирует на непотребные выражения. Затаись лучше или исчезни. А то потерял всякие приличия по отношению к начальству. Да, я уж видел. Но зачем я вообще говорю с таким шутом гороховым? Ты, я готов признать это, был бы вполне сносным человеком, если б не был таким шутом. Если б ты согласился с этим, я бы бросился тебе на шею». – «О Краус, – вскричал я, – зачем ты бранишься? Зачем насмешничаешь – ты, самый дорогой мне из всех людей? Отчего это?» Я легко рассмеялся и поплелся к себе. Скоро здесь, в пансионе Беньяменты, вообще не останется ничего другого, как вот так слоняться из угла в угол. Похоже на то, что наши «дни сочтены». Но, может быть, ошибается тот, на кого пансион производит такое впечатление. Может быть, ошибается фройляйн Беньямента. Может быть, даже и господин директор. Может быть, все мы ошибаемся.
Я стал Крезом. Правда, что касается вожделенных денег, то… тихо, не о деньгах у нас речь. Я веду странную двойную жизнь, упорядоченную и беспорядочную, подконтрольную и бесконтрольную, простую и крайне сложную. Что имеет в виду господин Беньямента, говоря, что никого еще не любил в своей жизни? Как может он говорить это мне, своему подданному и рабу? Да, мы не кто иные, как подданные и рабы, молодые, оторванные от ветвей и стволов, выданные ветрам и бурям и уже слегка пожелтевшие листья. Ураган ли господин Беньямента? Вполне возможно, ибо мне не раз доводилось чувствовать на себе раскаты его гнева, его яростные порывы. И потом, он настолько всемогущ, насколько я, воспитанник, ничтожен. Тихо, не о власти речь. Нельзя не впасть в заблуждение, когда употребляешь высокие слова. Господин Беньямента так подвержен слабости и потрясениям, так подвержен, что порой хочется смеяться над ним, издеваться над ним. Я полагаю, что сильных людей в этом мире нет, что человек попросту дрожащая тварь. И вот эта-то мысль, дарованная этим озарением уверенность и делает меня Крезом, то есть Краусом. Краус не знает ни ненависти, ни любви, поэтому он Крез, почти неуязвимый Крез. Он как скала, а жизнь, как слепая волна, понапрасну разбивает себе грудь о его добродетели. Вся натура, все существо его пронизано добродетелями. Едва ли его можно любить, не говоря уж о том, чтобы ненавидеть. Любят все красивое, привлекательное, отчего оно так часто становится жертвой глумления и надругательств. Жующая, жрущая нега жизни не осмеливается подступить к Краусу. Он одинок, но крепок и неприступен, как титан, полубог. Однако этого никто не понимает, не понимаю и я. Как часто я думаю и говорю о собственном понимании. Я, пожалуй, мог бы стать священником, основателем какой-нибудь религиозной секты или движения. Собственно, я могу еще это успеть. Я могу многое сделать. А что же Беньямента? Не сомневаюсь, что скоро он расскажет мне свою жизнь. Не устоит перед потребностью высказаться, поделиться своим сокровенным. Вполне вероятно. И, странное дело, иногда возникает такое чувство, что я никогда-никогда не смогу расстаться с этим великаном, что мы составляем с ним единое целое. Но как часто обманывает подобное чувство. Во всяком случае, мне нужно быть начеку. Впрочем, не слишком. Быть излишне бдительным означает быть дерзким. Зачем дразнить то, чего не минуешь? Ведь я так мал. Вот этого мне и нужно держаться изо всех сил – что я мал и ничтожен. А фройляйн Беньямента? Неужели она действительно умрет? Боюсь думать об этом, запрещаю себе. Какое-то шестое чувство запрещает мне это. Нет, я не Крез! А что до двойной жизни, то ведь всякий ведет таковую. Чего уж распинаться?! Ах, эти мысли, эта тоска, этот надрыв, это судорожное нащупывание смысла! Эти грезы, эти сны! Буду ждать, что придет. Что придет, то придет.
Пишу в страшной спешке. Весь дрожу. Буквы прыгают у меня перед глазами. Случилось что-то ужасное, то есть кажется, что случилось, я едва сам могу все осознать. У господина Беньяменты был приступ, и он чуть не задушил меня. Неужели это правда? Мысли мои расползаются, и я сам не могу понять, на самом ли деле так было. Но по тому, в каком смятении я нахожусь, я догадываюсь, что так и было. Директора обуяла несказанная ярость. Он походил на Самсона, легендарного палестинского героя, который до тех пор колебал столпы переполненного людьми здания, пока сей нечестивый дворец, сей каменный колосс – символ зла – не рухнул. Правда, здесь, всего час назад, речь шла вовсе не о ниспровержении низости и зла, и столпов и колонн тоже не было, но все было так, в точности так, как и тогда, и меня впервые в жизни охватил самый настоящий заячий страх. Да, я превратился в зайца, и в самом деле у меня были основания пуститься наутек, иначе мне бы несдобровать. Я едва ускользнул от сверкнувших, можно сказать, как молнии, его кулаков, успев, как мне кажется, укусить за палец этого Голиафа. Может быть, быстрый, энергичный укус спас мне жизнь, если только резкая боль, которую он испытал, напомнила ему о принятых между людьми нормах приличия. Так что грубому нарушению предписаний я обязан на сей раз тем, что уцелел. Опасность и впрямь была велика, но откуда она возникла? Как могло дойти до этого? Он бросился на меня как бешеный. Его мощное тело рванулось ко мне, как сумасшедший сгусток свирепого гнева, словно гигантская волна хлестнула по комнате, чтобы размозжить меня о стену. Воды, конечно, не было и в помине. Все это глупости, я понимаю, но я еще не пришел в себя и туго соображаю. «Что вы делаете, глубокоуважаемый господин директор?» – закричал я в беспамятстве, бросившись к двери. В коридоре я снова, хоть и дрожа на сей раз всем телом, прильнул ухом к двери и стал слушать. И услыхал тихий смех. Потом я прибежал сюда, в класс, плюхнулся на парту, сижу и не могу взять в толк, случилось ли все на самом деле или только привиделось мне? Нет, нет, все так и было. Скорей бы пришел Краус. Одному мне не по себе. Как было бы здорово, если б сейчас пришел добряк Краус, чтобы в очередной раз прочитать мне свои наставления. На меня бы сейчас благотворно подействовала легкая брань и в тоне занудливого брюзжания выволочка. Неужели я ребенок?
Собственно, я никогда не был ребенком, и поэтому, я полагаю, что-то детское останется во мне навсегда. Я только вырос и стал старше, но в душе все тот же ребенок. Самые дурацкие выходки так же тешат меня, как и много лет назад, но в том-то и дело, что сам я их никогда не совершал. Разве что пробил однажды голову брату, но такое событие дурацкой выходкой не назовешь. То есть, конечно, в жизни было немало всякого, но думать о чем-нибудь всегда казалось мне интереснее, чем делать. Я рано начал во всем, даже в глупости, искать глубину. Я не развиваюсь. По-моему, я, наверно, никогда не дам никаких ветвей. Когда-нибудь суть моя превратится в прах, в дуновение, я стану цветком и буду для собственного удовольствия источать легкий аромат, склоняя набок голову, которую Краус называет упрямой, надменной и глупой. Руки и ноги мои странно увянут, дух, гордость, характер – все, все сломается или увянет, и я буду мертв, не по-настоящему мертв, а так только, до некоторой степени, и просуществую так, паря между жизнью и смертью, может быть, лет шестьдесят. Я ведь не испытываю никакого почтения перед своим «я», я только наблюдаю его, оставаясь холодным. О, достичь бы теплоты! Как это было бы великолепно! Я сумею вновь и вновь достигать теплоты, ибо ничто личное, только мне свойственное, не будет препятствовать моему возгоранию. Я состарюсь. Но моя старость меня не страшит. Ничто не страшит меня. Как я счастлив оттого, что не вижу в себе ничего примечательного и замечательного! Быть и оставаться маленьким человеком. А случись вдруг, что какая-то рука, волна, судьба вознесет меня туда, где царят власть и могущество, да размету я тогда оказавшие мне предпочтение обстоятельства и да нырну в темную, безымянную глубь. Дышать я могу только в низине.
Я целиком согласен с действующими у нас все еще предписаниями в том, что глаза воспитанника и ученика жизни должны излучать бодрость и добрую волю. Да, в глазах должна светиться крепость души. Презираю слезы. И все же я плакал. То есть больше, пожалуй, в душе, но это-то и есть самое ужасное. Фройляйн Беньямента сказала мне: «Якоб, я умираю, потому что не нашла любви. Сердце, которого не взалкал достойный, умирает. Я прощаюсь с тобой, Якоб, уже теперь. Вы, мальчики, Краус, ты и другие, спойте у гроба, в котором я буду лежать. Вы будете сожалеть обо мне, я знаю. И каждый из вас положит на гроб свежий, может быть, еще росистый цветок. Под конец мне хотелось бы облечь тебя сестринским, улыбчивым доверием. Да, Якоб, довериться тебе – это так естественно, потому что, глядя на тебя, каков ты теперь, ожидаешь, что и глаза твои, и уши, и твое сердце, и душа созданы для того, чтобы понимать все и сочувствовать всему – даже самому неслыханному и несказанному. Я гибну от непонимания тех, кто должны были бы видеть меня и понимать, гибну от безумия разумной осторожности, от безлюбия, нерешительности и постоянной оглядки. Был некий человек, которому казалось, что он любит меня, но он колебался, не пошел за мной, я тоже колебалась, но ведь я девушка, я имею право и даже обязана быть нерешительной. Ах, как обманула меня неверность, как ужаснула пустота и бесчувственность сердца, в котором билось, как я верила, искреннее сильное чувство! То, что раздумывает и прикидывает, нельзя назвать чувством. Я говорю с тобой о человеке, верить в которого призывали меня горячие, страстные грезы. Я не могу сказать тебе все. Лучше помолчу. О, как ужасно та, что меня убивает, Якоб! Безутешность губительна. Но хватит об этом. Скажи, ты любишь меня, как любят младшие братья своих старших сестер? Вот и славно. Не правда ли, Якоб, все хорошо так, как есть? Не будем отчаиваться, жаловаться на судьбу, не так ли? Никогда ничего больше не желать – не правда ли, это прекрасно? Или нет? Да, да, это прекрасно. Подойди, я поцелую тебя. Один-единственный, невинный поцелуй. Не будь таким жестким. Я знаю, ты не любишь плакать, но теперь давай вместе поплачем. И посидим тихо-тихо». Она ничего не сказала больше. Казалось, что она хочет сказать еще многое, но не находит слов для своих ощущений. За окном, во дворе падал снег крупными мокрыми хлопьями. Это напомнило мне дворик в замке с внутренними покоями, где тоже шел такой мокрый снег. Внутренние покои! А я-то думал всегда, что фройляйн Беньямента хозяйка этих внутренних покоев. Я всегда представлял ее себе нежной принцессой. А теперь? Фройляйн Беньямента оказалась страдающей женщиной с нежной, уязвимой душой. Вовсе не принцессой. И однажды она будет лежать здесь в гробу. Губы застынут, а вокруг недвижного лба будут виться обманные кольца волос. Но зачем рисовать себе такие картины? Иду к директору. Он меня вызвал к себе. С одной стороны, жалоба и труп девушки, с другой – ее брат, который, похоже, и не жил еще вовсе. Да, Беньямента напоминает мне запертого голодного тигра. И что же? Я отправлюсь в разверстую пасть? Была не была! Пусть хоть беззащитный воспитанник придаст ему мужества. Я помогу ему. Я боюсь его, и в то же время что-то во мне смеется над ним. Кроме того, он еще задолжал мне рассказ о собственной жизни. Он мне твердо обещал рассказать о ней, и я напомню ему об обещании. Да, таким он мне представляется: еще совсем не жившим. Хочет ли он теперь поживиться за мой счет? Может, потому и защищает он идею преступления? Это было бы глупо, очень глупо – и опасно. Но что-то толкает меня к нему, я должен пойти. Какая-то мне не понятная сила толкает меня вновь и вновь всматриваться и вслушиваться в этого человека. Пусть сожрет меня господин директор, изобьет, изничтожит. Я погибну тогда от собственного великодушия. Иду в канцелярию. Бедная учительница!..
С легким презрением, надо сказать, но вообще-то весьма по-свойски (потому-то и по-свойски, что с некоторым презрением), улыбаясь широкой, красивой улыбкой, директор похлопал меня по плечу. Улыбка обнажила его ровные зубы. «Господин директор, – сказал я с невероятным возмущением, – вынужден просить вас оставить эту обидную фамильярность. Я пока еще ваш воспитанник. И решительно отказываюсь от каких-либо особых милостей и привилегий. Не делайте снисхождения для оборванца. Меня зовут Якоб фон Гунтен. Перед вами молодой, но вполне осознающий свое достоинство человек. Меня нельзя извинить, я это вижу, но меня нельзя и оскорбить – я этого не снесу». И с этими до смешного надменными и так не соответствующими нашему веку словами я оттолкнул руку господина директора. На это господин Беньямента осклабился еще больше и сказал: «Прости, что смеюсь, Якоб, не могу сдержаться, как не могу сдержаться, чтобы не расцеловать тебя, так ты мил». – «Расцеловать? – вскричал я. – Вы сошли с ума, господин директор? Этого бы еще не хватало!» Меня самого поразила дерзость моих слов, и я непроизвольно отступил на шаг, чтобы избежать удара. Однако господин Беньямента, весь доброта и снисходительность, сказал тоном странного удовлетворения: «Мальчишка, щенок, ты прекрасен. Я бы мог усыновить тебя и отправиться с тобой куда-нибудь в арктические льды или в пустыню. Подойди поближе. Да не бойся, черт тебя подери, я ничего тебе не сделаю, ничего. Да и что бы я мог тебе сделать? Я могу лишь находить в тебе редкие качества человека, но ведь это не страшно. Итак, Якоб, спрашиваю тебя совершенно серьезно: хочешь стать моим сыном и остаться со мной навсегда? Ты не понимаешь смысла вопроса, поэтому позволь объяснить тебе: здесь всему наступает конец, понимаешь теперь?» На что я глупо выкрикнул: «О, так я и думал, господин директор!» Он опять засмеялся и сказал: «Вот видишь, ты так и думал, что пансион Беньяменты доживает свои последние дни. Да, уже можно так сказать. Ты был последним учеником. После тебя я никого не принял. Взгляни на меня. Видишь, я рад, что успел еще познакомиться с тобой, юным Иаковом, таким правильно скроенным человеком. Успел, прежде чем закрыть свой пансион навсегда. И вот я спрашиваю тебя, хитрец, опутавший веселыми цепями мне душу, хочешь ли ты отправиться со мной вместе по дорогам жизни, хочешь попробовать предпринять что-нибудь со мной вместе, как сын с отцом? Отвечай только сразу». Я возразил: «Насколько я понимаю, господин директор, с ответом на такой вопрос можно и подождать. Но то, что вы сказали, заинтересовало меня, и я подумаю до завтра. И скорее всего, как мне кажется, соглашусь». – «Ты великолепен», – не сдержался тут господин директор. А потом, после некоторой паузы сказал: «С таким, как ты, можно выступить навстречу опасностям, навстречу бурным, неизведанным приключениям жизни. И в то же время с тобой можно прожить спокойно, уютно и трезво. В тебе словно бы кровь обоих сортов – нежная и неустрашимая. В тебе можно почерпнуть и мужество, и деликатность». – «Не льстите мне, господин директор, – сказал я, – это неприятно и подозрительно. И потом – стоп! Где обещанная история вашей жизни, или вы забыли о своем обещании?» В это мгновение кто-то распахнул дверь. Краус, а это был он, ворвался в комнату, бледный, запыхавшийся, не в состоянии произнести то, что, очевидно, дрожало у него на губах. Он только судорожным жестом позвал нас за собой. Мы втроем вошли в полутемный класс. То, что мы там увидели, потрясло нас.
На полу лежала бездыханная фройляйн. Господин директор взял ее руку, но тут же выронил ее как ужаленный и отпрянул в ужасе. Потом он опять приблизился к мертвой, посмотрел на нее, отошел в сторону и снова вернулся к ней. Краус опустился на колени у ее ног. Я двумя руками держал голову учительницы, чтобы она не касалась пола. Ее глаза были еще раскрыты, не слишком широко, но все же так, что блестели. Господин Беньямента закрыл их. Он тоже опустился на колени. Мы, трое, молчали, но не были «погружены в свои мысли». Я, во всяком случае, не мог ни о чем думать. Но был совершенно спокоен. Я даже чувствовал – экая суетность, – что хорошо выгляжу. Откуда-то издалека доносилась тоненькая мелодия. Все медленно кружилось или покачивалось у меня перед глазами. «Возьмите ее, – тихо сказал господин директор, – поднимите. Отнесите в комнату. Осторожно, осторожно, о, пожалуйста, осторожно. Тише, Краус. Ради бога, не так резко. Якоб, будь внимателен, ладно? Не ударьте ее обо что-нибудь. Я помогу вам. Так, теперь медленно пошли вперед. Один кто-нибудь пусть протянет руку и откроет дверь. Так, хорошо. Только поосторожнее». Он произносил, по-моему, совершенно лишние слова. Мы отнесли фройляйн Лизу Беньямента на кровать, с которой директор поспешно сдернул покрывало. Она лежала перед нами так, как предсказывала мне. Потом пришли остальные ученики, и все мы сгрудились у кровати. Господин директор подал нам знак, и все мы, воспитанники, приглушенными голосами запели. То была та самая жалобная песнь, которую она хотела услышать на одре. И теперь, как мне казалось, она ее слышала. И еще мне казалось, будто у всех, как и у меня, такое чувство, что мы на уроке и поем по распоряжению учительницы, которой мы всегда так охотно подчинялись. После того как отзвучала песня, из полукруга, который мы образовали, вышел Краус и медленно и внушительно произнес следующее: «Спи, вкушай спокойное, сладкое отдохновение, милая фройляйн. (К ней, мертвой, он обращался на ты. Мне это понравилось.) Ты избегла трудностей, освободилась от страха, от земных забот и печалей. Мы пропели тебе песнь, как ты хотела. Осиротели ли мы, твои воспитанники? Так нам кажется, так и есть. Но тебя, так рано усопшую, наша память сохранит навсегда. Ты будешь жить в наших сердцах. Мы, твои юнцы, выкованные и руководимые тобою, скоро разлетимся в поисках выгод и крова и, может статься, даже не увидим больше друг друга. Но мы всегда будем помнить тебя, воспитательница, ибо посеянные тобой в нашей душе мысли, знания, чувства будут вновь и вновь возвращать нас к тебе, созидательница того доброго, что в нас есть. И это будет происходить совершенно непроизвольно. Будем ли мы есть, при взгляде на вилку мы будем вспоминать о том, как ты учила нас держать ее, как ты учила нас вести себя за столом, и сознание того, что мы все делаем так, как ты учила, будет возвращать нас к тебе. Ты будешь царить, властвовать, жить, думать, петь и звучать в нас дальше. Может быть, кто-нибудь из нас, воспитанников, добьется большего в жизни, чем остальные, и при встрече не захочет узнавать бывшего соученика, все возможно. Но он неминуемо вспомнит тогда о пансионе Беньяменты и о тебе и устыдится того, что так быстро и надменно забыл твои заповеди. И он протянет тогда руку своему товарищу, брату, сочеловеку. Чему учила ты нас, почившая ныне в бозе? Ты всегда говорила нам, чтобы мы были скромны и послушны. Этого мы никогда не забудем, как никогда не сотрется в нашей памяти облик той, которая нас этому учила. Спи спокойно, глубоко почитаемая нами. Пусть дано тебе будет видеть сны! Пусть нашепчет тебе время сладкие сновидения. Да преклонит верность, счастливая от близости к тебе, свои колена пред тобой, да сплетут тебе венок из слов любви благодарная привязанность и неувядающая нежная память. Мы, воспитанники, споем тебе еще раз и уверимся в том, что твой одр стал для нас радостным, избавительным алтарем. Ведь ты учила нас так молиться. Ты говорила: песня – это молитва. И ты услышишь нас, и мы станем думать, что ты улыбаешься нам. Наши сердца разрывает на части вид твоей неподвижности, неподвижности той, чьи движения были для нас как окропление взбадривающей живой водой. Да, нам больно. Но мы справимся с этой болью, и ты, нет сомнения, хочешь этого. Итак, мы бодры. И поем в знак послушания тебе». Краус вернулся в наш строй, и мы снова запели, так же приглушенно и тихо, как до этого. Потом мы, один за другим, подошли к кровати и поцеловали руку мертвой фройляйн. И каждый из нас что-то произнес. Ганс сказал: «Я расскажу обо всем Жилинскому. И Генрих тоже должен знать это». Шахт произнес: «Прощай, ты была такой доброй». Петер: «Я буду следовать твоим заветам». Потом мы вернулись в класс, оставив брата наедине с сестрой, директора с директрисой, живого с мертвой, одинокого с одинокой, согбенного горем с отрешившейся от всех бед, господина Беньяменту с фройляйн Беньямента.
Я должен был проститься с Краусом. Он ушел от нас. Погас свет, закатилось солнце. Чувство такое, будто с этих пор в мире может быть только вечер. Прежде чем закатиться, солнце, подобно Краусу, бросает на мир прощальные багровые лучи. Под конец он еще раз наскоро выругал меня, показав себя напоследок во всей красе торжествующей справедливости. «Адьё, Якоб, работай над собой, совершенствуйся», – сказал он мне, почти сердясь на то, что ему приходится давать мне руку. «Я ухожу, ухожу служить. Надеюсь, и ты скоро последуешь за мной. Во всяком случае, тебе бы это не повредило. Желаю тебе настоящих ударов судьбы, чтобы ты мог поумнеть. Тебе, конечно, нужна изрядная трепка. Не смейся хотя бы на прощание. Правда, тебе все сходит с рук. И кто знает, может, обстоятельства сложатся так по-дурацки, что жизнь вознесет тебя. Тогда ты сможешь по-прежнему предаваться бесстыдным насмешкам, и упрямству, и надменности, и праздности, и всем тем порокам, которые составляют твою суть. Сможешь выпячивать грудь, кичась всем тем, от чего не захотел избавиться здесь, в пансионе Беньяменты. Но я надеюсь, что заботы и беды возьмут тебя в свою суровую, стачивающую пороки школу. Краус, как видишь, говорит малоприятные вещи, но он, может быть, больше желает тебе добра, чем те, кто будут льстить твоему самолюбию счастливчика. Работай побольше, а желай поменьше. И еще одно: пожалуйста, забудь меня, забудь совсем. Мне было бы очень не по себе, если б я знал, что всякого рода междупрочимные мысли посещают тебя и на мой счет. Так что, мой милый, заруби себе на носу: Краус – плохой объект для шуточек такого вот фон Гунтена». – «Милый ледяной человек! – вскричал я, обуянный страхом утраты. И хотел обнять его. Но он воспрепятствовал этому самым простым в мире способом: взял и ушел. Навсегда. «Сегодня это был еще пансион Беньяменты, завтра, без него, пансиона не будет», – сказал я себе. И пошел к господину директору. Чувство было такое, будто мир дал широкую трещину – полыхающую пламенем, грохочущую грохотом. С Краусом ушла половина жизни. «Отныне начинается новая жизнь!» – пробормотал я. Все было, в сущности, очень просто: я был расстроен и немного озадачен. Зачем же нырять в эти красивые слова? Перед директором я склонился глубже обычного и нашел нужным сказать: «Добрый день, господин директор». – «Спятил, что ли, старина?» – крикнул он. Он подошел ко мне и хотел меня обнять, но я резко оттолкнул его руку. «Краус ушел», – сказал я очень серьезно. Мы молчали, созерцая друг друга.
Потом господин Беньямента сказал спокойным деловым тоном мужчины: «Сегодня я раздобыл места и для других твоих товарищей. Остаемся мы трое – ты, я и она, лежащая на кровати. Мертвую (отчего бы не говорить спокойно о мертвых? Они ведь тоже живут. Не так ли?) увезут завтра. Думать об этом отвратительно, но не думать нельзя. Сегодня мы еще вместе, все трое. И будем бодрствовать всю ночь. Будем говорить с тобой у ее одра. Стоит мне вспомнить, как ты пришел сюда не то просить, не то требовать, чтобы тебя приняли в нашу школу, меня так и подмывает расхохотаться от переизбытка радости жизни. Мне за сорок. Старость ли это? Была старость – до тех пор, пока мне не попался ты, юный. С тобой и сорок – возраст крепкого, зеленого бутона. С тобой, сыном, начинается новая, свежая жизнь – вообще начинается жизнь. Видишь ли, здесь, в канцелярии, я уже дошел до отчаяния, засох, как мумия, похоронил себя. Я ненавидел, ненавидел, ненавидел жизнь. Ненавидел и старательно избегал всего, что напоминало о движении, о жизни. И тут появился ты, бодрый, глупый, невежливый, дерзкий, полный сил и здоровья и нерастраченной чистоты ощущений, и я, конечно, не скупился на затрещины, хотя с самого начала я знал, что ты не парень, а диво, посланное мне небесами, дарованное мне всемогущим. Да, именно ты был мне нужен, и я всегда втайне смеялся, когда ты являлся сюда со всеми своими дерзостями и грубостями, которые доставляли мне истинное наслаждение, как хорошее полотно ценителю искусств. А разве ты не заметил сразу, что мы друзья? Но молчи. Суровостью я хотел сберечь свое достоинство перед тобой, хотя на самом деле нужно было разорвать его в клочья. А как ты поклонился сегодня мне – ведь одно это может взбесить. Но скажи-ка, что было на днях, когда меня охватил приступ ярости? Я хотел ударить тебя? Или покушался на собственную жизнь? Ты не знаешь, Якоб? А? Тогда, пожалуйста, скажи мне. Живей, ты понял? Что это было? Как? Ну, что ты молчишь?» – «Я не знаю, господин директор. Я подумал, что вы сошли с ума», – ответил я. Мне было не по себе от его оживления и его бурных признаний. Некоторое время мы помолчали. Вдруг я вспомнил о том, что надо бы попросить господина Беньяменту рассказать наконец историю своей жизни. Мысль хорошая. Это может развеять его, отвлечь, может статься, от новых буйных порывов. В этот момент я был убежден, что нахожусь в лапах безумца, и поэтому выпалил скороговоркой: «Да, господин директор, а как же ваша история? Я, знаете ли, не люблю недомолвок. Вы намекнули мне, что вы – лишенный трона властелин. Ну так расскажите пояснее, в чем тут дело. Меня это страшно интересует». Он смущенно почесал у себя за ухом. Потом вдруг разозлился, как-то мелочно разозлился и заорал на меня фельдфебельским тоном: «Уйди! Оставь меня одного!» Я не заставил его повторять это дважды, а исчез в тот же миг. Стыдится ли он чего-нибудь, злится ли на что-нибудь, этот король Беньямента, этот лев в клетке? Я, во всяком случае, опять был рад, что очутился в коридоре и мог прислушаться к мертвой тишине, царившей в комнате. Я поплелся к себе, зажег свечу и стал разглядывать фотографию мамы, которую всегда бережно хранил. Через некоторое время раздался стук в дверь. Это был господин директор, одетый во все черное. «Пойдем», – приказал он с железной строгостью. Мы отправились к усопшей, чтобы побыть с ней. Коротким движением господин Беньямента указал мне мое место. Мы сели. Слава богу, я хоть не чувствовал усталости. Это было очень приятно. Лицо мертвой оставалось красивым, стало даже как бы более одухотворенным и с каждым мигом становилось все прекраснее, трогательнее и милее. В воздухе как будто парило и тихо звучало слегка улыбающееся всепрощение. Такой был звук. И во всем светлая, ясная серьезность. Ничего жуткого, совсем ничего. На душе стало хорошо, ибо приятен был уже и тот покой, какой возникает от чувства исполненного долга.
«Когда-нибудь позже, Якоб, – заговорил директор, когда мы сели, – я расскажу тебе все. Мы ведь не будем теперь разлучаться. Я совершенно, совершенно уверен в твоем согласии. Завтра, когда я спрошу тебя о решении, ты не сможешь сказать «нет», я знаю. На сегодня достаточно сказать, что я вовсе не какой-нибудь разжалованный король, я это имел в виду фигурально. Хотя были времена, когда Беньямента, который сидит теперь рядом с тобой, чувствовал себя королем, завоевателем, господином, когда жизнь давалась мне, когда все мои чувства и помыслы были устремлены к будущему, когда ноги плавно несли меня по лугам, расстилавшимся подо мной нежными коврами, когда я имел то, на что падал мой взгляд, наслаждался тем, о чем вспоминал хотя бы мимолетно, когда все жаждало дать мне удовлетворение, насытить меня достижениями и успехами, когда я был королем, даже не подозревая об этом, великим королем, не нуждавшимся в том, чтобы отдавать себе в этом отчет. Только в этом смысле, Якоб, был я наверху положения, то есть был молодым, у которого все впереди, и только в этом смысле лишился я трона. Я пал. И отчаялся в себе и во всем. Когда предаешься отчаянию и печали, милый Якоб, становишься маленьким, мелким, и всякая мелочь жизни набрасывается на тебя, подобно прожорливым, прытким насекомым, которые медленно поедают нас, душат, лишают человеческого лица. Так что король – это только фраза. Прошу у тебя, маленький слушатель, прощения, если заставил тебя вообразить скипетр и пурпурную мантию. Но, я думаю, ты и сам догадывался, как на самом деле обстоит дело с моим королевством, о котором можно только вздыхать. Не правда ли, я стал немного доступнее и домашнее? Теперь, когда я не король для тебя? Потому что, согласись, если бывшие короли становятся учителями и основывают пансионы, то они становятся достаточно зловещими директорами. Нет, нет, я всего-навсего радовался будущему и гордился им – вот и все мои королевские угодья и доходы. Потом я в течение долгих, долгих лет влачил жалкое, приниженное существование. А теперь я снова стал, то есть становлюсь самим собой, и на душе у меня так, будто я унаследовал миллион, ах, что там миллион, – будто я стал властелином, венчан на царство. Правда, бывают у меня черные, совершенно беспроглядные часы, когда душа моя бродит впотьмах и ничего в ней нет, кроме ненависти, кроме пепла и угля. В такие часы меня подмывает кромсать все вокруг, убивать. Друг мой, останешься ли ты со мной и после того, как все это знаешь? Можешь ли ты – из симпатии ко мне или из другого какого-нибудь чувства – противостоять опасности, которая ждет тебя, если ты решишься на союз с таким зверем, как я? Достанет ли в тебе гордого упрямства? Упрям ли ты? И ты не станешь считать обиды? Обиды? Какое там, это глупости! Я ведь знаю, что мы останемся вместе. Это решено. Зачем же спрашивать? Видишь, я еще помню моего прежнего воспитанника. Но ты мне не воспитанник больше, Якоб, а сын. Я не хочу больше учить, наставлять, я хочу жить, то есть созидать, творить, нести на своих плечах. О, с таким товарищем легко переносить любые страдания! У меня есть все, чего я желал, и поэтому я чувствую себя всемогущим и готов с радостью терпеть все. Не будем больше ни думать, ни говорить об этом. Пожалуйста, помолчи. Ты скажешь мне твое мнение завтра, после того как унесут ту, чей последний покой мы здесь стережем, после того как закончится внешний обряд, уступая внутреннему преображению. Ты скажешь да или нет. Знай, что ты абсолютно свободен. Можешь говорить и делать, что хочешь». Я ответил на это тихим голосом, сгорая от нетерпения попугать этого самоуверенного человека: «А как же будет с кормушкой, господин директор? Другим ведь вы добыли пропитание, а мне нет? Это, по-моему, странно. И несправедливо. Я настаиваю на этом. Это ваш долг – найти мне приличное место. Я непременно хочу служить, работать». Как он вздрогнул! Как испугался! Я в душе захихикал. Плутовать веселее всего в жизни. Господин Беньямента печально сказал: «Ты прав. На основании твоего аттестата об окончании тебе положено место. Конечно, ты совершенно прав. Я только думал, думал… что ты сделаешь исключение». Тут я весь закипел: «Исключение? Никаких исключений. Никогда! Это не подобает сыну советника. Скромность моя, наследница происхождения, запрещает мне желать большего, чем получили мои товарищи». Больше я не сказал ни слова. Мне было приятно повергнуть господина Беньяменту в заметное, лестное для меня беспокойство. Остаток ночи мы провели в молчании.








