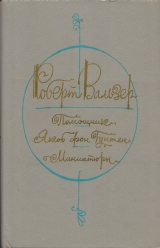
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
Скоро и озеро и горы укрылись толстым, плотным снежным ковром. Горячие головы уже слышали, как звенят бубенцы быстрых санок, хотя самих санок еще и в помине не было. Рождественские столы уже поджидали гостей, ибо весь край походил на застланный белой чистой скатертью рождественский стол. А каким покоем, какой мягкостью и теплом дышала природа! Звуки слышались приглушенно, точно все – молотки слесарей, балки у плотников, лопасти фабричных колес, пронзительные свистки паровозов – было обернуто ватой или толстой шерстяной тканью. Взгляд различал только близкие предметы, шагов на десять вперед; даль была скрыта непроницаемой снежной завесой, ее словно без устали замазывали серо-белой краской. Люди тоже шагали мимо белые, и на пять человек один непременно отряхивал с себя снег. Повсюду царил мир, и невольно чудилось, будто на весь свет низошло умиротворение, лад и покой.
И вот через этакое снежное волшебство Тоблер отправился поездом в город, чтобы один на один побеседовать с г-ном адвокатом Бинчем. Ехал он, кстати говоря, не в одиночку – рядом сидела жена, она собиралась закупить в столичных универсальных магазинах кое-какие подарки к наступающим праздникам.
Вечером – новая встреча на станции, только на этот раз кругом лежали сугробы и оттого настроение было чуть повеселей. Смех Паулины и радостный лай Лeo оставляли в снегу темноватые пятна, хотя обыкновенно и смеху и лаю присуща светлая окраска, – но что сравнится яркостью и блеском со сверкающей снежной белизною? Йозеф и Паулина вновь нагрузились пакетами, а из вагона вышла дама в мехах, с виду настоящая добрая рождественская фея, и тем не менее это была всего лишь г-жа Тоблер, жена дельца, притом разорившегося. Но она улыбалась, а улыбка способна превратить самую бедную и беспомощную женщину чуть ли не в принцессу, так как улыбка всегда приводит на ум что-то высокочтимое и добропорядочное.
Снег удержался до знаменательного дня, так и лежал, чистый и плотный, ведь ночи были холодные, и белое покрывало стало хрустким от мороза. Рождественским вечером Йозеф опять поднялся на знакомую гору. Тропы светло-желтым и змейками вились по искристым белым полянам, ветви тысяч деревьев сверкали от инея – слишком уж прекрасное зрелище! Крестьянские дома среди этой пышной, изысканной белой роскоши походили на игрушки, созданные для услады детских глаз и для невинного ребяческого разумения. Вся округа словно поджидала благороднейшую из принцесс – так изящно она нарядилась. Будто девушка, робкая, слегка обидчивая, бесконечно хрупкая и нежная. Йозеф взобрался еще выше, и тут вдруг, редея, поднялась скрывавшая землю серая пелена, проколотая ярчайшей лазурью, и выглянуло солнце, теплое, как летом, – сказка да и только! Со всех сторон высились ели, гордые, мощные, отягощенные снегом, который подтаивал на солнце и падал с толстых лап.
Подкрадывалась ночь, и Йозеф вместе с нею спустился домой. В угловом салоне, куда почти никогда не заглядывали, сияла огнями рождественская елка. Г-жа Тоблер подвела к ней детей и показала им подарки. Получила свой подарок и Паулина, а Йозефу вручили ящичек сигар со словами, что, мол, подарок скромный, зато от чистого сердца. Тоблер старался, чтоб каждый чувствовал себя просто и уютно. Он курил привычную трубку и, прищурясь, глядел на сиявшую огнями елку. Г-жа Тоблер улыбалась и даже сказала несколько слов, весьма кстати, – например, как прелестна такая вот елочка. Правда, говорила она словно бы через силу. Праздник вообще не очень ладился, и особенно радостного благоговения в этой компании не чувствовалось, наоборот, все подернула дымка печали. Вдобавок в салоне было холодно, а рождественское веселье и холод несовместимы. Поэтому то один, то другой уходил в гостиную погреться, а потом вновь возвращался к елке. Любая рождественская елка по-своему хороша, и любая непременно трогает душу. Тоблеровская елка тоже была хороша, да только у людей, обступивших ее, не хватало сил, не могли они растрогаться надолго и глубоко, не могли взлететь на крыльях радости.
– Жаль, вы не видели – вот в прошлом году было рождество так рождество! – Ну-ка, выпейте вина, – сказал Тоблер помощнику, подталкивая его в теплую гостиную. Тот скорчил недовольную гримасу, будто расстроен из-за сигар, хотя сам толком не понимал, в чем дело.
– В нынешнем году, – со вздохом заметила хозяйка, – настроение совсем не праздничное.
Она робко предложила сыграть в карты: раз уж целый год играли, то и в рождественский вечер не грех, может, повеселей станет. Все охотно ухватились за эту мысль.
Свечи между тем догорели, елка потускнела. Детям еще полчасика разрешили поиграть с подарками, а затем отправили их спать. Атмосфера в рождественской гостиной мало-помалу стала совершенно трактирной. Трое одиноких людей, сидя за картами, потягивали вино, курили сигары, грызли конфеты, но смех и поведение их растеряли всю восторженность и своеобразие, которые хоть как-то напоминали о празднике. И вели они себя весьма заурядно, и смеялись ничуть не по-праздничному. В настроении, охватившем игроков, не чувствовалось даже будничного уюта, ведь… как-никак было рождество, и возвышенно-прекрасная идея его, пожалуй, нет-нет да и вспыхивала здесь, в гостиной, предостерегая на лету от того, что этак обесценивать и портить праздник – значит совершить большой грех.
Да, эти трое людей были одиноки, и самым одиноким был помощник, – он понимал, что прибился к дому, который медленно погибал, и не мог сказать, как г-н Тоблер, что в этом доме он вправе наводить свои порядки и вообще делать что в голову взбредет, ведь дом этот не был его собственным, и еще ему так хотелось по-настоящему встретить и отпраздновать рождество, раз уж он очутился в таком вот доме и в такой вот бюргерской семье, а в последние годы он привык думать, что, будучи лишен всего этого, очень много теряет, да и настроение у него было гораздо хуже, чем у остальных картежников, и он поневоле видел в этом огромную несправедливость.
«И это называется сочельник?» – думал он.
Хозяйка вдруг сказала, что все-таки не очень хорошо играть на рождество в карты. У них дома такого никогда не водилось. И вообще, это не дело – превращать нынешний вечер в кабацкую пирушку.
От этих слов г-н Тоблер насупился.
– Ну так кончим игру, и баста! – Он бросил карты на стол и воскликнул: – Верно, нехорошо заниматься этим в сочельник! Но что у нас тут за компания? Кто мы такие? Уже завтра ветер может вымести нас из дома. Конечно, где есть деньги, там есть и охота отмечать праздники, тем более рождество. Для этого нужно благополучие, счастье, успех и вообще, домашняя радость. А тот, кто три с лишним месяца надрывался сверх сил своих ради удачи жизненно важных начинаний и все без толку, – откуда же ему взять праздничное веселье? Мыслимое ли это дело? Прав я, Марти, или нет, а?
– Не совсем, господин Тоблер, – сказал помощник.
Наступило продолжительное молчание, и чем дольше оно длилось, тем труднее было осмелиться нарушить его. Тоблер хотел сказать что-то о часах-рекламе, хозяйка – о Доре, Йозеф – о рождестве, но ни один не проронил ни слова. Им будто зашнуровали рот. Как вдруг Тоблер выкрикнул:
– Да откройте же рот и скажите хоть что-нибудь! Тоска ведь! Лучше уж в трактир пойти.
– Я пошел спать, – сказал Йозеф и попрощался.
Остальные тоже скоро поднялись наверх, тем сочельник и закончился.
Новогодняя неделя прошла тихо и до странности задушевно; дела стояли на месте, работы почти не было, только приняли несколько раз в конторе одного чудака, изобретшего какой-то мотор. Сей чудак – не то крестьянин, не то столичная штучка – заходил к Тоблеру чуть не каждый день, уговаривая инженера поддержать гениальное изобретение, эскизы которого он оставил в бюро. Все подсмеивались над этим человеком, к чьим проектам невозможно было отнестись всерьез, но однажды за обедом Тоблер сказал:
– Зря смеетесь! Он вовсе не дурак.
Увлеченность, с какой изобретатель мотора отстаивал и превозносил до небес свое детище, стала у Тоблеров притчей во языцех и неплохо развлекла их в эти тихие, лениво текущие дни.
Никакого систематического, законченного образования чудак не имел; с одной стороны, он рассуждал как юный фантазер от сохи, с другой же – его можно было счесть мошенником или ярмарочным балаганщиком, так как однажды он предложил г-ну Тоблеру возить свою машину по городам и селам и за деньги выставлять ее на всеобщее обозрение в тех местах, где обыкновенно скапливается народ. Ох и посмеялись же все над этой дикой затеей!
Итак, Тоблер снова должен был поддерживать как будто бы вполне одаренного человека, помогая ему стать на ноги, спасая талант от духовного прозябания и гибели в слесарной мастерской, – но сам-то он, Тоблер, с ним-то как обстояло и где были отзывчивые люди, готовые помочь ему?
– Все идут к нему, – говорила г-жа Тоблер, – все о нем вспоминают, когда ищут охотника помочь, все норовят поиметь выгоду от него и его общительной натуры, а он всем помогает. Таков уж он есть.
В эти дни помощник совершал близкие и дальние прогулки в холодные, однако ж прекрасные зимние края. Были в этих прогулках дорожные колеи, о которые бились ноги, и застывшие в камень луга на горном склоне, и окоченевшие красные руки, которые отогревались дыханием. Навстречу ему попадались укутанные в теплые пальто люди, и ночь заставала его в незнакомых местах. Или, к примеру, был там каток на пруду в бывшем помещичьем парке – люди всех возрастов и обоего пола, звон коньков и стук падений, звуки и шорохи, типичные и обыденные для таких катков. Потом он вдруг вновь стоял перед тоблеровской виллой, глядел на нее снизу вверх и видел, как холодная луна завораживала дом, а полутемные ночные облака лежали вокруг словно гигантские скорбные, но милые женщины, как бы желая унести его в поднебесье, чтоб он чудесным образом растаял, растворился в вышине.
Дома же его встречала диковинная тишина; Сильви и той не было слышно. Добродетели и изъяны тоблеровского дома как бы примирились друг с другом и безмолвно побратались. В гостиной, например, сидела в качалке хозяйка, рукодельничала или читала, а то держала на коленях Дору и ничего не делала.
– Помните, Марти, летом вы качали меня на качелях?! – сказала она как-то раз. Ей просто до невозможности тоскливо без сада. Господи, кажется, все было так – давно! Йозеф здесь уже полгода, а ей чудится, словно он тут гораздо дольше. Как же подобные моменты западают в душу!
Она посмотрела на лампу. Взглядом, который как бы вздыхал.
– Вам, Марти, вообще-то живется неплохо, куда лучше, чем моему мужу и мне, впрочем, обо мне даже говорить не стоит. Вы можете уехать отсюда. Просто соберете свои пожитки, сядете в поезд и поедете куда захотите. Вы повсюду найдете работу, вы ведь молоды, и, глядя на вас, сразу веришь, что вы человек прилежный, да так оно и есть. Вам не надо считаться ни с кем на свете, ни с чьей своеобычностью, ни с чьими потребностями, никто не сманит вас отправиться куда глаза глядят, в неизвестность. Возможно, зачастую это горько, но, с другой стороны, какая красота, какая свобода! Если вам вздумается и если позволяют мелкие, не слишком стесняющие обстоятельства, то вы шагаете вперед, а в случае чего где-нибудь отдохнете – кто и что захочет и сможет вам помешать? Вероятно, порою вы несчастливы, но ведь и все так, порой вас охватывает отчаяние, – но чью душу тяготы обходят стороной?! Вы ни к чему не привязаны, ничто вас не сковывает, ничем вы особенно не дорожите. От сознания такой свободы вам, наверно, иной раз до смерти охота побегать и попрыгать – что ж, ваше право. И здоровьем вас бог не обидел, и сердце у вас золотое, я наверное знаю, хотя вы частенько робели. Может быть, у меня неблагодарная натура. Все это время я имела возможность по-доброму, долго и спокойно разговаривать с вами, и, пожалуй, большая удача, что в наш дом попали именно вы… а я так часто обращалась с вами дурно…
– Госпожа Тоблер! – умоляюще воскликнул Йозеф.
Она остановила его и продолжала:
– Не перебивайте меня! С вашего разрешения, я воспользуюсь случаем и дам вам совет: когда вы уедете от нас…
– Но я же вовсе не уезжаю!
– …уедете от нас и надумаете стать самостоятельным, начинайте по-другому, не как мой муж, а совсем, совсем по-другому. Главное – будьте хитрее.
– Я не умею хитрить, – сказал помощник.
– Выходит, так и будете всю жизнь работать на чужих?
– Не знаю. Будущее не очень-то меня волнует.
– Как бы то ни было, здесь вы могли кое-что увидеть и кое-что взять на заметку. Да и научились кой-чему, если не посчитали за труд смотреть в оба, а насколько я вас знаю, именно так оно и есть. У вас теперь больше опыта, знаний и чувства долга, и когда-нибудь вы непременно сумеете этим воспользоваться. Что греха таить, бывало, и рот вам затыкали, и хамили, правда? В общем, доставалось вам ой-ой как! Но это было необходимо! Стоит мне подумать… ах, Йозеф, у меня попросту предчувствие, что скоро, очень скоро вы нас покинете. Нет-нет, не надо ничего говорить. Молчите. Ведь несколько дней у нас еще осталось, верно? Как вы считаете?
– Да, – выдавил он из себя. На большее он был сейчас не способен.
На следующий день Йозеф отослал полученный в подарок на рождество ящичек сигар своему отцу, присовокупив к посылке такое письмо:
Дорогой отец!
Прими от меня маленький новогодний подарок. Сигары я получил на рождество от моего нынешнего хозяина. Они наверняка придутся тебе по вкусу, это хорошие сигары, я, как видишь, выкурил парочку для пробы, ведь двух сигар здесь недостает. В голове у меня нынче полный ералаш, вот я и надумал сравнить эти две недостающие сигары с двумя изъянами, которые присущи моему характеру, а потому как-то особенно четко осознал, что, во-первых, совсем тебе не пишу, а во-вторых, настолько беден, что не имею возможности посылать тебе деньги. Над такими изъянами впору слезы проливать, но для меня и это непомерная роскошь. Как твои дела? Я убежден, что сын из меня хуже некуда, но столь же неколебимо я уверен и в другом: если б имело смысл писать безрадостные письма, я был бы хорошим сыном. Мне всегда казалось, что с жизнью надо сражаться в честном бою, а эта жизнь ни разу не давала мне случая потрафить тебе. Прощай, дорогой папа! Не хворай, не теряй аппетита. Счастливо начни новый год. Я попробую сделать то же самое.
Твой сын Йозеф.
«Он уже в преклонном возрасте, – подумал помощник, – а до сих пор трудится».
В результате личных переговоров между Тоблером и Бинчем мамаше Тоблер было направлено энергичное письмо; но в ответ решительная старая дама сообщила, что доля наследства, на которую претендует ее сын, практически полностью исчерпана; больше того, она сама – в ее-то годы! – вынуждена ломать голову над тем, как бы на старости лет свести концы с концами, а потому о дальнейших выплатах Карлу Тоблеру вообще не может быть и речи. Этому человеку – так и хочется сказать: к сожалению, ее сыну – придется пожинать закономерные плоды собственной неосторожности и опрометчивости. В тех предприятиях, на какие он выбросил свое состояние, она не усматривает ни малейшей выгоды и рентабельности. Пусть любезный сынок продаст свою виллу, пора ему вновь привыкать к скромной жизни, которая заставит его честно трудиться, как трудятся другие люди. Для него же лучше, если он побарахтается в той каше, которую сам заварил, – глядишь, и извлечет урок из неурядиц, в каких очутился по собственной вине. А на нее, на мать, рассчитывать больше нечего.
Прочитав полученную от адвоката копию материнского письма, Тоблер пришел в неописуемую ярость. Он бесновался как дикий зверь, выкрикивал по адресу матери несусветные проклятия, причем так, будто она была тут же рядом, и в конце концов опять рухнул без сил, сломленный и разбитый.
Случилось это в последний день старого года, в техническом бюро, где уже неоднократно происходили до неприличия разнузданные сцены. И Йозеф волей-неволей опять наблюдал всю эту унизительную беспомощность. Он бы с превеликим удовольствием сию же минуту удрал, и навсегда, но подумал, что «спешить пока незачем», и остался. Жалея Тоблера, он презирал его и одновременно боялся. Премерзкие ощущения, все три, и каждое столь же естественно, сколь и несправедливо. Но что, что именно побуждало его оставаться на службе у этого человека? Невыплаченное жалованье? Да, конечно. Только и кое-что еще, много более важное: он всем сердцем любил инженера. Чистота и искренность этого одного чувства позволяли забыть грязные пятна трех других. Как раз по милости этого одного чувства те, другие, и существовали почти с самого начала, день ото дня набирая яркости. Ведь с тем, что любишь, к чему питаешь привязанность и испытываешь влечение, – с тем больше всего и мучаешься, затеваешь ссоры, многое в нем тебе не по нраву, ибо слишком уж велика твоя тяга к нему.
Этот последний день уходящего года выдался на диво мягким. Зимняя природа как бы таяла, исходя тихими счастливыми слезами, – снег и лед бойкими теплыми ручьями бежали в озеро по откосам и холмам. Все шумело и курилось паром, будто в череду зимних дней ненароком замешался весенний денек. Столько солнца! Прямо как в мае! Двойственные чувства – и приятные, и больно ранящие – нынче особенно сильно разбушевались в груди помощника, а чудесная погода взбудоражила их еще больше, наполняя душу Йозефа успокоением и тревогой, так что по пути на почту ему казалось, словно он в последний раз шагает этой красивой дорогой, под этими славными, знакомыми деревьями, мимо всех этих живых и неживых предметов, которые одинаково радовали глаз зимою и летом.
Йозеф зашел к «Бахману и К°» спросить о Вирзихе – он не видел его уже дней десять и хотел предложить ему вместе встретить Новый год.
Вирзих? Его здесь давно уже нет. Было просто немыслимо держать на службе этого субъекта. Он же день– деньской ходил пьяный.
Йозеф извинился и вышел из лавки. «Возможно ли?» – думал он, медленно шагая к почте. В ящике лежала новогодняя открытка от его бывшей квартирной хозяйки г-жи Вайс: добрая женщина желала ему счастья и успехов. Он улыбнулся, запер ящик и отправился домой, на сей раз по проезжему тракту. Проходя мимо трактира «Роза», он бросил взгляд в окно и заметил Вирзиха, тот сидел за столом, с видом полнейшего отчаяния уронив голову на руку. Лицо у бедняги было бледное, как у мертвеца, одежда грязная, взгляд безжизненный.
Йозеф вошел в трактир и подсел к своему предшественнику. Говорили они мало. Беда не любит многословия. Помощник изрядно выпил, как бы для того чтобы душой и рассудком приблизиться к товарищу, ведь он чувствовал, что на трезвую голову здесь толку не добьешься. Время шло, и мало-помалу он выяснил, как получилось, что Вирзиха опять прогнали с хорошей должности.
– Ну, Вирзих, а теперь идемте, нам надо прогуляться, – сказал Йозеф немного погодя.
Они расплатились. Более крепкий и решительный взял неуверенного и безутешного под руку. День уже клонился к вечеру, и вот они двинулись в путь – сперва напрямик, а дальше вверх по склону горы, через приветливые лужайки. Какая мягкость вокруг! Если б с Йозефом была девочка, девушка или прекрасная дама, он бы с таким удовольствием поболтал с нею, перекинулся веселой шуткой! Глядишь, и поцеловался бы украдкой. К примеру, на лавочке в горной пещере. А как бы хорошо было поговорить, скажем, с братом либо с тем же Вирзихом, будь он солидный, многоопытный, добродушный, пожилой господин. И посмеялись бы, и побеседовали, серьезно, однако ж спокойно. Но стоило посмотреть на Вирзиха, и душа закипала злостью и гневом на земные обстоятельства и судьбы, ибо Вирзих являл собою отнюдь не приятное зрелище.
Йозеф вспомнил о Тоблерах, и у него слегка екнуло сердце. Как же это он без разрешения чуть ли не на полдня сбежал из дому, забросил дела! Он осыпал себя жестокими упреками.
И вместе с тем на душе у него было прямо-таки благостно. Вся природа вокруг словно бы молилась, ласково, восторженно, всеми своими неяркими, приглушенными красками. Зелень лугов смеялась из-под снега, а снег от солнца истаял и лежал белыми пятнышками и островками. Смеркалось, и теперь Йозефу даже в голову бы не пришло жалеть, что он отправился на прогулку именно с Вирзихом.
Наоборот! Он чувствовал, что поступил правильно. Этого горемыку нельзя было оставлять одного. И теперь облик пьяницы почему-то отлично вписывался в пейзаж и в вечерние сумерки. В домах уже вспыхивали огни, глаз уже не различал красок, только мягкие размытые очертания, а они с Вирзихом шагали домой, и странное дело – оба не сговариваясь повернули к дому Тоблера.
Самого Тоблера дома не оказалось. Хозяйка сидела в гостиной, без света, совсем одна; лампу она еще не зажигала, а Паулина и дети гуляли на улице. Г-жа Тоблер испугалась внезапного появления двух вечерних визитеров, но быстро взяла себя в руки, зажгла свет и спросила у Йозефа, почему он не приходил сегодня обедать. Тоблер очень на это рассердился, и она опасается новых неприятностей.
– Добрый вечер, Вирзих, – сказала она Йозефову спутнику, протягивая ему руку. – Как поживаете?
– Так… так себе! – пробормотал тот.
– Госпожа Тоблер, – перебил Йозеф, – вы не позволите моему товарищу переночевать сегодня у меня в башне? Как я понимаю, он толком не представляет себе, где ему ночевать – разве что внизу, в «Розе». Но я приложу все старания, чтобы не дать ему заночевать там. Вирзих только что вновь остался без места, по собственной вине, он сам знает. Жалованье свое он пропил. И если теперь утопится в озере, то совершит таким образом поступок, о котором люди обеспеченные не задумываясь пожмут плечами, но сам по себе ужасный и непоправимый. Он пьяница, и спасти его едва ли возможно, я говорю об этом здесь, вслух, чтобы вы, Вирзих, тоже слышали, ибо с такими натурами, как он, деликатничать нельзя, потому что твердости в них уже вовсе не осталось. Но сегодня погибать ему не обязательно, и что до меня, то я ничтоже сумняшеся ввожу его как лучшего моего друга и товарища в дом, где служу и обитаю. Теперь мы с ним ненадолго уйдем, потому что сегодня, под Новый год, глупо сидеть в четырех стенах и под сухую дохнуть от скуки. Наоборот, я намерен спокойно и благообразно до утра кутить с моим предшественником, ведь нынче так делают все, кто полагает, что им это по карману. Потом мы с Вирзихом вернемся сюда, и он здесь переночует, как бы господин Тоблер к этому ни отнесся – хорошо ли, плохо ли. Я хотел предупредить вас заранее, сударыня. Многое, что волновало меня все это время, теперь, когда я насмотрелся на беду моего товарища, не встречает отклика в моем сердце, я совершенно спокоен. У меня хватает духу глубоко, и беззаботно, и тепло посмотреть в глаза грядущей жизни. Я искренне доверяю своим малым силам, а это гораздо лучше, чем если б сил у меня было вагон, а способностей – полный амбар и я все ж таки не доверял им или о них не подозревал. Доброй ночи, госпожа Тоблер, спасибо вам, что вы были так добры выслушать меня!
Г-жа Тоблер пожелала обоим доброй ночи. В эту минуту с улицы вернулись дети.
– Вирзих! Вирзих пришел! – с неподдельной радостью, весело загалдели они.
Пришлось ему поздороваться с каждым за руку, и у всех, кто был при этом, возникло странное впечатление, будто Вирзих вновь становится членом семьи Тоблер, вернее, будто он, хоть и отсутствовал, но оставался неотъемлемой частицей этого дома, просто выходил в другую комнату, зачитался там непомерно сумасбродной книгой и отлучка его длилась только лишь час или два, – так преобразила и украсила его ребячья радость.
Тут и хозяйка, которая хотела было придать своему лицу суровое, холодное выражение, вновь оживилась и повеселела, а когда Йозеф с Вирзихом вышли в сад, сказала вдогонку обоим, чтобы они знали меру и не хватили через край со своими возлияниями. И переночевать здесь, в доме, Вирзих, конечно же, может, это само собой разумеется. Она замолвит мужу словечко, чтоб не было шума.
– Доброй ночи, госпожа Тоблер, до свидания, Дора, до свидания, Вальтер! – крикнул из темноты Йозеф.
Внизу в своем домишке напевал обходчик. Мягкий мужской голос был как-то очень под стать теплой, ласковой ночи. Песня звучала так ровно, так размеренно, что невольно думалось, будто она намерена звучать до конца старого года и влиться в новый.
Йозеф Марти и Вирзих медленно шагали по тракту в деревню.
Чем эти новогодние друзья-приятели занимались там ночью, какие злачные места посетили, сколько выпили, о чем толковали, – если все это подробно описывать, важное и существенное разом обернется пустяковым и незначительным. Говорили они о том, о чем обычно беседуют коллеги, и занимались тем, чем принято заниматься в новогоднюю ночь, – предавались неспешному, но тем более приятному и тем более сознательному пьянству. В одном из многочисленных бэренсвильских ресторанов они мельком видели Тоблера, который сидел там с друзьями и рассуждал, как ни странно, о религии. Йозеф слышал – насколько еще мог расслышать, – как его патрон выкрикнул, что-де воспитывает детей согласно заповедям религии, сам же он ни во что не верит: это проходит, когда становишься мужчиной. Обоих своих сотрудников, нынешнего и прежнего, инженер в пылу речи проигнорировал.
В полночь начали бить колокола, знаменуя своим гулом и звоном приход Нового года. У пристани выступал деревенский оркестр, то подыгрывая хорам мужского певческого общества, то исполняя инструментальные пьесы. Множество людей собралось вокруг, при свете факелов внимая ночному концерту. Йозеф заметил среди зрителей и слушателей страхового агента, который был в хороших отношениях с Тоблером, и оголтелого садовода, злейшего врага технических новшеств.
У трактирщиков и рестораторов дела в эту ночь шли великолепно, куда лучше обычного. Иной из тех, кто весь год хлестал пиво, заказывал нынче бутылочку доброго вина. Люди позволяли себе такое, чего в другое время совершенно не могли себе позволить, а от этого счета были роскошные, солидные, и оплачивались они наличными, притом без задержки.
Г-жа Тоблер в сопровождении Паулины тоже пришла послушать музыку, тихая и застенчивая, не в пример некоторым нахальным дамам, которые были на верху блаженства, оттого что их взгляды смущали инженершу. Сегодня она была одинока, малопочтенна, малопопулярна – но она терпела.
Утром следующего дня в башенной комнатке пробудились двое еще не выспавшихся людей. На дворе было уже светлым-светло, часов одиннадцать – полдвенадцатого, почти полдень. Марти и Вирзих поспешно оделись и спустились вниз. Г-на Тоблера они застали в конторе. Когда тот увидел опоздавшего помощника и незваного гостя, гнев его не ведал границ. Он едва не поколотил Йозефа.
– Мало того, – кричал он, – что вы вчера без спросу, молчком болтались где-то целый день и всю ночь, так у вас еще хватает наглости и сегодня полдня дрыхнуть и не появляться в конторе! Это просто неслыханно! Согласен, вполне возможно, что делать тут сегодня особенно нечего, но вдруг кто-нибудь зайдет по делу, и хорошенькое же у него будет впечатление, когда прислуга сообщит ему, что прохвост-помощник еще изволит почивать! Молчите! Скажите спасибо, что я не надавал вам по шее, как вы того заслуживаете. И у вас еще хватает нахальства появляться в обществе человека, который, если сию же минуту не уберется отсюда на веки вечные, как я требую, услышит кое-что другое, и куда более откровенное! Нет, вы только посмотрите – он и ухом не ведет! Такое спокойствие прилично, знаете ли, какому-нибудь висельнику, но уж никак не сотруднику моей фирмы, которому положено чувствовать себя виноватым. Фирма есть фирма, к тому же это моя фирма, и хоть она и находится в стесненных обстоятельствах, я никому не позволю выставлять меня дураком и мальчишкой, тем паче собственному служащему, которому я плачу жалованье, чтоб он мог существовать. Садитесь и приступайте к работе! Пишите! Попробуем в последний раз с часами-рекламой. Ну, берите ручку.
– Выплатите мне остаток обещанного жалованья! – произнес помощник с совершенно оскорбительной невозмутимостью.
Он толком не понимал, что говорит, но четко сознавал: иначе нельзя. Он бы не смог взять в руки перо – так его колотило; потому-то он непроизвольно сказал то, что обеспечивало самую твердую возможность покончить со всем этим.
Тоблер совершенно осатанел:
– А ну, убирайтесь вон! Сию минуту! Вон! К моим врагам! Я в вас больше не нуждаюсь.
Он осыпал Йозефа оскорблениями, сперва очень резкими, потом все более вялыми, пока ярость полностью не уступила место боли и жалобам. Йозеф по-прежнему стоял посреди комнаты. Ему казалось, будто он обязан сочувствовать всему свету, в том числе немножко себе, но гораздо больше и от души – всему окружающему. Вирзих давно счел за благо уйти в сад. Собака встретила его как старого знакомого и весело завиляла хвостом. Г-жа Тоблер между тем стояла в гостиной у окна и напряженно прислушивалась – кое-что, видимо, долетало до нее сквозь стены и перекрытия. Взгляд же ее наблюдал за прежним помощником, который гулял в саду.
– Ладно, я напишу вам эти письма, господин Тоблер, но потом уйду, – донеслось от письменного стола.
– Прямо так и уйдете? Без жалованья? – спросил Тоблер.
Йозеф ответил, что полагает невозможным оставаться здесь долее, на что Тоблер возразил, что, мол, не стоит принимать это так уж всерьез. Засим патрон взял свою шляпу и удалился.
Через час помощник, стараясь не привлекать к себе внимания, поднялся в башенную комнатку и начал укладывать свои пожитки. Он вновь одну за другой брал в руки мелкие, пустяковые, но так много значащие для него вещицы и аккуратно, однако ж споро клал их в стоящий наготове саквояж. Закончив сборы, он минуты две постоял у открытого окна, внимательно, с благодарностью в сердце оглядывая окрестности. Большому озеру у подножия холма он даже послал воздушный поцелуй, вовсе не думая о том, что он делает, просто ему вдруг захотелось попрощаться.
Выйдя на балкон, он окликнул Вирзиха:
– Подождите! Я сейчас.
С саквояжем в руке он сошел вниз. Как же стучало его сердце!
– Я зашел попрощаться, мне пора, – сказал он г-же Тоблер.
– Что случилось-то? Вы в самом деле должны уйти? – спросила она.
– Да, – кивнул помощник.
– Вы будете иногда вспоминать обо мне?
Он наклонился и поцеловал ей руки, сначала одну, потом другую.
– Да-да, Йозеф, вспоминайте иногда о госпоже Тоблер, вам это не повредит! Она женщина самая обыкновенная, каких много, ничем не примечательная. Оставьте, пожалуйста. Не надо целовать мне руки. Попрощайтесь-ка лучше с детьми. Вальтер! Поди же сюда. Йозеф уходит от нас. Ну, Дора, дай Йозефу ручку. Вот так… – Она умолкла. Потом продолжала: – Я надеюсь и желаю, чтобы все у вас было в порядке, да я почти уверена в этом. Старайтесь быть хоть чуточку кротким, но не слишком; мужественно делать свое дело вам так или иначе придется. Только никогда не кипятитесь, не отвечайте на брошенные в сердцах недобрые слова – за резким словом так скоро приходит благовоспитанное и мягкое. Приучите себя молча справляться с обидами. То, что женщины принуждены делать изо дня в день, мужчине тоже не мешает взять на заметку. Мир и дом живут по одним и тем же законам, только размах у них разный. Ни в коем случае не горячитесь!.. Вы все уложили? И Вирзих тоже уходит с вами? Послушайте меня, Марти: никаких наскоков, главное – учтивость. Тогда вы обязательно добьетесь успеха! Я… я тоже скоро уеду. Этот дом для нас потерян. Мы все – я, муж, дети – переберемся куда-нибудь в город, наверно, снимем квартиру подешевле. Человек ко всему привыкает, но скажите честно: хоть немножко вам у нас нравилось? Правда? Ведь было столько хорошего! А Тоблеру передать, что вы велели кланяться?








