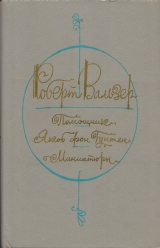
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
Когда переезд наконец открылся, я и остальная публика пошли дальше, но только теперь все окружающее вдруг стало казаться мне в тысячу раз прекраснее, чем прежде. Моя прогулка становилась все прекрасней и значительней. Это место, этот железнодорожный переезд, подумал я, оказался чем-то вроде высшей точки или центра, откуда все начнет тихонько сходить вниз. Я уже предощущал нечто похожее на медленный предзакатный спуск. Вокруг словно повеяло сладостной тоской – дыханием безмолвного небесного божества. «Здесь сейчас несказанно прекрасно», – снова подумал я.
Пленительный край с его неширокими лугами, милыми домами и садами показался мне трогательной прощальной песней. Со всех сторон долетали до меня вековечные жалобы бедного, страдающего народа. Всплывали призраки в восхитительных одеяниях – огромные, мятущиеся, многоликие. Красивый узкий проселок переливался голубыми, белыми и золотистыми тонами. Умиление и восторг, подобные спорхнувшим с неба ангелам, реяли над желтоватыми в розовой дымке домами бедняков, которые с детской нежностью обнимало солнечное сияние. Рука об руку, как тиховейное дыхание, витали любовь и бедность. У меня было такое чувство, будто кто-то окликает меня по имени, целует или утешает меня, будто сам всемогущий бог, наш господь и владыка, вступил на эту дорогу, чтобы сделать ее неописуемо прекрасной. Всевозможные порождения фантазии внушали мне, что сюда явился Иисус Христос и странствует теперь по этому чудесному краю, среди всех этих добрых, славных людей. Все человечески-плотское и предметное словно бы претворилось в исполненную кротости душу. Серебристый флер, облачка души наплывали, окутывали все. Открылась мировая душа, и все зло, страдание и скорбь вот-вот улетят прочь, – фантазировал я. Глазам моим представились мои прежние прогулки. Однако чудесная картина настоящего вскоре возобладала над другими впечатлениями. Будущность поблекла, а прошлое расплылось. В пылу этого мгновения я пылал сам. Со всех сторон и со всех концов подступало ко мне, сияя просветленными, блаженными ликами, все Великое и Доброе. Здесь, посреди этого прекрасного края, я только о нем и думал, все другие мысли улетучились. Я внимательно всматривался во все даже самое малое и неприметное, а небо тем временем, казалось, ходит ходуном, то взлетая высоко вверх, то падая глубоко вниз. Земля стала сном, а сам я – внутренней сущностью, и я двигался словно внутри себя. Все внешнее потерялось, а все прежде понятное стало непонятным. Я сорвался с поверхности в глубину, в которой мгновенно распознал Добро. То, что мы понимаем и любим, понимает и любит нас. Я был уже не самим собой, а другим, но именно благодаря этому опять стал воистину самим собой. В сладостном свете любви я, казалось мне, смог постичь и не мог не почувствовать, что человек, живущий внутренней жизнью, это единственный действительно существующий человек. Мне пришла в голову мысль: где были бы мы, люди, если бы не существовало нашей доброй, надежной Земли? Не будь ее, что бы у нас было? Где бы я находился, если бы не мог находиться здесь? Здесь у меня есть все, а в другом месте не было бы ничего.
То, что я видел, было столь же величавым, сколь жалким, столь же ничтожным, сколь значительным, столь же очаровательным, сколь скромным, и столь же добрым, сколь теплым и милым. Особенно порадовали меня два дома, стоявшие в ярком солнечном свете друг подле друга, будто живые фигуры двух радушных соседей. В мягком доверчивом воздухе одна приятность овевала другую, и все трепетало, словно от тихого удовольствия. Одним из двух домов был трактир «У медведя». Изображение медведя на вывеске показалось мне превосходным и забавным. Каштановые деревья осеняли красивый дом, где несомненно жили славные, милые люди, – ведь этот дом не казался высокомерным, как иные здания, а выглядел как сама доверчивость и верность. Повсюду, куда ни кинь взгляд, виднелись густые великолепные сады, сплошные завесы из пышнолистных зеленых ветвей.
Второй, низенький дом в своей приметной миловидности походил на детски-наивную страницу из книжки с картинками – таким он представлялся необычным и привлекательным. Мир вокруг этого домика казался совершенством добра и красоты. В этот хорошенький домик, будто сошедший с картинки, я, можно сказать, тотчас по уши влюбился и с огромным удовольствием сразу бы туда вошел, чтобы снять себе там квартиру и свить гнездо, чтобы навсегда водвориться в этот чудо-домик и обрести блаженство. Однако именно самые лучшие квартиры в большинстве случаев, на беду, оказываются занятыми, и плохо приходится тому, кто ищет себе квартиру, отвечающую его взыскательном у вкусу, – ведь то, что еще не занято и доступно, зачастую оказывается безобразным и вызывает неподдельный ужас.
Конечно же в прелестном этом домике жила одинокая маленькая женщина или бабуся, – именно так он и выглядел и такой именно шел от него дух. Да позволено мне будет сообщить, что это небольшое строение пестрело стенной живописью или фресками, на которых изящно и затейливо изображался швейцарский альпийский ландшафт с бернской горной хижиной, разумеется намалеванной. Живопись эта, правда, сама по себе была отнюдь не прекрасна. Утверждать, что здесь мы имели дело с произведением искусства, было бы слишком смело. И все-таки мне эта живопись показалась очаровательной. Такая, как есть, наивная и простая, она была даже способна привести меня в восхищение. В сущности, меня восхищает всякое, хотя бы самое неумелое произведение живописи, потому что любое из них наводит на мысль, во-первых, о прилежании и усердии, а во-вторых, о Голландии. Разве не прекрасна всякая, даже самая убогая музыка для того, кто любит сущность и существование музыки? Разве человеколюбцу не любезен всякий другой человек, пусть даже самый недобрый и неприятный? Никто не станет отрицать, что пейзаж, намалеванный на фоне естественного, представляется причудливым и пикантным. Тот факт, что в доме живет старенькая бабушка, я, впрочем, еще не запротоколировал. Однако меня просто удивляет, как это я позволяю себе произносить такие слова, как «запротоколировать», когда вокруг все так нежно и непосредственно, словно чувства и чаяния материнского сердца! В остальном домик был выкрашен серо-голубой краской, ставни же у него были светло-зеленые, и казалось, они улыбаются, а в саду благоухали прекраснейшие цветы. Над этим садовым или дачным домом, грациозно изогнувшись, склонялся розовый куст, усыпанный великолепными розами.
Если только я не болен, а здоров и бодр, на что я горячо уповаю и в чем нисколько не сомневаюсь, то, значит, спокойно шествуя дальше, я дошел до сельской парикмахерской, с содержателем и содержимым которой у меня, пожалуй, не было причины связываться, поскольку, на мой взгляд, мне пока что не так уж необходимо стричься, хотя возможно, что это было бы очень приятно и забавно.
Затем я проследовал мимо сапожной мастерской, напомнившей мне о несчастном писателе Ленце, который в состоянии умопомрачения и умопомешательства выучился тачать и действительно тачал башмаки.[15]15
Имеется в виду немецкий писатель Якоб-Михаэль Ленц (1751–1792).
[Закрыть]
Мимоходом я заглянул в приветливый школьный класс, где строгая учительница как раз спрашивала учеников, громко покрикивая на них, причем надо заметить, что мне вдруг неудержимо захотелось снова стать мальчишкой, непослушным школьником, снова ходить в школу и получать за свои шалости заслуженную порцию розог.
Раз уж мы заговорили о порке, то следует присовокупить: на наш взгляд, сельский житель, у которого не дрогнет рука срубить украшение пейзажа, красу его собственной усадьбы – высокое старое ореховое дерево, дабы выручить за него презренные дурацкие деньги, заслуживает того, чтоб его хорошенько высекли.
Потому-то при виде красивого крестьянского дома с растущим возле него великолепным и могучим ореховым деревом я звонко воскликнул: «Это высокое величественное дерево, так чудесно осеняющее и украшающее дом, обвивающее и облекающее его такой торжественной и радостной таинственностью, такой уютной и задушевной домовитостью, – это дерево, говорю я, подобно божеству, и тысяча ударов плетью причитается бесчувственному владельцу, коли он посмеет извести эту великолепную прохладительную листву ради того лишь, чтобы удовлетворить свою алчность – подлейшее из всего, что есть на земле. Подобных болванов следовало бы исключать из общины. В Сибирь и на Огненную Землю таких осквернителей и ниспровергателей красоты! Однако на свете, слава богу, есть еще крестьяне, которые, конечно же, не утратили чувство и понимание красоты и добра».
В том, что касается дерева, жадности хозяина дома, высылки его в Сибирь и порки, которой он, по-видимому, заслуживает за то, что уничтожает дерево, меня, пожалуй, немножко занесло, я должен сознаться, что не совладал со своим гневом. Между тем друзья прекрасных деревьев поймут мою досаду и присоединятся к столь энергично выраженному сожалению. А тысячу ударов плетью я, так уж и быть, возьму обратно. За грубое слово «болван» я и сам себя хвалить не стану. Оно заслуживает порицания, и я должен за него просить извинения у читателей. Поскольку извиняться мне пришлось уже неоднократно, я успел приобрести некоторый навык в этом роде вежливости. Совершенно ни к чему было говорить «бесчувственный владелец». По-моему, все это – воспаления ума, которых следует всячески избегать. Так или иначе, ясно, что скорбь о гибели красивого дерева я оставляю в стороне. Но выражение лица у меня в связи с этим будет злое, чего мне никто запретить не может. «Исключить из общины» сказано неосторожно, а что касается алчности, которую я назвал подлой, то я допускаю, что на сей счет и сам уже раз-другой тяжко грешил, ошибался и оступался и что конечно тоже не избежал некоторых скверностей и низостей.
Тем самым я веду игру на понижение, да так замечательно, что лучше и не придумаешь, однако такую игру я считаю необходимой. Приличие обязывает нас следить за тем, чтобы с самими собой мы поступали так же строго, как с другими, чтобы других судили так же мягко, как самих себя, – а уж последнее-то, как известно, мы всегда делаем невольно.
Ну разве это не умилительно, как я тут исправляю свои ошибки и заглаживаю проступки? Делая признания, я показываю себя миротворцем, а закругляя углы, сглаживая шероховатости, смягчая жесткость, выступаю как кроткий утишитель, проявляю понимание хорошего тона и веду тонкую дипломатию. При всем том я, конечно, осрамился, но все же надеюсь, что мне по крайней мере не откажут в наличии доброй воли.
Если же и теперь кто-нибудь все-таки скажет, что я беспардонный самодур и прущий напролом властолюбец, то я утверждаю: человек, заявивший такое, жестоко заблуждается. Ни один автор, наверно, не думает о читателе с такой неизменной робостью и почтительностью, как я.
Ну-с, так, а теперь я могу услужливо преподнести вам особняки или дворцы знати, и вот каким манером.
Я откровенно хвастаюсь, ибо такой полуразвалившейся помещичьей усадьбой и патрицианским владением, таким поседевшим от старости рыцарским замком и барским домом, как тот, что маячит теперь впереди, можно козырять, привлекать к себе внимание, пробуждать зависть, вызывать восхищение и стяжать почет.
Иной бедный утонченный литератор с превеликим удовольствием и радостью поселился бы в каком-нибудь дворце или замке с внутренним двором и въездом для господских экипажей, украшенных гербами. Иной сибаритствующий бедный художник мечтает время от времени пожить в прекрасной старинной усадьбе. Иная образованная, но, к сожалению, явно нищая городская барышня с меланхолическим упоением и неземным восторгом грезит о прудах, гротах, высоких покоях и портшезах и в разгоряченном воображении видит, как ей служат проворная челядь и благородные рыцари.
На барском доме, который я узрел перед собой, то есть скорее над домом, чем на нем самом, можно было разглядеть и прочесть дату «1709», что, разумеется, весьма подогрело мой интерес. С любопытством, близким к восторгу, я как естествоиспытатель и исследователь древностей заглянул в удивительный старый зачарованный сад, где в бассейне с красиво бьющим фонтаном сразу же обнаружил диковиннейшую метровой длины рыбу – одинокого сома. Точно так же я увидел, установил и в романтическом экстазе узнал садовый павильон в мавританском или арабском стиле, богато расписанный разными красками – небесно-голубой с таинственными звездами, а также коричневой и благородной, строгой черной. С тончайшим знанием дела я тотчас же вычислил, что этот павильон мог быть сооружен приблизительно в 1858 году, – такое умение выяснить, вычислить и вынюхать, возможно, дает мне право как-нибудь спокойно, с гордой и самоуверенной миной прочесть в зале ратуши, перед многочисленной и щедрой на аплодисменты публикой содержательную лекцию на эту тему. Ее, вероятнее всего, затем отметит пресса, что, разумеется, может мне быть только приятно, ибо она нередко много чего не удостаивает и словечка, – такое уже случалось.
Пока я тщательно изучал персидский павильон, мысли мои потекли по такому руслу: «Как здесь должно быть прекрасно ночью, когда все вокруг объято непроницаемой тьмой, черно, безмолвно и беззвучно, высокие ели прозрачно рисуются во мраке, полночная жуть приковывает путника к месту, и вот пышно разодетая женщина вносит в павильон лампу, разливающую мягкий желтоватый свет, а потом, повинуясь прихотливому вкусу и странному движению души, принимается наигрывать на фортепьяно, которым в этом случае, разумеется, должен быть оснащен наш павильон, всевозможные мелодии, да еще очаровательным голосом петь, – уж мечтать так мечтать! – а путник слушал бы и грезил, и эта ночная музыка переполняла бы его счастьем».
Но была отнюдь не полночь, и вовсе не рыцарское средневековье, и никак не пятнадцатый и не семнадцатый век, а светлый, притом будний день, и кучка людей вкупе с одним из самых невежливых, нерыцарственных, беспардонных и нахальных автомобилей, какие я только встречал, внезапно нарушила гармонию моих ученых размышлений и во мгновение ока так резко оторвала от замковой поэзии и мечтаний о прошлом, что я невольно воскликнул:
«Вот с какой невероятной грубостью мешают мне здесь предаваться созерцанию изящного и уходить мыслями в глубь рыцарских времен. Но хотя у меня есть все основания сердиться, лучше проявить кротость и вежливо все стерпеть. Как ни пленительны мысли об ушедшей красоте и грации и бледный призрак былого благородства, это вовсе не причина для того, чтобы повернуться спиной к современности и современникам. Нельзя убеждать себя, будто ты вправе сердиться на людей и порядки за то, что они не замечают настроения человека, которому захотелось углубиться в историю и в размышления о прошлом».
«Гроза здесь, наверно, была бы величественна, – думал я, продолжая свой путь. – Надеюсь, что у меня будет возможность ее наблюдать».
Славную, угольно-черную собаку, лежавшую посреди дороги, я почтил следующей шутливой тирадой.
«Тебе – молодцу совсем не ученому и не развитому, наверно, и в голову не приходит встать и приветствовать меня, хотя по моей походке и по другим моим манерам ты мог бы сразу заметить, что перед тобой человек, целых семь лет живший в крупных, столичных городах, где он ни на минуту, – не то чтобы на час или на неделю, на месяц, – не прерывал общения с людьми исключительно образованными и выдающимися. Ходил ли ты вообще в какую-нибудь школу, шелудивый приятель? Что? Ты и ответить не желаешь? Лежишь себе как ни в чем не бывало, таращишься на меня и даже ухом не поведешь, – монумент да и только! Ну и грубиян!»
На самом-то деле мне этот пес необычайно понравился своим простодушным, комичным спокойствием и невозмутимостью, и поскольку он весело глазел на меня, но, конечно, не понимал, что я говорю, то я мог позволить себе его побранить, однако это вовсе не было продиктовано злым умыслом, о чем достаточно ясно свидетельствует мой потешный стиль.
При виде весьма ухоженного, элегантного, неприступного господина, выступавшего чванной, кичливой поступью, у меня родилась горестная мысль: «Возможно ли, чтобы такой роскошно одетый господин, расфранченный и расфуфыренный, весь в украшениях и кольцах, лощеный, выутюженный и напомаженный, ни на секунду не задумался о жалких, бедных, заброшенных, плохо одетых юных созданиях, которые достаточно часто ходят в лохмотьях, обнаруживая огорчительный недостаток опрятности и плачевную запущенность? Неужели этот павлин нисколько не стыдится? Неужели этого господина Взрослого совершенно не трогает вид грязных неухоженных подростков? Как могут взрослые люди с явным удовольствием расхаживать во всевозможных украшениях, пока на свете существуют дети, которых снаружи ничего не украшает?
Однако с таким же правом, наверно, можно было бы сказать, что никто не должен ходить на концерт, посещать спектакль в театре или участвовать в каких-нибудь других увеселениях, пока на свете существуют тюрьмы и несчастные заключенные. Это бы конечно значило зайти слишком далеко, – ведь если кто-нибудь вздумал бы откладывать удовольствия до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться с бедностью и горем, то ему пришлось бы ждать невесть сколько – до скончания веков, до конца света и наступления серой ледяной пустыни, а тем временем у него совершенно пропала бы всякая охота жить.
Мне встретилась изнуренная, измученная, измочаленная работница, она еле держалась на ногах, но, явно усталая и ослабевшая, тем не менее торопливо шла, потому что ее наверняка ждало еще много неотложных дел, и при виде ее я невольно вспомнил балованных барышень и высокородных девиц, которые нередко маются, не зная каким бы изысканным аристократическим занятием или развлечением заполнить свой день, которые, должно быть, никогда не ведают честной усталости, зато целыми неделями раздумывают о том, как одеться, чтобы придать себе больше блеску, у которых времени хоть отбавляй, и они могут без конца ломать голову над тем, к каким ухищрениям прибегнуть, дабы их персона, эта нежная сахарная фигурка, красовалась во все более и более вычурных и болезненно утонченных нарядах.
Но ведь я и сам чаще всего выступаю любителем и поклонником таких вот благовоспитанных, предельно выхоленных, сотканных из лунного света прекрасных девушек-былинок. Хорошенькая девчурка могла бы приказывать мне, что захочет, я бы ей слепо повиновался. До чего же красивое красиво, а пленительное пленительно!
Вот я опять подошел к разговору об архитектуре и строительном искусстве, при этом я коснусь и небольшого участка литературы.
Во-первых, одно замечание: когда старые прекрасные, величавые дома, исторические памятники и сооружения украшают дешевыми цветочками и другой подобной орнаментикой, это выдает крайне дурной вкус. Кто это делает или заставляет делать других, грешит против духа достоинства и красоты и оскорбляет память наших столь же храбрых, сколь благородных предков.
Во-вторых, пластику фонтанов никогда не следует увешивать и увивать цветами, – сами по себе цветы, конечно, прекрасны, но они существуют совсем не для того, чтобы заслонять и опошлять благородную строгость и торжественную красоту статуй. Вообще, пристрастие к цветам может выродиться в совершенно нелепую манию. Здесь, так же, как и в других отношениях, надо себя сдерживать. Некоторые лица, например магистраты и т. д., если они окажутся столь любезны и не сочтут это за труд, могут во всякое время получить разъяснения в авторитетной инстанции и поступать точно так, как им посоветуют.
Я хочу упомянуть две интересные постройки, с необычайной силой приковавшие к себе мое внимание, а потому сообщаю, что, продолжая свой путь, подошел к старинной часовне, которую тут же назвал часовней Брентано, ибо увидел, что она относится к опутанной фантазией, овеянной славой полусветлой-полутемной эпохе романтизма. Мне вспомнился большой, хаотичный, бурный роман Брентано «Годви». Высокие и узкие стрельчатые окна придавали оригинальному зданию вид необычный, привлекательный и изящный и сообщали ему проникновенность и обаяние духовной жизни. На память мне пришли пылкие, прочувствованные картины природы, принадлежащие упомянутому поэту, например описание германских дубовых лесов.
Вскоре после этого я очутился перед виллой с названием «Терраса», напомнившей мне о живописце Карле Штауфер-Берне,[16]16
Штауфер-Берн Карл (1857–1891) – швейцарский живописец, гравер и скульптор.
[Закрыть] который иногда живал здесь, и одновременно о некоторых превосходных и выдающихся зданиях, стоящих в Берлине на Тиргартенской улице, симпатичных и достопримечательных благодаря воплощенному в них величественному, строго классическому стилю.
Дом Штауфера и часовня Брентано представились мне памятниками двух четко отделенных друг от друга миров, оба они, каждый по-своему, привлекательны, интересны и значительны: здесь соразмерная холодная элегантность, там дерзкая проникновенная мечта. Здесь нечто изящное и прекрасное и там нечто изящное и прекрасное, но по сути и воплощению вещи совершенно разные, хоть и близкие одна к другой по времени.
Я продолжаю прогулку, а между тем мне кажется, что понемногу вечереет. Тихий конец, думается мне, совсем уже недалек.
Здесь, наверно, уместно будет назвать кое-какие будничные явления и средства передвижения. Однако по порядку: солидная фортепьянная фабрика наряду с некоторыми другими фабриками и предприятиями; аллея тополей вдоль реки с черноватой водой; мужчины, женщины, дети; вагоны электрического трамвая, их скрежет и выглядывающий наружу грозный предводитель или вожатый; стадо восхитительно-пестрых и пятнистых светлых коров; крестьянки на подводах и неизбежный при этом грохот колес и щелканье кнута; несколько тяжело, доверху груженных возов с пивными бочками; спешащие домой рабочие, хлынувшие потоком из ворот фабрики, – подавляющее впечатление от такой массы людей и изделий массового производства, странные мысли на сей счет; товарные вагоны с товарами, катящие с товарной станции; целый странствующий кочевой цирк со слонами, лошадьми, собаками, зебрами, жирафами, с запертыми в клетках свирепыми львами, с сенегальцами, индейцами, тиграми, обезьянами и ползающими крокодилами, с канатными плясуньями и полярными медведями и с подобающе многочисленной свитой в виде прислуги, артистического сброда, служителей; затем – мальчишки, вооруженные деревянными ружьями и, в подражание европейской войне, выпустившие на волю всех фурий войны; маленький озорник, распевающий песню «Сто тысяч лягушек», чем он страшно гордится; дровосеки и лесорубы с тележками дров; две-три отборные свиньи, при виде которых неизменно живая фантазия созерцателя со всей возможной алчностью расписывает ему замечательно вкусное, аппетитное и дивно пахнущее жаркое, и это вполне понятно; крестьянский дом с изречением над воротами; две чешки, галицийки, славянки, лужичанки, а может быть даже цыганки, в красных сапогах с черными как смоль глазами и волосами, чей чуждый облик невольно приводит на память роман «Цыганская княгиня» из журнала «Гартенлаубе», действие которого, правда, происходит в Венгрии, но это едва ли существенно, или «Жеманницу», которая, безусловно, испанского происхождения, что вовсе не следует принимать так уж буквально.
Еще магазины: писчебумажные, мясные, часовые, обувные, шляпные, скобяные, мануфактурные, лавки колониальных товаров, москательные, бакалейные, галантерейные, булочные и кондитерские. И повсюду, на всем лежит отблеск закатного солнца. И еще: шум и грохот, школы и учителя, последние – с выражением важности и достоинства на лице; прекрасный ландшафт и воздух, кое-какая живопись.
И еще нельзя пропустить или забыть: надписи и объявления, например: «Персиль», или «Непревзойденные бульонные кубики «Магги», или «Резиновые каблуки «Континенталь» необыкновенно прочны», или «Продается имение», или «Лучший молочный шоколад», и, право, не знаю, сколько еще всякой всячины. Если вздумаешь перечислять до тех пор, пока все в точности не перечислишь, то конца не будет. Люди рассудительные это чувствуют и понимают.
Один плакат или вывеска особенно привлекла мое внимание. Она гласила следующее:
ПАНСИОН
или прекрасная столовая для мужчин рекомендует светским или по меньшей мере порядочным господам свою первоклассную кухню, а она такова, что мы со спокойной совестью можем сказать: наш стол потрафит не только самому избалованному гастрономическому вкусу, но и удовлетворит самый большой аппетит. Что касается слишком голодных желудков, то мы их насытить не беремся.
Предлагаемое нами кулинарное искусство отвечает наилучшему воспитанию, – этим мы хотели бы дать понять, что нам будет приятно видеть пирующими за нашим столом лишь воистину образованных людей. С субъектами, пропивающими свой недельный или месячный заработок и потому неспособными расплатиться на месте, мы никакого дела иметь не желаем. Напротив: в том, что касается нашей высокоуважаемой клиентуры, мы всецело рассчитываем на тонкое обхождение и учтивые манеры.
За нашими нарядно накрытыми столами, дразнящими аппетит и украшенными всеми видами цветов, обычно прислуживают очаровательные, воспитанные девушки. Мы говорим это для того, чтобы господа претенденты поняли, насколько необходимо выказать благоприличие и вести себя действительно красиво и безукоризненно с той самой минуты, как будущий господин пансионер переступит порог нашего престижного, респектабельного пансиона.
С кутилами, драчунами, хвастунами и гордецами мы решительно не желаем иметь дела. Лиц, полагающих, что у них есть причины считать себя принадлежащими к названному сорту людей, мы нижайше просим держаться как можно дальше от нашего пансиона – заведения первого ранга, и любезно избавить нас от своего неприятного присутствия.
Напротив: всякий милый, деликатный, вежливый, учтивый, предупредительный, любезный, жизнерадостный, но не слишком веселый, а скорее скромный, пристойный, тихий, однако прежде всего платежеспособный солидный господин будет у нас несомненно принят с распростертым и объятиями. Его наилучшим образом обслужат и обойдутся с ним превежливо и прелюбезно, – это мы обещаем со всей искренностью и надеемся неизменно соблюдать к обоюдному удовольствию.
Подобный милый, обходительный господин найдет за нашим столом такие изысканные и лакомые блюда, какие ему едва ли удастся сыскать в других местах. Наша изумительная кухня действительно создает шедевры кулинарного искусства, и возможность подтвердить это представится каждому, кто пожелает отведать наше угощение, а мы вас к этому всячески побуждаем и всегда горячо и настойчиво приглашаем.
Еда, которую мы подаем на стол, как по добротности, так и по количеству превосходит всякое мало-мальски здравое разумение. Самая буйная фантазия не в силах даже приблизительно представить себе те возбуждающие аппетит деликатесы, каковые мы обычно один за другим ставим на стол перед командами наших дорогих радостно изумленных едоков.
Как уже подчеркивалось, речь может идти исключительно о порядочных господах, о господах из лучших, и для того, чтобы избежать заблуждений, а также устранить сомнения, да будет нам позволено кратко изложить наше суждение по этому поводу.
В наших глазах порядочным господином в действительности является лишь тот, кого, можно сказать, прямо-таки распирает от утонченности и порядочности, тот, кто во всех отношениях лучше прочих простых людей.
Люди просто-напросто простые нам совершенно не подходят.
Господином из лучших, по нашему мнению, является лишь тот, кто вбил себе в голову превеликое множество всяких суетных пустяков и решительно убедил себя в том, что его нос гораздо тоньше и лучше, нежели нос любого другого хорошего и разумного человека.
В повадках господина из лучших четко проявляется именно эта подчеркнутая нами особая предпосылка, и мы на это полагаемся. Следовательно, человека попросту доброго, прямого и честного, но не выказывающего никакого другого важного преимущества, мы просим и близко к нам не подходить.
Для тщательного отбора исключительно светских и положительно порядочных людей мы наделены сверхтонким чутьем. По походке, тону, манере завязывать разговор, по лицу и движениям, а особенно по костюму, шляпе, трости, по цветку в петлице, – есть он или нет, – мы определяем, принадлежит тот или иной господин к числу лучших или не принадлежит. Зоркость, какою мы обладаем на этот счет, на грани колдовства, отчего мы берем на себя смелость утверждать, что в этом отношении можем похвастать даже известной гениальностью.
Вот так. Теперь, стало быть, ясно, на какого рода людей мы рассчитываем, и если к нам заявится человек, по виду которого мы еще издали установим, что для нас и нашего заведения он не очень-то годится, мы ему скажем:
«Мы очень сожалеем и нам весьма прискорбно».
Кое-кто из читателей, возможно, возымеет некоторые сомнения в достоверности такого плаката и сочтет, что всерьез поверить в подобное трудно.
Возможно, что там и сям у меня случались повторения, но я хотел бы заявить, что рассматриваю природу и человеческую жизнь как столь же последовательное, сколь и увлекательное бегство от шаблонов, и это явление нахожу прекрасным и благодатным.
Мне хорошо известно, что кое-где встречаются охотники за новизной, развращенные неоднократно изведанными острыми ощущениями, падкие на сенсации и чувствующие себя несчастными, если они не могут чуть ли не каждую минуту усладить себя еще небывалым удовольствием.
В общем и целом постоянная потребность наслаждаться и пробовать все новые и новые яства представляется мне признаком никчемности, отсутствия духовных интересов, отчуждения от природы и посредственных или дефектных умственных способностей. Малые дети – вот кому надо все время предлагать что-нибудь новое, незнакомое, иначе они будут недовольны. Серьезный писатель никак не может чувствовать призвания к тому, чтобы заниматься накоплением сюжетного материала и быть расторопным слугой неуемной алчности. Он с полным правом не чурается некоторых повторений, при этом он, разумеется, всегда и всемерно избегает частой схожести ситуаций.
Тем временем наступил вечер, и по красивой тихой дороге, вернее, по боковой дорожке, осененной деревьями, я подошел к озеру, где моя прогулка заканчивалась.
В ольховой роще невдалеке от воды собрался целый класс школьников: мальчиков и девочек, и то ли священник, то ли учитель давал им на лоне вечереющей природы наглядный урок естествознания. Я неспешно пошел дальше, и мне представились два различных образа.
Возможно, от охватившей меня усталости или по какой другой причине я подумал об одной красивой девушке и о том, как одинок я на целом свете, в чем ничего хорошего быть не может.








