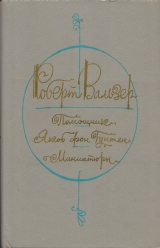
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
– Непременно. Сердечный ему привет! – сказал помощник.
– Я передам, ему будет приятно. Право же, он заслужил, чтоб вы не держали на него зла. Он любил вас, как и все мы. Вы были у нас… нет, теперь уходите! Счастья вам, Йозеф!
Она подала ему руку, а потом как ни в чем не бывало повернулась к детям. Он поднял саквояж и вышел из комнаты. И вот уже Марти и Вирзих покинули виллу «Под вечерней звездой».
Выйдя на проезжую дорогу, Йозеф на миг остановился, достал из кармана одну из тоблеровских сигар, закурил и еще раз оглянулся на дом, мысленно посылая ему последнее прости. И они зашагали дальше.
Якоб фон Гунтен
© Перевод Ю. Архипова
Многому здесь не научишься, учителей не хватает, и ничего-то из нас, мальчиков из пансиона Беньяменты, не получится, то есть в будущем все мы станем людьми очень маленькими и зависимыми. Учение, которым нас тут потчуют, сводится главным делом к тому, чтобы вдолбить нам терпение и послушание, две добродетели, которые не всегда, скорее крайне редко, обещают успех. Успехи на поприще душевного совершенствования? Положим, но что в них проку? Сыт ими не будешь. А я бы хотел быть богатым, разъезжать в карете, сорить деньгами. Как-то раз я признался в этом Краусу, своему однокашнику, но тот только презрительно пожал плечами и не удостоил меня ответом. У Крауса твердые убеждения, он крепко держит поводья, оседлав довольствование малым, а это тот конь, которым любителей галопа не приманишь. Правда, за то время, что я здесь, в пансионе Беньяменты, я и в себе замечаю загадочные перемены. И меня заразило это странное, до сих пор неведомое мне смирение. И я повинуюсь уже вполне сносно, хоть и не так истово, как Краус, который очертя голову несется выполнять любое начальственное приказание. Все мы, ученики, – и Краус, и Шахт, и Жилинский, и Фукс, и длинный Петер, и я, и так далее – все мы схожи в одном; мы абсолютно бедны и зависимы. Маленькие мы люди, маленькие настолько, что ни о каком достоинстве не может быть и речи. У кого в кошельке заводится марка, на того смотрят как на баловня-принца. И с жалостью – на того, кто, как я, тратится на сигареты. Мы носим форму. Это обстоятельство и унижает и возвышает нас в одно и то же время. Мы выглядим в ней, как невольники, и это, возможно, стыд, но мы выглядим в ней опрятно, и это отделяет нас от глубокого стыда людей, которые ходят хоть и в своем собственном, но таком грязном и рваном тряпье. Мне, например, очень приятно носить форму, потому что раньше, бывало, я никогда не знал, что надеть. Но и в этом отношении я для себя пока большая загадка. Быть может, во мне сидит совершенно дрянной и подлый человечишка. А может, во мне течет голубая кровь. Не знаю. Но одно я знаю наверное: в будущей жизни из меня выйдет такой симпатичный кругленький нуль. На старости лет я буду прислуживать молодым, самодовольным, дурно воспитанным грубиянам, или буду побираться, или просто погибну.
Собственно, дел у нас, учеников или воспитанников, крайне мало, заданий нам почти не дают. Мы только учим наизусть правила внутреннего распорядка. Или читаем книгу «Какую цель ставит перед собой школа для мальчиков Беньяменты?». Краус, кроме того, учит французский, самостоятельно, потому что ни иностранных языков, ни чего-либо подобного в нашей учебной программе нет. Урок у нас один-единственный, и он повторяется бесконечно. «Как должен вести себя мальчик?» Вот вокруг этого и вращается, в сущности, вся учеба. Знаний нам не дают никаких. Учителей, как я уже отмечал, не хватает, то есть господа воспитатели и педагоги спят или умерли, или делают вид, что умерли, или окаменели, или еще что-то, но, во всяком случае, мы их не видим. Вместо учителей, почивших или по какой-то странной причине сделавших вид, что почили, нам преподает и нами управляет молодая дама, сестра директора пансиона, фройляйн Лиза Беньямента. На уроки в класс она приходит с маленькой белой указкой. Мы встаем, когда она входит. Садимся после того, как сядет она. Коротко, властно она трижды ударяет указкой по краю стола, и урок начинается. Что за урок! Но я бы солгал, если б назвал смешным то, чему она нас учит. Нет, фройляйн Беньямента скорее трогательна в своих наставлениях. Их немного, мы повторяем одно и то же, но вполне вероятно, что за всеми этими смешными, ничего не значащими пустяками кроется своя тайна. Да и смешны ли они? Во всяком случае, нам, мальчикам из пансиона Беньяменты, весело не бывает. И лица, и повадки наши очень серьезны. Даже Жилинский, хоть и совсем еще ребенок, смеется очень редко. Краус не смеется никогда, а если уж и не удержится иной раз, то быстро прекращает смех и потом сердится на себя за то, что впал в предосудительный тон. В целом мы, ученики, смеемся мало, то есть нам не до смеха. В нас нет ни требуемой для смеха раскованности, ни веселия духа. Или я заблуждаюсь? Господи, иной раз все мое пребывание здесь представляется мне сном самым престранным.
Моложе и меньше всех нас, воспитанников, Генрих. К этому юному существу неизбежно относишься с нежностью, причем без всяких задних мыслей. Как он затихает перед витринами купеческих лавок, самозабвенно разглядывая лакомства и товары! Потом обычно входит и покупает себе на семишник какие-нибудь сласти. Генрих совсем еще дитя, но он говорит и ведет себя как взрослый с хорошими манерами. Волосы его всегда безупречно причесаны на ровный пробор, что особенно вызывает мое восхищение, потому что сам я в этом важном пункте выгляжу неблестяще. Щебечет он, как нежная птичка. Рука так и просится к нему на плечо, когда разговариваешь или выходишь с ним на прогулку. У него осанка полковника при маленьком росте. Наверняка он ни разу еще не задумывался о жизни, да и зачем? Он очень благовоспитан, услужлив и вежлив, но всего этого не осознает. Да, он как птичка. Кроткий нрав его виден во всем. Только птичка могла бы так давать руку, если б умела, так ходить, так стоять. Все в Генрихе невинно, счастливо, безмятежно. Он, по его словам, хочет быть пажем. Говорит он об этом без какой-либо пошлой ухмылки, и в самом деле ему бы больше всего подошла роль пажа. Изящные чувства и манеры ведь должны к чему-то стремиться и, гляди-ка, у них есть точная цель. Что сделает с таким мальчиком опыт жизни? Осмелится ли умудренный опыт вообще приблизиться к нему? Не стушуются ли грубые разочарования перед лицом столь чуткой невинности? Впрочем, я замечаю, что он несколько холоден, сдержан, никаких порывов его душа не знает. Может статься, что он и не заметит многое из того, что могло бы его уничтожить, не почувствует многое из того, что могло бы развеять его беззаботность. Прав ли я? Кто знает… Но я очень, очень люблю предаваться таким наблюдениям. Способности к пониманию у Генриха не безграничны. В этом его счастье, которое надо лелеять. Если б он был принцем, я бы первым склонил перед ним колена и признал его власть. Жаль, что это не так.
Как глупо я себя вел, когда сюда прибыл. Больше всего меня возмутила лестница в подъезде. Хотя, в общем, лестница как лестница, на городских задворках всюду такие. Потом я позвонил, и какое-то обезьяноподобное существо открыло мне дверь. То был Краус. Но тогда я попросту принял его за обезьяну, я ведь не знал еще его выдающихся личных качеств, за которые теперь высоко его ставлю. Я спросил, могу ли я видеть господина Беньяменту. «Всенепременно, сударь», – сказал Краус и отвесил мне низкий, дурацкий поклон. Этот поклон страшно напугал меня, потому что я сразу подумал, что тут что-то нечисто. И с этого момента я стал считать школу Беньяменты надувательством чистой воды. Я вошел в кабинет директора. По сей день смех разбирает меня, как вспомню о том, что затем было! Господин Беньямента спросил, что мне угодно. Я, робея, объяснил, что хочу у него учиться. Он замолчал и погрузился в чтение газет. Бюро, за которым сидел господин директор, он сам, вышедшая мне навстречу обезьяна, дверь, которую она открыла, вот эта манера молчать, изучая газеты, – все это показалось мне в высшей степени подозрительным и сулящим погибель. Внезапно меня спросили о том, как меня зовут и откуда я родом. Я чувствовал, что погиб, потому что вдруг понял, что мне не выбраться отсюда. Заикаясь, ответил на поставленные вопросы, и даже осмелился подчеркнуть, что происхожу из очень хорошей семьи. Среди прочего я сказал, что отец мой – тайный советник и что я убежал из дома, опасаясь быть раздавленным его авторитетом. Директор опять помолчал. Я все больше проникался страхом, что меня обманут. Подумывал уже было о том, что, наверно, тайно прикончат, расчленят на кусочки. Тут директор спросил своим начальственным басом, есть ли у меня деньги, и я ответил, что есть. «Давай их сюда. Живо!» – приказал он, и я, как ни странно, сразу же повиновался, трепеща от ужаса. Я уже не сомневался, что попал в руки разбойника и обманщика, но, несмотря на это, покорно выложил на стол плату за учение. Как смешны мне теперь тогдашние ощущения! Деньги со стола словно ветром сдуло, и снова воцарилось молчание. Тогда я, набравшись геройской храбрости, попросил дать мне расписку и получил в ответ: «Шкетам вроде тебя расписок не выдают». Я был близок к обмороку, директор позвонил. И тут же ввалилась эта глупая обезьяна, Краус. Глупая обезьяна? Вовсе нет. Краус очень милый, приятный человек. Только тогда я не мог этого понять. «Вот это Якоб, новый ученик. Отведи его в класс». Не успел директор произнести эти слова, как Краус уже схватил меня за руку и поволок к учительнице. Какой ты, выходит, еще ребенок, коли боишься. Хуже всего ведет себя человек, когда он во власти недоверия и незнания. Так я стал воспитанником.
Шахт, мой соученик, человек удивительный. Он мечтает стать музыкантом. Говорит, что сила воображения помогает ему чудесно играть на скрипке, и глядя на его руки, я ему верю. Он охотно смеется, но потом вдруг конфузится и погружается в умильную меланхолию, необыкновенно преображающую и лицо его, и позу. У Шахта необычайно белое лицо и длинные тонкие руки, которые выдают его безмерные душевные страдания. Сложения самого тщедушного, он часто слегка подергивается, ему трудно сидеть или стоять спокойно. Он похож на капризную, взбалмошную девочку, чуть что надувает губы, как какая-нибудь кисейная барышня. Мы с ним любим поваляться у меня на кровати, не раздеваясь, не снимая ботинок, с сигаретой во рту, что, разумеется, против правил. Шахт – большой охотник нарушать предписания, и я, по правде сказать, ему в этом, к сожалению, не уступаю. В такие минуты мы рассказываем друг другу всякие небылицы. Какие-нибудь случаи из жизни, то есть, конечно, из прошлого, а еще чаще выдумываем что-нибудь и вовсе несусветное. И тогда вокруг нас словно начинает звучать музыка, стены раздаются, в тесной и темной каморке вдруг появляются улицы, залы, дворцы, города, незнакомые люди и картины природы, грохочет гром, шелестят листья, кто-то смеется и плачет, и так далее. Но болтать с мечтателем Шахтом бывает занятно. Он все понимает, что ему ни скажи, и сам иной раз говорит умные вещи. И потом он часто жалуется, а я люблю, когда жалуются. Глядя на такого человека, можно почувствовать к нему глубокое сострадание, а в Шахте есть что-то, вызывающее сострадание, даже если он не говорит о печальном. Если благородное недовольство, то есть тоска по прекрасному и возвышенному, нуждается в каком-то пристанище, то в Шахте она нашла его себе в полной мере. У Шахта есть душа. Может, он художник по натуре, как знать. Он мне признался, что болен, и поскольку недомогание его не совсем приличного свойства, настоятельно просил меня молчать об этом, в чем я, конечно, поклялся, чтобы его успокоить. Потом я попросил показать мне его болячку, но тут он вдруг рассердился и отвернулся к стене. «Бесстыжий ты», – сказал он мне. Часто мы подолгу лежим, не говоря ни слова. Однажды я попытался потихоньку взять его руку, но он возмутился: «Ну что еще за глупости? Оставь». Шахт предпочитает общаться со мной, я, правда, не совсем в этом уверен, но в таких вещах это и не нужно. Сам я страшно привязан к нему, просто считаю его подарком судьбы. Разумеется, этого я ему не говорю. Разговариваем мы о пустяках, иной раз и о серьезных вещах, но высоких слов избегаем. В красивых словах столько скуки! Так вот проводя время с Шахтом в комнате, я понял, что мы, ученики школы Беньяменты, приговорены к удивительному, иной раз по целым дням тянувшемуся безделью. Все-то мы лежим, стоим, слоняемся, либо занимаемся бог весть чем. Ради удовольствия мы с Шахтом иногда зажигаем в комнате свечи, что строжайше запрещено. Но именно поэтому нас так и подмывает сделать наоборот. Бог с ними, с предписаниями: свечи горят так таинственно, так красиво. А как выглядит лицо моего товарища, освещенное нежным красноватым пламенем! Когда я вижу зажженные свечи, я кажусь себе самостоятельным человеком. Вот сейчас непременно подойдет слуга и протянет мне шубу. Все это глупость, конечно, но у этой глупости красивая улыбка. У Шахта, собственно, грубоватые черты лица, но бледность, разлитая по всему лицу, скрашивает их. Нос слишком большой, и уши тоже. Губ почти не видно. Иногда, когда я разглядываю Шахта, мне кажется, что этому человеку предстоит ужасная жизнь. Как я люблю людей, которые вызывают во мне щемящее чувство сострадания! Это и есть братская любовь? Может быть.
В первый по прибытии день я вел себя чудовищно капризно, как настоящий маменькин сыночек. Мне показали комнату, в которой я должен был жить с другими, то есть с Краусом, Шахтом, Жилинским. Четвертым в этой компании. Все оказались тут – товарищи, господин директор, мрачно на меня глядевший, фройляйн. А я вдруг бросился на колени перед девушкой и запричитал: «Нет, нет, в этой комнате я не смогу спать! Мне здесь нечем дышать. Уж лучше я буду ночевать на улице!» Говоря все это, я крепко обнимал ноги молоденькой наставницы. Она, казалось, рассердилась и приказала мне встать. На что я возразил: «Я встану только после того, как вы пообещаете поместить меня в более достойное помещение. Прошу вас, умоляю вас, фройляйн, пожалуйста, переведите меня отсюда, хоть в какую угодно дыру, только бы мне не оставаться здесь! Я не смогу здесь находиться. Я не хочу ничем обидеть своих товарищей и весьма сожалею, если уже это сделал, но спать в таком тесном помещении, да еще четвертым? Нет, это невозможно. Ах, фройляйн, умоляю вас». Она уже улыбалась, я заметил это, еще теснее прижался к ее ногам, продолжая сыпать скороговоркой: «Я буду очень послушным, я вам обещаю. Буду предупреждать все ваши желания. Вы никогда, никогда не посетуете на мое поведение». – «В самом деле? Никогда не посетую?» – спросила фройляйн Беньямента. «Никогда, даю вам слово», – отвечал я. Она обменялась взглядом со своим братом, господином директором, и сказала: «Прежде всего встань. Фу, какой льстец и попрошайка. А теперь пойдем. По мне, так можешь спать и в другом месте». Она отвела меня в комнату, в которой я теперь живу, показала ее мне и спросила: «Ну, а эта тебе нравится?» Я был настолько дерзок, что ответил: «Она слишком узка. И потом, дома у нас занавески на окнах. И комната залита солнцем. К тому же здесь только узкая кровать и умывальник. А дома комнаты полностью меблированные. Но вы не сердитесь, фройляйн Беньямента. Комната мне нравится, и я вам благодарен. Дома было более уютно, изысканно и красиво, но и здесь вполне мило. Простите, что я надоедаю вам этими сравнениями с домом и вообще несу всякую чушь. Комната очень, очень недурна. Правда, это окошко на самой верхотуре вряд ли можно назвать окном. И вообще, все похоже на крысиную нору или собачью конуру. Но мне здесь нравится. Неблагодарность и наглость с моей стороны – говорить все это, не правда ли? И может, лучше всего было бы лишить меня этой комнаты, которая мне так нравится, и категорически настоять на том, чтобы я спал вместе с другими. Мои товарищи наверняка чувствуют себя оскорбленными. А вы, фройляйн, рассержены. Я ведь вижу. И глубоко сожалею об этом». В ответ она мне сказала: «Просто ты глупый мальчишка, и замолчи наконец». Но при этом она улыбнулась. Как глупо все это вышло тогда, в первый день. Мне было стыдно, и я до сих пор стыжусь, вспоминая, как недостойно вел себя. Спал я в первую ночь очень неспокойно. Снилась мне учительница. А что до комнаты, то теперь я бы не возражал разделить ее с одним или двумя товарищами. Чересчур бояться людей – в этом ведь тоже есть что-то от сумасшествия.
Господин Беньямента – великан, а мы, воспитанники, карлики рядом с ним, вечно чем-то недовольным. Когда повелеваешь и правишь целой стаей таких мелких существ, как мы, мальчики, нельзя не впасть в состояние раздражения, однако добиться власти над нами – такое он не мог бы осилить ни в жисть, никогда. Нет, господин Беньямента мог бы достичь большего в другом деле. Такой Геркулес, как он, от столь мизерной задачи, как наше воспитание, только и мог, что спать наяву, то есть ворчать и надолго задумываться, читая газеты. О чем, собственно, думал этот человек, когда решился основать свою школу? В каком-то смысле мне жаль его, и это чувство лишь усиливает уважение, которое я к нему питаю. Вскоре после моего водворения тут, на второе, кажется, утро, между нами произошла небольшая, но довольно бурная сцена. Я вошел к нему в канцелярию, но не успел даже рта раскрыть. «Выйди вон, – услыхал я. – И попробуй снова войти в комнату как подобает воспитанному человеку». Я вышел и постучал, о чем поначалу совершенно забыл. «Войдите», – раздалось из кабинета. Я вошел и остановился. «Где поклон? И что нужно говорить, когда ко мне входишь?» Я поклонился и промямлил: «Добрый день, господин директор». Теперь-то меня так выдрессировали, что это «добрый день, господин директор» идет у меня как по маслу. Тогда же я ненавидел эту приторно-подобострастную манеру, а другой не владел. То, что прежде мне казалось смешным и тупым, теперь я нахожу прекрасным и ладным. «Громче, негодяй», – воскликнул Беньямента. Приветствие «добрый день, господин директор» мне пришлось повторить пять раз. Только после этого он спросил, чего я хочу. Я, обозленный, сказал: «Здесь ничему не учат, и я не желаю здесь больше оставаться. А посему прошу вас вернуть мне мои деньги, и я подамся отсюда к чертовой матери. Где здесь учителя? Где учебная программа, в чем смысл учебы? Нет никакого смысла. Я не хочу здесь оставаться. И никто, никто не заставит меня торчать тут, в этом приюте тьмы и обмана. Я происхожу из слишком хорошей семьи, для того чтобы подвергаться здесь унижениям и оболваниванию. Я, правда, не собираюсь возвращаться к отцу с матерью, туда я не вернусь никогда, но уж лучше мотаться на улице и быть вечным рабом. Мне это нипочем». Так я говорил. Сегодня я корчусь от смеха, вспоминая о глупом своем поведении. Тогда же мне было не до смеха. Господин директор, однако, молчал. Я уже готов был бросить ему в лицо какое-нибудь оскорбление. Но тут он заговорил: «Внесенные денежные взносы не могут быть востребованы назад. Что же до твоего дурацкого мнения, будто здесь тебе нечему научиться, то ты заблуждаешься на сей счет: здесь тебе есть чему научиться. Изучи, прежде всего, свое окружение. Твои товарищи заслуживают того, чтобы по крайней мере попытаться познакомиться с ними. Поговори с ними. И советую тебе: не кипятись. Никогда не кипятись». Это «никогда не кипятись» он произнес словно откуда-то из глубины своего уже отвернувшегося от меня сознания. Даже закрыл глаза, чтобы дать мне понять, какой глубокий и кроткий смысл он вкладывает в эти слова. Продемонстрировал мне, насколько он отрешен от происходящего, и снова замолчал. Что мне было делать? Господин Беньямента опять обратился к своим газетам. У меня было такое чувство, будто мне смутно угрожает какая-то далекая гроза. Я низко, почти до самой земли поклонился тому, кто не обращал на меня больше никакого внимания, произнес, как было предписано, «до свидания, господин директор», щелкнул каблуками, вытянулся по стойке смирно, повернулся, то есть, нет, нашарил сзади рукой ручку двери и, по-прежнему глядя в лицо господину директору и не поворачиваясь, ретировался за дверь. Так завершилась моя попытка бунта. С тех пор не было никаких мятежных выступлений. Бог мой, я чувствовал себя просто побитым. Он побил меня, он, человек, как я подозреваю, с большим сердцем, он побил, а я даже не пикнул, даже не сморгнул и даже не обиделся на него. Мне только стало жаль – не себя, а его, господина директора. Я все время думаю о нем, о них двоих, о господине директоре и его сестре, о том, каково им жить вместе с нами. Что они там поделывают у себя в комнатах? Чем занимаются? Бедны ли они? Бедны ли брат и сестра Беньямента? В здании есть «внутренние покои». Я еще ни разу в них не был. Краус, вероятно, был, его выделяют за усердие. Но от Крауса не дождешься рассказов о том, каково там у них, в квартире директора. Он только таращит на меня глаза, когда я об этом спрашиваю, и молчит. О, Краус умеет молчать! Если б я был господином, я бы взял Крауса в слуги. Но может, мне еще удастся проникнуть в эти внутренние покои. Что-то предстанет тогда моему взору? Может, ничего особенного? Нет, не думаю. По всему чувствуется, что поблизости есть что-то чудесное.
Но вот природы здесь нет, что правда, то правда. Здесь ведь большой город, и все как положено. Дома отовсюду были такие виды, куда ни глянь. Птицы, казалось мне, пели там круглые сутки. Ручьи не умолкали. Поросшая лесом гора величественно поглядывала на чистенький городок у своих ног. На расположенном поблизости озере, вечерами, катались в гондолах. Скалы и леса, холмы и поля были в двух шагах. Запахи, голоса. А улицы в городке были как дорожки в саду – красивые, чистые. Уютные белые дома, хитровато прищурясь, выглядывали из зелени садов. За решетками оград было видно иной раз, как прогуливаются по саду знакомые дамы, например фрау Хааг. Все это глупость, конечно, но природа – и гора, и озеро, и река, и водопад в кудряшках пены, и зелень, и всякий перезвон – без всего этого трудно. Гуляешь, бывало, как по небесному саду, куда ни глянь – всюду синее небо. Остановишься где-нибудь, приляжешь на травку или на мох и подолгу любуешься небом. А елки, что так чудесно и сильно пахнут пряной смолой! Неужели я больше никогда не увижу тех елей на склоне? Впрочем, в том нет большого несчастья. Лишиться чего-нибудь – в этом есть какой-то аромат и какая-то сила. Дом при ратуше, в котором жил отец, не имел своего сада, но все вокруг было сплошным цветущим садом. Надеюсь, что я не испытываю тоски по нему. Глупости. Здесь тоже прекрасно.
У меня хоть едва пробивается пушок, но я все же время от времени бегаю в парикмахерскую бриться, лишь бы только вырваться на улицу. Не швед ли я, спрашивает меня помощник парикмахера. Американец? Тоже нет. Русский? Тогда кто же? Я люблю хранить ледяное молчание в ответ на такие вопросы с националистической подкраской, люблю оставлять в неизвестности людей, которые спрашивают меня о моих чувствах к отечеству. Или лгу, притворяясь датчанином. В некоторых случаях откровенность ведет лишь к обидам и навевает скуку. Порою на этих оживленных улицах по-сумасшедшему светит солнце. А иногда все затянуто туманной сеткой дождя, что я тоже очень, очень люблю. Люди все вежливы, хотя я-то сам бываю чудовищно дерзок. Часто в обеденный час я просто так сижу на какой-нибудь лавочке. Деревья в сквере совершенно бесцветны. С какими-то неестественным и оловянными листьями. Впечатление такое, будто все здесь из железа и жести. Потом дождь снова набрасывает свою сеть на предметы. Раскрываются зонтики, катят по асфальту дрожки, спешат люди, приподнимают свои длинные юбки девушки. Видеть, как из-под юбок высовываются ноги, – в этом есть что-то жутковато-странное. Этакая женская нога в облегающем чулке, ее никогда не видно, а тут вдруг – на тебе. Туфли так красиво повторяют мягкую форму ног. Но вот снова солнце. Веет слегка ветерок, и снова вспоминается дом. Вспоминается мама. Плачет, должно быть, по мне. Почему я ей не пишу? И сам не знаю, просто не понимаю, но сесть за письмо не могу решиться. Да, не люблю отчитываться. Слишком уж глупо. Жаль, что так вышло, мне бы больше подошли родители, которые меня не любят. Я совсем не хочу, чтобы меня любили, чтобы меня жаждали видеть. Придется им привыкать к мысли, что у них нет больше сына.
Оказать услугу человеку, которого не знаешь, до которого нет тебе дела, – какое в этом райское, небывалое наслаждение. К тому же, если разобраться, дело есть до каждого или почти до каждого человека. Взять хотя бы этих прохожих, ведь мне есть до них дело, это ясно. То есть это зависит от того, как ко всему относиться. Вот иду я по улице, светит солнце, и вдруг слышу, как под ногами у меня визжит собачонка. Наклоняюсь и вижу, что породистая тварь запуталась лапами в плетеной корзинке. Оказалась как в кандалах. Одно движение, и я помог ее горю. Тут подходит и хозяйка собачки. Увидев, в чем дело, она изъявляет мне свою благодарность. Легким движением я снимаю перед дамой шляпу и иду себе дальше. Ах, думает дама позади меня, какие еще есть воспитанные юноши. Вот и вышло, что я оказал услугу юношеству вообще. А как улыбнулась эта некрасивая, в сущности, дама. «Благодарю вас, сударь». Вот уже и в судари произвели. Что ж, сударь тот, кто умеет себя вести. А кого благодарят, того уважают. Кто улыбается, тот красив. Любая женщина заслуживает вежливого обращения. В каждой есть изюминка. Мне уже приходилось видеть прачек с походкой королев. Смешно, конечно, но факт. А потом показалось солнце, и я припустил бегом. В универмаг. Там я сфотографируюсь. Господин Беньямента хочет, чтобы я сдал ему свою фотокарточку. А еще я должен написать краткую, но правдивую автобиографию. Для этого потребна бумага. Стало быть, меня ждет еще одно удовольствие – писчебумажная лавка.
Мой товарищ Жилинский поляк. По-немецки он говорит с сильным, но приятным акцентом. Все чужеродное благозвучно, уж не знаю почему. Гордость Жилинского составляет электрическая зажигалка в виде заколки для галстука, где-то он себе ее раздобыл. С не меньшей, то есть даже большей охотой он чиркает и восковыми спичками. Ботинки его всегда вычищены до блеска. До странности часто можно видеть, как он приводит в порядок костюм, намазывает ваксой сапоги, чистит щеткой берет. Он любит смотреться в дешевое карманное зеркальце. Такие зеркальца есть у нас всех, хотя мы все далеки от тщеславия. Жилинский высок и строен, у него красивое лицо, обрамленное локонами, которые он не устает причесывать и приглаживать. Он говорит, что хотел бы ухаживать за лошадкой. Холить ее и лелеять, а потом ездить на ней – для него нет большей мечты. В духовном отношении природа одарила его не слишком. Остроумия в нем ни малейшего, не говоря уже об интуиции и тому подобных вещах. Все же он вовсе не глуп, разве что ограничен, но я не люблю применять это слово к своим товарищам. То, что я умнее их всех, приносит мне не одни только радости. Что проку человеку от мыслей и озарений, если они, как у меня, остаются втуне? В том-то и дело. Нет, нет, я вовсе не хочу кичиться умом перед своими товарищами, я только хочу во всем держаться правды. Жилинский будет счастлив. Женщины будут одаривать его своими милостями, он и теперь уже выглядит – как будущий любимец женщин. Лицо и руки его покрыты благородным светлым загаром, а глаза точно у пугливой серны. Обворожительные глаза. Вид у него словно у какого-нибудь барчука из глухой провинции. Его манеры отдают поместьем, где возникает крепкий и обаятельный сплав городского и сельского, простого и изысканного поведения. Больше всего он любит праздно слоняться по оживленным улицам, я нередко составляю ему компанию – к возмущению Крауса, который всякую праздность ненавидит, преследует и презирает. «Что, опять предавались своим удовольствиям?» – спрашивает он нас, когда мы возвращаемся. О Краусе мне придется рассказывать подробно. Он самый исполнительный, самый старательный из всех нас, воспитанников, а исполнительность и старание неисчерпаемы и неизмеримы. Ничто не волнует меня так, как вид и аромат добродетели и законности. Всякая пошлость и зло быстро выветриваются, но постичь красоту прилежания и благородства труднее, зато и привлекательнее. Нет, пороки мало интересуют меня, куда меньше, чем добродетели. Надо бы теперь описать Крауса, но мне почему-то страшно браться за это. Щепетильность? С каких это пор? Надеюсь все же, что дело не в этом.
Я теперь каждый день хожу в универмаг, узнаю, не готовы ли фотографии. Всякий раз поднимаюсь на лифте на самый верхний этаж. Увы, мне нравится это катание, как и всякое пустое времяпрепровождение. Когда меня везет лифт, я себя чувствую как настоящее дитя своего времени. Знакомо ли это чувство другим? Автобиографию я все еще не написал. Стыдновато как-то писать правду о прошлом. Краус с каждым днем смотрит на меня со все большим укором. Это мне на руку. Люблю видеть, как сердятся милые люди. Больше всего на свете мне нравится вводить в заблуждение людей, которых я впустил в свое сердце. Это несправедливо, быть может, зато смело, а значит – оправданно. У меня это доходит до болезненных преувеличений. Так, мне кажется несказанно прекрасным умереть, глубоко обидев и намеренно оскорбив того, кто тебе дороже всего на свете. Вряд ли это может кто-нибудь понять, разве тот, кому ведома трепетная прелесть упрямства. Взять и сгинуть ради какой-нибудь шалой глупости. Разве к этому не стоит стремиться? Нет, конечно, не стоит. Но это все глупости грубого сорта. Вот, кстати, был со мной случай, чувствую, что не могу о нем умолчать. Еще с неделю назад было у меня десять марок. А теперь не осталось ни гроша. Зашел как-то в ресторан, где обслуживают дамы. Потянуло невероятно. Тут же подскочила какая-то девчонка и усадила меня на диван. Я уже догадывался, чем это должно было кончиться. Сопротивлялся, но вяло. Испытывал безразличие, но и еще что-то. Страшно нравилось ломать из себя перед этой девчонкой изысканного, снисходительного господина. Были мы совсем одни и, как водится, расшалились. Пили, конечно. Она то и дело бегала к буфету за напитками. Заголила ножку, показывая мне свои прелестные чулки, и я целовал их. Дуракам закон не писан. А она все вскакивала и подносила новое питье. И все бегом. Торопилась, видно, обчекрыжить дурачка на кругленькую сумму. Я-то видел ее насквозь, но мне нравилось, что она считает меня простаком. Странное извращение: испытывать тайную радость оттого, что замечаешь, как тебя надувают. А потом – сколько пленительного волшебства было в том, как все вокруг тонуло в ласковых волнах музыки. Девчонка была полькой, стройненькой, гибкой и восхитительно-порочной. Я подумал: «Прощай, мои десять марок» и поцеловал ее. Она спросила: «Скажи мне, кто ты? Ты ведешь себя как благородный». Я не мог надышаться ароматом, который от нее исходил. Она заметила это, и ей это понравилось. И в самом деле: каким нужно быть паршивцем, чтобы шляться по злачным местам, не испытывая любви и восхищения, которые только и могут оправдать банальность падения? Я соврал, что работаю на конюшне. Она не поверила: «О нет, для этого у тебя слишком хорошие манеры. Поздоровайся со мной». И я «поздоровался» с ней, то есть сделал то, что в подобных местах называют этим глаголом, чему она, смеясь, резвясь и целуясь, меня научила. Минуту спустя я очутился на улице, в вечереющей тьме, без единого пфеннига в кармане. Как я теперь отношусь к этому происшествию? Не знаю. Но я знаю одно: надо снова раздобыть сколько-нибудь денег. Но как?








