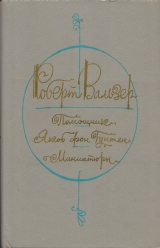
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Синхронные, то есть единовременные, сопоставления с отечественной культурой всегда особенно показательны и наглядны. Итак, кто же из русских писателей начала века более всего схож с Робертом Вальзером? Как социально-культурное явление – Есенин, мы уже об этом упоминали. Ну а по описанным свойствам прозы? Может быть, автор «Петербурга» и «Симфоний» (то есть поэм в прозе) Андрей Белый? Отношение к стихии языка совпадает, но Вальзер естественнее и проще, в нем нет ни тени мистической зауми и астральных претензий, к тому же музыкальность его более умеренного, сдержанного порядка, без выстраивания всей вещи под назойливый амфибрахий или анапест. Автор «Мелкого беса» и «Творимой легенды» Федор Сологуб? К обыденной жизни поближе и гротеск у него, как у Вальзера, вырастает из быта, но о каком целомудрии как повествовательной доминанте может идти у него речь? Тут не поэзия, а оргия быта. Алексей Ремизов? Пожалуй!
Совпадает многое. И характер боли за униженных и оскорбленных – не то чтобы социальный протест, а скорее горчайшее сожаление, с удивлением смешанная жалость: люди, зачем вы так? И соответствующий этому пассивному состраданию умиленный, порой чуть блаженный лад лукаво-наивной прозы, внимательной к музыке речи, ее ритмическому дыханию. «И во всю мою писательскую жизнь у меня была одна цель и единственное намерение: исполнить словесные вещи, как музыкант исполняет музыку на своем инструменте».[6]6
Ремизов А. М. Избранное. М., Художественная литература, 1978,с. 19.
[Закрыть] Под этими словами Ремизова мог бы подписаться и Вальзер. Совпадает и тяга к сказовой стилизации, и любовь – чтобы уж кстати воспользоваться лексикой Ремизова – к разного рода словесным «закавыкам» (увы, в полной мере вряд ли переводимым), к «скачкам и приседаниям» синтаксиса, к «сочетаниям звуков», нередко клонящихся в своей потребности согласия к аллитерации. Когда-нибудь историческая поэтика доберется до первоосновы подобного сходства, но и теперь ясно, что причиной всему история, то есть общее для всех время. У обоих писателей оно и хронологически было общим: Ремизов родился на несколько месяцев раньше, чем Вальзер, и на несколько месяцев позже умер.
…Третий роман Вальзера «Якоб фон Гунтен» был любимой книгой самого автора. Юношеская ранимость и гордость, юношеская жажда идеала, потребность добра, справедливости, чистоты – все вальзеровское сошлось как в фокусе в этой книге, вновь построенной на биографическом материале: летом 1905 года он прошел полный курс обучения в берлинской школе слуг и потом несколько месяцев прослужил истопником в замке одной силезской графини. Всего себя вложил Вальзер в этот короткий исповедальный роман, и велико же было его разочарование, когда роман решительно провалился. Даже благосклонные к автору рецензенты выражали недовольство размытым сюжетом, сбивающим с толку наплывами сна, грез и фантазий.
А между тем критика общества, его институтов и установлений, его социального неравенства, его культуры дана здесь, может быть, еще определеннее и острее, чем в предыдущем романе писателя. Она здесь не зашифрована в тексте, не извлекается из него посредством символических толкований, но заключена и в прямых обличительных высказываниях героя-повествователя и его брата-художника.
Да и сама изображенная в романе ситуация – характерна. Это тоже ситуация заката. Якоб – нечто противоположное классическому буржуазному карьеристу Растиньяку, его путь – не наверх по ступеням социальной лестницы, а вниз, в самый подвал общественного здания. Это парадоксальный путь, гениально предуказанный еще Достоевским в «Записках из подполья». Человек эпохи заката обретает самоутверждение в самоуничижении, которое, конечно же, паче гордости, в нем и вызов, и стихийный, беспрограммный протест.
Прояснение мотивов, которые движут Якобом на этом пути, дает убийственную картину несостоятельности многих общественных учреждений: образовательной системы с ее мертвой рутиной (олицетворенной в омертвевших не только душевно, но и телесно учителях), религиозных упований, идеалов искусства, культуры, созидаемой людьми, терзаемыми мелкоэгоистическими соображениями. «Успех», «достижение», «карьера» и прочие слова-идолы, святые лозунги этого общества, обнаруживают в глазах мечтательного юноши всю свою несостоятельность и фальшивость.
Но и в этом романе нет никакой другой альтернативы, кроме неоромантического бегства на природу, бегства от современной цивилизации в экзотические, не освоенные еще этой цивилизацией страны. Казалось бы, такой расплывчатый эскейпизм должен был бы вполне устраивать модников из литературных салонов и кафе. Но, видимо, бегство бегству рознь.
К этому времени назрел и глубокий конфликт писателя с той «артистической» средой, в которую так органично влился его брат-художник. Многочисленные мемуаристы сводят дело к медвежьей неотесанности провинциала, в очередь нанизывая курьезы: то он весь вечер молчал в присутствии высокопоставленной дамы, пожирая ее насмешливым взором, то задирал кумиров публики Ведекинда и Гофмансталя, которого осмелился публично спросить, не наскучила ли ему слава, то куражился в доме издателя Фишера и даже хлопнул об пол пластинкой, возмутившись бестактностью хозяина-толстосума. Даже диву даешься наивности описаний: будто действительно можно поверить, что писатель такого ранга никак не мог усвоить несколько правил хорошего тона или научиться развлекать дам нескучным разговором!
Нет, конфликт был куда более глубоким, и обе стороны прекрасно понимали, в чем его суть. Петрушка снова мешал Пьеро. Подлинная антибуржуазность мозолила глаза антибуржуазности мнимой. Среди эстетов в ходу была маска ниспровергателя тирании кошелька, отрешенного от суетной жизни денди, обитателя башни из слоновой кости, социального отщепенца. Но все эти маски сами были товаром и сами приносили доход! В очерке «Берлин и художники», помещенном в 1910 году в берлинском журнале «Искусство и художник», Вальзер прямо писал о связи современного искусства с буржуазией: «Художник, увенчанный успехом, живет в большом городе, как в волшебной восточной сказке. Он перекатывается из одного богатого дома в другой, ничтоже сумняшеся садится за уставленные яствами столы, жует, жуирует, развлекает. Его жизнь протекает как во хмелю. А талант? Неужели художник отказывается от своего таланта? Что за вопрос! Напротив. Талант только тогда и крепнет, когда на него живут».[7]7
HamannR., Hermand J. Impressionismus. Berlin, 1960,S. 124.
[Закрыть] Подобные язвительные инвективы были рассыпаны по многим произведениям Вальзера, сыпал он ими, не обинуясь, и прямо в глаза, – например, магнату и моднику Вальтеру Ратенау, о чем потом вспоминал в рассказе «Двое». В рассказе «Портрет коммерсанта» он изобразил другую символическую фигуру того времени – Пауля Кассирера, руководителя берлинского «Сецессиона», объединения художников, лощеного сноба и ловкого дельца. Роберт Вальзер в течение нескольких недель был его секретарем и хорошо изучил соответствовавшие духу времени повадки своей модели.
Назревший конфликт в очередной раз кончился разрывом. Сам Вальзер, очевидно, переживал его болезненно – при всем упрямстве и верности себе в его характере ничего не было от борца. Он, как и его герои, мог только бежать. И он бежал – сначала на дно берлинской жизни, в какую-то ночлежку, поселившись в которой, он три года – с десятого по двенадцатый – не подавал о себе никаких вестей, а потом в родной Биль, где повел прежнюю жизнь писателя-затворника. В творческом отношении это время было почти такое же продуктивное, как берлинское. Основой повествования осталась внутренняя ретроспектива, хотя юношеская приподнятость тона стала постепенно исчезать. Спокойно и неспешно, с добрым, лукавым юмором Вальзер эпизод за эпизодом стал вспоминать историю двух своих набегов на культурные столицы, облекая их в прозрачную и чеканную прозу. Так возникли «Вюрцбург», «Удел поэта», «Жизнь художника» с десятками вариаций этой ностальгической темы. Писатель, всегда бывший страстным поклонником бродяжьего духа, исходивший пешком всю Швейцарию и половину Германии, создал свою «Оду пешему ходу» (Цветаева) в программном рассказе «Прогулка», в котором дана квинтэссенция его художественного видения мира как «анонимной поэзии окружающего» (рецензионная формулировка поэта Оскара Лёрке).
Бильский период был продуктивным, но успех не приходил; более того, таяла даже нажитая в Берлине слава. Иной раз Вальзер пытался возбудить в себе прежний пыл критического социального бытописания, давший некогда «Помощника», но на сколько-нибудь пространное полотно его теперь не хватало, замах тратился на чуть наивный, хотя и трогательный лубок (рассказ «Коммерсант») или, в лучшем случае, зорко схваченную и тонко написанную миниатюру («История Хельблинга»). Его более или менее охотно печатали разные швейцарские и немецкие газеты и журналы, но значительную часть присланного им возвращали. Лейпцигский издатель Курт Вольф, приютивший экспрессионистов, одну за другой выпустил три тоненьких книжечки этюдов Роберта Вальзера, которые, несмотря на взаимное охлаждение, согласился иллюстрировать его брат Карл. Об этих книгах с восторгом писали – все те же Лёрке, Блей, Гессе, но публика рецензентов не слушала, книги не расходились. Нужду Вальзер терпел беспросветную, особенно в годы войны, когда ему нечем было топить и он писал, не снимая пальто. Не раз он искал приюта у Лизы, учительствовавшей в сельской школе. Не без охоты отбывал периодическую воинскую повинность на швейцарской границе: это давало пищу и желудку и писательским наблюдениям.
Жить временами было совершенно не на что, но Вальзер не роптал, вдохновляясь великими примерами: в письме Фриде Мермет он излагает лишения, которые терпел «великий русский писатель Николай Гоголь», как нормальное существование истинного писателя. Как бы там ни было, но стилем его жизни стал излюбленный, добровольно им избранный модус незаметности. А любимым занятием, помимо писательства, прогулки по горным тропам Юры – по следам Гёльдерлина, Форстера, Ленца, Клейста, таких же неприкаянных страстотерпцев слова.
В эти годы Вальзер стал переходить, по его словам, на «карандашную систему»: шел на прогулку, беря с собой блокнот и карандаш, как художник, отправляющийся на этюды. К этому времени относятся его мимолетные по форме, но внимательные и проникновенные пейзажные зарисовки. Казалось, и в литературном отношении Вальзер ступил на тропу своих предшественников – «чувствительных» швейцарских идилликов конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века. Но время было другое. Ощущение кризиса прежних установлений и форм жизни овладевало западной литературой все сильнее. На смену прекраснодушным утопиям былого времени являлись мрачные антиутопии, на смену красивой меланхолии – отчаяние; подспудно клокочущее, смирением заглушенное отчаяние придает идиллиям Вальзера оттенок трагического звучания («На край света»).
Карандаш, извлекаемый на прогулке, дает беглые, легкие как пунктир зарисовки. По сути дела, какую бы форму ни принимали создаваемые Вальзером этюды – форму анекдота, сказки, очерка, диалога, воспоминания – это всегда дневник, лирическая форма исповеди, самопризнания. Для Вальзера такая, субъективно-лирическая, исповедальная форма была делом не головного убеждения, а естественным и само собой разумеющимся свойством писательской натуры. Читая, думая, вглядываясь в жизнь людей, он все мерил на собственный аршин, и даже начав описывать кого-нибудь постороннего, тут же наделял его собственными чертами («История Хельблинга»). При устойчивости возникавшего таким образом типа героя никакой социальной типологии не получалось: выходила несколько странная смесь своего и чужого, а реалистически метко схваченный образ вдруг окутывался неким романтическим ореолом. Тот же обуянный «образовательным зудом» домогательства денег и титулов Хельблинг никак не укладывается в типаж западного служащего двадцатых годов (в изображении Фаллады, Кестнера, Брехта), потому что автор придал ему лукаво-наивные и трогательно-целомудренные – свои собственные – черты неисправимого мальчишки-школяра.
Свою судьбу, свой духовный путь, свою душевную структуру Вальзер проецирует и на тех писателей, о которых пишет – будь то близкие ему по настроению романтики или, например, Достоевский. Потрясенный «Идиотом», Вальзер записывает в блокнот свои впечатления. На Достоевского в это время в странах немецкого языка, как и вообще в Европе, повальная мода, и на какое только витийствующее словопрение не подвигнул русский писатель Музиля, Гессе или Томаса Манна. Ничего подобного у Вальзера («Великие общечеловеческие идеалы никогда не увлекали меня… моя жизнь состоит из мелочей»: «История Хельблинга»). Вальзер ищет, какое место он, Вальзер, мог бы занять среди героев романа, и сокрушается, что места ему, по его малости, в мире грандиозных страстей не находится.
«Маленькие поэмы», «Малая проза» – так называются его книги десятых годов. И о писательской миссии он самого скромного мнения. Он любуется воинствующим пацифизмом Гессе в годы первой мировой войны, но не может его разделить, потому что, как он признается в письме к Гессе, не верит в то, что мир могут изменить «сто тысяч Гамлетов». Это не мешает ему, впрочем, высказать свою точку зрения на шовинизм и милитаризм со всей прямотой и резкостью (очерк «Баста»).
То ли вынужденно, то ли по привычке, но и в Цюрих по делам он отправляется пешком, тратя несколько дней на дорогу. Останавливался там в дешевой меблирашке на Шпигельштрассе – той самой, где жил когда-то в эмиграции немецкий писатель и революционер Бюхнер. Теперь на той же улице с Вальзером соседствовал русский эмигрант, обитатели дома говорили, будто известный революционер. Позднее, в двадцатые годы Вальзер увидел в газете портрет Ленина и узнал в нем человека, с которым раскланивался в булочной на Шпигельштрассе.
Вряд ли кто-нибудь во всем Биле вел жизнь более неприметную и однообразную. Лишь однажды случай напомнил о промелькнувшей берлинской феерии. На гастроли в Биль приехала труппа во главе с блистательным Моисси. Актер высмотрел в зале Вальзера и в антракте бросился ему на шею – им было что вспомнить. Горожане потом долго судачили, удивляясь, откуда могут быть такие экстравагантные знакомства у их скромного земляка.
Во время войны и в годы инфляции после нее жить литературным трудом было все труднее. О субсидиях и авансах не приходилось даже мечтать. Наконец, на грани полной нищеты он был вынужден искать какую-нибудь службу, что было тоже непросто. В 1921 году освободилось место библиотекаря в бернском архиве и Вальзер по протекции друзей его занял.
От места, впрочем, он вынужден был отказаться, но в Берне остался. Город устраивал его том, что в нем не было у него знакомых. Восемь лет, там проведенных, составили четвертый, бернский – после цюрихского, берлинского, бильского – период его творчества. Это были годы заката. Писалось все труднее, а сбывалось написанное все хуже. За все двадцатые годы у Вальзера вышла всего лишь одна книга – сборник «Роза» у гамбуржца Ровольта в 1924 году. Это были этюды, наброски, дневниковые заметки и зарисовки, которые широкого читателя могли заинтересовать еще меньше, чем его прежние книги. Редактор «Нойе цюрихер цайтунг», газеты, в которой он долгие годы регулярно печатался, вынужден был прервать с ним сотрудничество из-за многочисленных протестов читателей – они желали видеть в газете какой-нибудь остросюжетный роман, а не бессюжетную, больше на стихи похожую, клочковатую прозу с непременными, надоевшими обывателю обличениями – вроде тех, что содержал его очерк «Баста». Вальзер попытался даже потрафить вкусу публики и в 1925 году написал «криминальный» роман «Разбойник», но себя пересилить не смог: и обличений в романе было предостаточно, в частности давних недругов, все тех же эстетов-фарисеев, и сюжет был слишком размыт непопулярными во времена «новой деловитости» лирическими излияниями. Роман не нашел издателя.
Нервных сил писание занимало все больше, перерывы между отдельными вещами становились все продолжительнее. Зато расцветает переписка – к двадцатым годам относится, пожалуй, самая блистательная часть его эпистолярного наследия. И если очень трезво смотреть, – самая чудаковатая, донкихотская. Наряду с Фридой Мермет у него появляются еще две корреспондентки, обе еще очень юного, девического возраста – семнадцатилетняя служанка и ее ровесница, гимназистка, которую Вальзер никогда не видел, но с которой состоял в долгой и весьма пылкой переписке. Что-то юношеское, почти инфантильное было в нем неистребимо.
Большая часть напечатанного Вальзером в двадцатые годы появилась в пражских газетах благодаря его старому поклоннику Максу Броду. Появились и новые, отчасти влиятельные в литературных кругах почитатели – такие, как прозаик Альбин Цоллингер или критик Маис Рихнер – крупнейший швейцарский критик XX века, вполне отдававший себе отчет в том, с писателем какого значения он имеет дело. В одной из рецензий Рихнер назвал Вальзера «Шекспиром крохотной прозы»: забавная рифма ситуаций, если вспомнить о мюнхенском прозвище писателя в его юные годы. Чуть позже в творчество Вальзера буквально влюбился писатель Карл Зеелиг, много сделавший для того, чтобы привлечь внимание общественности к непризнанному и незаметному мастеру швейцарской прозы. Благодаря усилиям молодого поколения возможности печататься, вероятно, и расширились бы, но силы были уже на исходе. Родственник одного из писателей заведовал психиатрической клиникой в окрестностях Берна. Посоветовавшись с Лизой, Роберт Вальзер решил, что этот приют может стать для него надежным убежищем от непосильных забот и волнений. С 1929 года временно, а с 1933 года постоянно он до самой смерти жил в клинике. Ничего не писал, кроме писем, читал только Дюма, Жюля Верна и прочую необременительную для головы литературу, каждый день ходил в горы. Конечно, то была не болезнь – позже это установила и медицинская экспертиза. То была смертельная усталость человека, отдавшего все свои душевные силы литературе – и не дождавшегося ответного отклика, который мог бы эти силы обновить.
Вальзер провел в клинике почти столько же лет, сколько и его любимец Гёльдерлин в своем вынужденном заточении. Но аналогия напрашивается совсем другая. Она, правда, из области шахмат, но рискнем все же ее привести, помня о том, что любителей этой мудрой игры в нашей стране миллионы. Ровно столько же лет и именно те же самые годы провел в бельгийской лечебнице для душевнобольных великий польский шахматист, чемпион России предвоенных лет Акиба Рубинштейн. Он был вполне в здравом уме и отдавал себе отчет в своих поступках, но только весь пугливо сжимался и затихал, когда кто-нибудь неосторожно напоминал ему о шахматах. Партии, оставленные им миру, отличаются редким изяществом, естественностью, ясностью, простотой, которые доступны только «натуральному таланту». История культуры знает множество самых неожиданных параллелей…
Роберт Вальзер умер в погожий декабрьский день в самом конце 1956 года. Умер в горах на прогулке. Окрестные ребятишки нашли его распростертым на снегу – сбылось предсказание поэта, высказанное им в одном из стихотворений шестьдесят лет назад о том, что его примет снежный саван.
Архив писателя составил пять тысяч страниц, лишь недавно напечатанных полностью. Интерес к наследию Вальзера постоянно растет. Подобно многим своим современникам, он, «аутсайдер» при жизни, признается потомками классиком современной литературы.
Двадцатый век еще не кончился, но он уже успел пересмотреть многие литературные репутации. В последнее время заметно выросли в цене как раз «певцы природы», отношение к которым долгое время было скорее снисходительное: есть же, мол, чудаки, что в наш динамичный и жестковатый век воспевают рощи и кущи, проповедуют какую-то слащавую любовь к былинкам и букашкам. Как вдруг выяснилось: превращать природу в мастерскую по рецепту тургеневского нигилиста Базарова означает толкнуть человечество на путь самоубийства. Охрана природы, экология стала важнейшей проблемой и планетарной заботой. А чуткие к этой заботе писатели недавнего прошлого, такие, например, как наш Пришвин, перестали казаться наивными чудаками – их чудачество оказалось прозорливым и мудрым. А их творчество – посильный литературе заслон на пути бесноватых пособников новой катастрофы, грозящей в наши дни миру.
На Западе к этому добавились социальные сложности. Положенный там в основу общественных отношений принцип накопительства, обогащения, потребления завел в тупик, как и научно-техническое истребление природы. Тирания вещей угрожает расчеловечиванием человека, полным распадом личности. В обуянном жаждой наживы обществе все громче раздаются голоса, призывающие одуматься, вспомнить о ценностях, которые не стоят ни гроша, но ради которых только и стоит жить. Эти ценности – духовные, они в наслаждении искусством, в созерцании природы, в тяжком, но радостном труде самосовершенствования, в раскрытии творческого потенциала, в роскоши человеческого общения. Да, да, те самые, стародавние ценности, о которых веками твердили мудрецы всех стран, в особенности восточных. Как вдруг кто-то напоминает, что за такой мудростью вовсе не надо ходить далеко, не обязательно совершать «Паломничество в страну Востока» (так назвал Гессе свою известную повесть).
Наши современники-швейцарцы, в особенности молодые, бунтующие против идеалов и порядков своей страны под расплывчатым флагом возврата к естественности и природе, нашли такого пророка в своей родной литературе – в лице Роберта Вальзера. «Не как артист, не как виртуоз стиля будет он принят, а как утешитель и помощник в многотрудных заботах души нашей» – предсказывал один из современников Вальзера.
Утешитель, помощник… «Помощником» называется роман Вальзера, и в этом названии можно увидеть программу. Быть помощником, скромным слугой, утешающим тех, кому он служит, – в этом Вальзер видел свое назначение и человека, и литератора. Скажем прямо: эта роль бесконечно далека от какого-то социального реформаторства, от каких-либо попыток переделки мира. Но в условиях затхлой, шелестящей купюрами, дышащей на злато Швейцарии и такая подчеркнуто скромная роль является вызовом и протестом. Пощечиной общественному вкусу, может быть, более звонкой, чем скандальные выходки дадаистов. И уж во всяком случае более действенной.
Словом, ход времени не отдалил, а приблизил к нам Вальзера.








