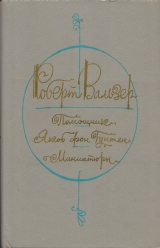
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Фройляйн Беньямента обменялась со мной несколькими словами на кухне. Я уже хотел было идти в комнату, когда она, не глядя на меня, спросила: «Как твои дела, Якоб? Все в порядке?» Я немедленно принял стойку покорности, как положено, и ответил смиренно: «О, разумеется, милостивая сударыня. Мои дела могут быть только в полном порядке». Она, слабо улыбнувшись, спросила: «То есть? Что ты этим хочешь сказать?» И поглядела через плечо. Я ответил: «Мне ничего не нужно». Она, коротко взглянув на меня, помолчала. А потом сказала: «Можешь идти, Якоб. Ты свободен. Можешь идти». Я, как нам предписано, низко поклонился ей и поплелся к себе. Не прошло и пяти минут, как в мою дверь постучали. Я рванулся к порогу, этот стук я знал. Передо мной стояла она. «Скажи-ка, Якоб, ты ладишь со своими товарищами?» – спросила она. – Не правда ли, они милые люди?» Я ответил, что все они, без исключения, кажутся мне достойнейшими людьми, заслуживающими самого дружеского расположения. Учительница, хитро сверкнув своими прекрасными глазами, сказала: «Ну уж! А вот с Краусом-то ты ссоришься. Или это тоже, по-твоему, признак дружеского расположения?» Я ответил без колебаний: «В известном смысле, конечно, фройляйн. К тому же ссоры наши не очень серьезны. Если б Краус был проницателен, он бы понял, что я даже предпочитаю его всем остальным. Я очень, очень уважаю Крауса. И мне было бы больно, если б вы мне не поверили». Она схватила мою руку, слегка пожала ее и сказала: «Успокойся же, не горячись так. Смотрите какой он горячий! Если дело обстоит так, как ты говоришь, то я могу быть довольна. И останусь довольна и впредь, если ты будешь продолжать вести себя благоразумно. Запомни: Краус великолепный мальчик, и ты очень обидишь меня, если будешь плохо к нему относиться. Будь с ним ласков. Очень прошу тебя об этом. И не будь таким букой. Ты же видишь, я не сержусь на тебя. Экий избалованный аристократ-капризуля. Краус такой хороший человек. Не правда ли, Краус очень хороший человек, а, Якоб?» Я сказал: «Да». Только «да», и ничего больше, а потом почему-то рассмеялся самым дурацким образом, сам не знаю почему. Она покачала головой и ушла. И что меня дернуло рассмеяться? Сам не пойму. Но все это пустяки. Когда же я обзаведусь деньгами? Вот что мне кажется важным. В моих глазах деньги представляют сейчас ценность идеальную. Я чуть с ума не схожу, когда слышу звон монет. Конечно, я сыт, но что толку. Я хочу быть богатым, хочу потерять голову, закружиться в вихре жизни. Без этого я скоро вообще не смогу смотреть на еду.
Если б я был богат, я бы вовсе не стал путешествовать вокруг света. Хотя, впрочем, и это неплохо. Но меня мало увлекает возможность беглого знакомства с неизведанным. Вообще я бы не стал, как это называют, расширять образование. Меня больше привлекает глубина, а не ширь, душа, а не пространство. Изучить то, что находится рядом, – вот к чему меня тянет. И я бы не стал ничего приобретать, ничем обзаводиться. Элегантные костюмы, тонкое белье, цилиндр, скромные золотые запонки, длинные лакированные туфли – вот, пожалуй, и все, что мне требуется. Ни дома, ни сада, ни слуги – впрочем, слугу я бы завел, нанял бы отменно корректного Крауса. И начал бы жить. Вышел бы на улицу в клубах тумана. Зима с ее меланхолической стужей так подошла бы к моим золотым штуковинам. Банкноты я держал бы в простом бумажнике. Ходил бы пешком, как обычно, подсознательно радуясь тому, что храню в тайне свое сказочное богатство. Может быть, шел бы снег. Мне все равно, даже напротив, еще лучше. Ватный снегопад в свете вечерних фонарей. Серебрится, сверкает, искрится. Никогда в жизни не пришла бы мне в голову мысль сесть в карету. Пусть это делают те, кто спешит или кто хочет казаться важным. А я бы и тогда не захотел казаться важным, а уж спешить мне и подавно было бы некуда. Я бы ходил пешком, обдумывая разные мысли. Внезапно мне встретился бы кто-нибудь, я бы сначала поприветствовал его, а уж потом посмотрел, кто это. Все вежливо, чинно. Оказалось бы, что это мужчина и, смотрите-ка, ему плохо. Я бы заметил это, а не увидел, такие вещи замечают, увидеть это нельзя, хотя по каким-то признакам это видишь. Ну вот, и мужчина спросил бы, чего мне угодно, и по тону я бы догадался, что он из образованных и интеллигентных. Была бы в его тоне та особая простота и мягкость, и это потрясло бы меня. Потому что я бы ждал скорее грубого тона. «Человек этот глубоко страдает, – сказал бы я себе, – иначе бы он рассердился». И больше я бы ничего не сказал, ничего совершенно, а только смотрел бы и смотрел на него. Не пронзительным взглядом, о нет, совсем просто, быть может, даже чуть весело. И наконец я бы узнал его. И достал бы свой бумажник, и вынул бы из него ровно десять тысяч марок десятью большими купюрами, и отдал бы их этому человеку. После чего приподнял бы галантно шляпу, попрощался бы и удалился. А снег бы все шел и шел. И на ходу я бы совсем перестал думать, чувствовал бы себя слишком хорошо для этого. Прозябающему в ужасной нищете художнику – вот кому я отдал бы деньги. Я бы не ошибся, и не испытывал бы сомнений. И одной большой, вопиющей нуждой стало бы в мире меньше. Вот так, а на другой день я надумал бы что-нибудь еще. Во всяком случае, я не стал бы путешествовать вокруг света, а совершал бы какие-нибудь глупости и чудачества. Устроил бы, например, какой-нибудь фантастически-грандиозный бал или какую-нибудь небывалую вакханалию. Десятки тысяч людей приняли бы в ней участие. Я бы истратил деньги каким-нибудь ошеломительным способом, потому что только истраченные деньги прекрасны. И однажды я стал бы побираться, светило бы солнце, а я бы сидел с протянутой рукой и тихо радовался бы чему-то. Тут подошла бы мама и бросилась бы мне на шею… Ах, какие сладкие грезы!
Что-то древнее есть в лице и самом существе Крауса, в том впечатлении, которое он производит, и это впечатление отсылает нас в Палестину. На лице соученика моего оживают времена Авраама. Вдруг выплывает из колодца забвения и по-отечески смотрит на тебя древняя патриархальная эпоха с ее загадочными ландшафтами и обычаями. Кажется, будто в ту пору на свете существовали одни только мужи с каменными лицами и длинными темными барашковыми бородами, чего не может быть, конечно, и в то же время это неверное представление так похоже на правду. Да, в ту пору! Уже само это слово напоминает об отчем доме. В древние иудейские времена бывали еще такие пары, как Исаак и Авраам, что жили себе бесконечно долго в полном довольстве, обладая богатым имуществом, и при этом пользовались всеобщим почетом. Почтенный возраст тогда отдавал величием. Старики были тогда как цари, а каждый прожитый год прибавлял величавости к сану. А какими эти старики оставались молодыми! В сто лет они еще зачинали сыновей и дочерей. Зубных врачей тогда и в помине не было, и поэтому, надо полагать, ни у кого не болели зубы. А как прекрасен этот египетский Иосиф. В Краусе есть что-то от Иосифа, когда тот был в доме Потифара. Мальчиком попадает он в рабство и, смотри-ка, постепенно становится богатейшим, почтенным и знатным человеком. Вот он еще только раб в доме, но живется ему хорошо. Законы были в те времена, может, не слишком гуманны, зато нравы и обычаи куда снисходительнее к человеку и тоньше. В наше время рабу пришлось бы так худо, что не приведи господь! Кстати, среди нас, современных, деловых и надменных людей, полным-полно рабов. Мы, современные люди, в каком-то смысле все, может быть, рабы, обуянные неотступными, грубыми, как плеть, мыслями о мировом господстве. Что ж, и однажды госпожа дома требует от Иосифа, чтобы он ей подчинился. Как странно, что и по сей день всему миру известны все эти закулисные истории, что они передаются из эпохи в эпоху, из уст в уста. В любой начальной школе изучают историю, что же сетовать на сплетников, педантично сортирующих детали. Презренны люди, отвергающие прекрасный педантизм, они ограниченны, духовно недальновидны. Ну вот, а Краус, то бишь Иосиф, отказался ей подчиниться. Но то вполне мог быть и Краус, потому что в нем есть что-то иосифо-прекрасное. «Нет, милостивая госпожа, я не сделаю этого. Я обязан хранить верность своему господину». И тогда взбешенная госпожа идет и наговаривает на юного слугу, будто он совершил непотребство, посягнув на жену своего господина. Но дальше я ничего не знаю. Странно, но я не помню, что на это сказал Потифар и как он поступил. Зато Нил вижу перед собой как сейчас. Краус, как никто на свете, подходит на роль Иосифа. Лицо, фигура, осанка, прическа, движения – все в нем точно такое же. Даже его, к несчастью все еще не исцеленная, болезнь кожи. В прыщиках есть что-то библейское, восточное. А мораль, характер, неукоснительное соблюдение добродетельного юношеского целомудрия? Все чудесным образом сходится. Иосиф египетский тоже, верно, был маленький непрошибаемый педант, иначе он внял бы зову вожделеющей женщины и нарушил бы верность своему господину. Краус поступил бы в точности так, как его древнеегипетский прототип. Воздел бы заклинающе руки свои и голосом, в коем мольба мешалась бы с приговором, произнес: «Нет, нет, я не сделаю этого» и так далее.
Милый Краус! Все-то мысли мои кружат вокруг него. На его примере хорошо можно видеть, что, собственно, значит слово «образование». В будущем, где бы Краус ни был, его будут считать дельным малым, но необразованным, в то время как мне-то кажется, что именно Краус образован лучше других, потому что он человек нерасторжимо-цельный. А как раз это и можно назвать образованием. Да, в Краусе нет нахватанных, шепелявящих знаний, зато в нем покоится что-то основательное и поэтому он, Краус, покоен. Под него можно заложить и душу. Он не станет хитрить, ловчить, наушничать, а вот это-то отсутствие грязи в человеке я и называю в первую очередь образованием. Болтун всегда обманывает ожидания, каким бы милым человеком он ни был, и эта его слабость – выбалтывать все, что он думает, – делает его несносным пошляком. Краус сдержан, он многое хранит в себе, он не любит трепа, и это действует на людей как проявление доброты и участия. Вот это и есть образование. Краус часто не миндальничает с людьми своего возраста и пола, и за это я очень люблю его, потому что вижу в этом доказательство того, что он не способен на вероломное предательство. Он ровен и порядочен в отношениях со всеми. А то ведь как часто бывает: ложное сюсюканье приводит людей к тому, что они постоянно вмешиваются и самым ужасным образом портят жизнь своим товарищам, соседям, братьям. Краус знает не много, но он никогда, никогда не бывает бездумен, он всегда подчиняется определенным собственным принципам, а это и есть образование. То в человеке, что заполнено любовью и мыслью, и есть образование. И еще многое, многое другое. То, например, как тонко чувствует Краус соблазн себялюбия и как в то же время уберегается от всякого и всяческого себялюбия. Это его качество и побудило, по-моему, фройляйн Беньямента спросить: «Краус ведь хороший человек, не правда ли, Якоб?» Да, он хороший. С этим товарищем я потерял бы и неземное благополучие, я знаю. И я почти страшусь теперь пускаться в прежние бездумные препирательства с ним. Мне хочется только смотреть на него, смотреть как можно пристальнее, чтобы навсегда запечатлеть в своей памяти его образ – единственное, что останется мне после того, как неумолимая жизнь нас разлучит.
Понимаю теперь, почему Краусу не отпущено никаких внешних достоинств, не дано телесной привлекательности, почему природа сплющила и обезобразила его, как карлика. У нее тут какой-то тайный замысел, она преследует в нем какую-то свою цель. То была, должно быть, слишком чистая душа, и потому природа заключила ее в неказистое, непривлекательное тело, чтобы уберечь ее от губительных внешних успехов. А может, было и по-другому, может, природа была просто не в настроении, когда создавала Крауса. Но как она теперь, вероятно, страдает оттого, что обошлась с ним так жестоко. Хотя, как знать, может, она и рада своему обнесенному милосердием шедевру, и у нее в самом деле есть все основания радоваться, потому что этот неграциозный Краус красивее любых грациозных и красивых людей. У него нет внешнего блеска, зато редкий дар прекрасного, доброго сердца, а его дурные, деревянные манеры, несмотря на всю свою деревянность, принадлежат к лучшим способам сообщения между людьми, которые выработало общество. Нет, успеха Краус иметь не будет – ни у женщин, которые найдут его слишком сухим и безобразным, ни вообще в светской жизни, где его не удостоят внимания, как не достойную внимания вещь. Не удостоят внимания? Да, и эта-то неприметность его судьбы и будет самое чудесное и загадочное в нем, напоминающее о мудрости творца. Всевышний посылает миру Крауса, чтобы загадать загадку. Да только этого не поймут даже, и никто не даст себе труда поломать голову над разгадкой, и как раз потому эта загадка-Краус так содержательна и глубока – ибо никто не захочет ее решать, ибо ни один человек не заподозрит даже, что за этим пустым местом, по названию Краус, кроется нечто загадочное, сложно задуманное, значительное. Краус – истинное творение божие, он слуга, то есть ничто. Простоват, годен на любую, и самую черную, работу, он сама безымянность, человек-имярек, к нему будут так относиться, и, странное дело, будут правы, ибо Краус, этот венец смирения, этот храм смирению, не только будет всю жизнь выполнять самую черную работу, но он будет желать этого, и только этого. Ничего другого нет у него на уме, как помогать, повиноваться, служить, и это скоро заметят и будут пользоваться этим, и в том, как этим будут пользоваться, заключена лучезарная, златотонная, божественная справедливость. Да, Краус воплощение праведного и совсем, совершенно однотонного, односложного и однозначного существа. Никто не ошибется на его счет, всяк заметит сразу, как он прост, и всяк станет презирать его, и он не добьется успеха. И я нахожу это очаровательным, совершенно очаровательным, трижды очаровательным. О, сотворенное богом так разумно и прелестно, полно глубокого замысла и глубоких чар. Может быть, мой язык найдут слишком напыщенным. По-моему же, ничего напыщенного в этих словах нет. Нет, ни любовь, ни слава, ни успех не коснутся Крауса, потому что успехи ничего не несут с собой, кроме порчи и дешевого цинизма в отношении к жизни. Стоит человеку добиться успеха, признания, как его не узнать: его так и раздувает самодовольство, так и возносит кверху надувной шар тщеславия. Боже, храни хорошего человека от признания толпы. Если оно не испортит его окончательно, то обязательно запутает и ослабит. Благодарность – да, это другое дело. Но Краусу никто не будет даже благодарен, да этого и не надо. Разве что раз в десять лет кто-нибудь скажет: «Спасибо, Краус», и тогда он глупо улыбнется своей безобразной улыбкой. Он будет непотопляем, мой Краус, любые и самые бесчеловечные трудности будут ему по плечу. Я полагаю, что я единственный человек, а может, наберется еще двое-трое таких, кто понимает, кого он имеет или имел перед собой в лице Крауса. Фройляйн, да, она понимает. Господин директор тоже, наверное. Даже наверняка. Господин Беньямента достаточно проницателен, чтобы понимать, чего стоит Краус. Но надо сегодня кончать писанину. Слишком уж разволновался. До одурения. Буквы мелькают и пляшут перед глазами.
За нашим домом старый запущенный сад. Когда я утром гляжу на него из окна канцелярии (а я через день должен убирать ее в паре с Краусом), мне становится жаль, что о нем никто не заботится, и всякий раз хочется сбежать вниз и навести там порядок. Но все это сентиментальность. Черт бы побрал эти мешающие жить слюни. К тому же в пансионе есть и другие сады. Но в этот сад, настоящий, заходить нельзя. Ни один воспитанник не имеет права входить в него, почему – я не знаю. Но, как я уже говорил, у нас есть другой сад, еще, может быть, красивее, чем тот, настоящий. В нашем учебнике «Какую цель ставит перед собой школа для мальчиков?» на странице восьмой значится: «Хорошее поведение – все равно что цветущий сад». В таких-то, духовных, вымышленных садах и положено резвиться нам, воспитанникам. Недурно. Если кто из нас ведет себя неподобающим образом, он, стало быть, пребывает в суровой и мрачной преисподней. Исправляет он свое поведение, – и в награду его допускают гулять по тенистым, в солнечных пятнах лужайкам. Как соблазнительно! А ведь с моей, бедного мальчика, точки зрения, в этом учебниковом параграфе есть какая-то правда. Если кто-нибудь ведет себя по-дурацки, то он должен испытывать стыд и угрызения совести, а это все равно что адские муки. А буде он внимателен и соблюл себя, то его словно берет за руку нечто невидимое, нежное и милое, как фея, и мягко переносит в сад, где он услаждает себя прогулкой под зелеными, нежными кущами. Если ученик пансиона Беньяменты доволен собой, что случается редко, – столько у нас всевозможных предписаний, не меньше, чем дождя, снега, града и молний у природы, – то его осеняет сладостный аромат скромной, но большими усилиями купленной похвалы. Хвалит нас фройляйн Беньямента – и по классу разливается благоухание, ругает – и воцаряется мрак. Какой странный мир – наша школа. Коли воспитанник был толков и учтив, то над головой его возникает нечто вроде лучезарного нимба, вобравшего в себя свет вымышленного сада. Если набрались мы, воспитанники, терпения и до конца выдержали тяготы себяобуздания, проявили, как у нас это называется, выдержку, то перед нашими слегка утомленными глазами будто загорается золотой свет, подобный небесному солнцу. Солнце светит тому, кто устал от праведных трудов. И если нет нам нужды подкарауливать нечистые желания друг друга, то – что это? Что слышим мы? То поют птицы! Да, то счастливые и красивые маленькие певцы из нашего сада, то их задушевное пение, их чарующий гомон. А теперь сами скажите: нужны ли нам, воспитанникам пансиона Беньяменты, иные сады, кроме созданных нашим воображением? Мы – богачи, если умеем себя вести, держась предустановленных приличий. Когда мне, например, хочется денег, что со мной бывает, к сожалению, слишком часто, я проваливаюсь в низины безнадежного, яростного вожделения: о как я страдаю тогда, как вопию и как сомневаюсь в спасении! А стоит мне взглянуть на Крауса, и меня охватывает глубокий, чудесный, шелестящий райскими листьями, плещущий райскими струями покой. Да, то мирные кущи, то прозрачно-струйные ручьи, что зеленеют и текут в нашем саду, от которого веет такой надежностью доброты. И как же мне после этого не любить Крауса?! Если б кто-нибудь из нас совершил героический поступок, то есть, рискуя жизнью, доказал свое мужество (как написано в нашем учебнике), то он поднялся бы в мраморный, белоколонный павильон в укромном углу нашего сада и там его бы поцеловали. Кто бы поцеловал, об этом в учебнике не сказано. Да и какие мы герои? Где уж! Во-первых, у нас нет никакой возможности совершить что-нибудь героическое, во-вторых, не знаю, способны ли на какие-нибудь жертвы люди вроде Жилинского или длинного Петера. Однако наш сад, на мой взгляд, хорош и без поцелуев, героев и белоколонных павильонов. Мороз прохватывает, едва заговорю про героев. Лучше уж помолчу.
Недавно я спросил Крауса, не испытывает ли он иногда чего-либо вроде скуки? Он посмотрел на меня с упреком, словно ставя на место, и, подумав, сказал: «Скука? Да ты не в своем уме, Якоб. Вопросы твои столь же наивны, сколь и порочны, позволю себе заметить. Кто вообще может скучать? Разве что ты. Мне, во всяком случае, не до скуки. Вот, учу наизусть эту книгу. Посуди, есть ли мне время скучать? Глупо и спрашивать. Благородные люди, может, и скучают, но не Краус. Или еще вот ты скучаешь, иначе не стал бы думать бог весть о чем, да еще спрашивать меня о том же. Всегда ведь можно что-то делать, если не руками, то головой. Можно, например, бормотать. Да, Якоб, бормотать. Тебя, конечно, давно уже подмывает поднять меня на смех из-за того, что я бормочу, но скажи мне, знаешь ли ты, что именно я бормочу? Слова, дорогой мой Якоб, слова. Это укрепляет душевное здоровье. Так что оставь меня в покое со своей скукой. Скука знакома тем людям, что всё ждут, чтобы случилось что-нибудь эдакое, что придало бы им сил. Дурное настроение, тоска – вот что такое скука. Ступай же, не докучай мне, дай мне учить, займись и сам делом. Помучайся над чем-нибудь до изнеможения, тогда тебе наверняка будет не до скуки. И, пожалуйста, воздержись в дальнейшем от таких дурацких вопросов, которые только могут вывести человека из равновесия». Я спросил: «Ну что, выговорился наконец, Краус?» И засмеялся. Но он посмотрел на меня с состраданием. Нет, Краус никогда, никогда не станет скучать. Я и так это знал, хотел только немного его подразнить. Как это некрасиво с моей стороны, и как глупо. Мне нужно решительно измениться к лучшему. Какая дурная привычка – дразнить и злить Крауса. И все же нельзя удержаться. Слушать упреки его так весело. Есть что-то от отца Авраама в его призывах.
На днях приснилось мне нечто ужасное. Я был во сне очень, очень плохим, совершенно падшим человеком, но почему так случилось – понять было нельзя. Я был с головы до пят грубый и сырой кусок греховной, беспомощной, отвратительной человеческой плоти. Я был толст и, очевидно, преуспевающ. Кольца сверкали на пальцах моих жирных рук, а с живота свисал целый центнер почтенного сала. Я мог приказывать, капризничать. Рядом со мной, на богато уставленном яствами столе теснились предметы ненасытимо-вожделеющего глада и жажды, сосуды с вином и ликером, самые отборные холодные закуски. Стоило лишь протянуть руку, чтобы обладать ими, и время от времени я это делал. На ножах и вилках застыли слезы изничтоженных противников, а в звоне бокалов слышались тяжкие вздохи многих бедняков. Но следы слез вызывали только мой смех, а безутешные вздохи отзывались в ушах моих музыкой. Мне нужна была сопроводительная музыка к обеду, и я имел ее. По всей видимости, я сделал очень недурной гешефт на неблагополучии других людей, и это радовало меня до самых кишок. О, как ликовал я от сознания, что обездолил ближних своих! Я взял колокольчик и позвонил. Вошла, пардон, вползла старая-престарая старуха, то была сама Мудрость, и она ползла к моим стопам, чтобы поцеловать их. И я позволил это ей, падшей. Подумать только – сам опыт, сам благородный, мудрый закон лизал мне подошвы. Вот что значит богатство. И снова я позвонил, потому что какая-то блоха укусила меня, уж не знаю куда, и мне захотелось иных удовольствий, и возникла передо мной юная дева, настоящий лакомый кусок для меня, сластолюбца. Стыдливость – звалась та, что, косясь на лежавшую рядом со мной плетку, принялась меня ублажать, что необыкновенно меня освежало. Страх и преждевременное познание стояли в ее детских, красивых, как у газели, глазах. Когда же мне надоело, позвонил я снова и вошел серьезный смысл жизни – молодой, красивый, стройный, но бедный человек. То был один из моих лакеев, и я приказал ему привести другого, как бишь его, запамятовал, ах да, конечно, – Трудолюбие. Вскоре затем явилось Усердие, и я не отказал себе в удовольствии хлестнуть плеткой по спокойно ожидающей физиономии этого полноценного, великолепно сложенного трудяги. Смех, да и только. И прирожденный старательный созидатель стерпел. Потом я, так и быть, пригласил его выпить со мной вина – ленивым покровительственным жестом – и этот простофиля испил от напитка позора. «Ступай, трудись на меня», – отослал я его, и он ушел. Затем, плача, вошла Добродетель, женщина неземной красоты для всякого, кто сохранил еще хоть какое-нибудь чувство. Я посадил ее на колени и совершил с ней непотребство. Похитив же у нее неоценимое сокровище ее – идеал, я с издевками прогнал ее, и вот я свистнул, и явился сам господь бог. Я закричал: «Как? И ты тоже?» – и проснулся в холодном поту. И как же я был рад, что все это оказалось сном! Господи, можно ли мне надеяться, что из меня еще выйдет что-нибудь путное? Как во сне близки мы к безумию. Как выпучился бы на меня Краус, если б я рассказал ему о том, что мне снилось.
Наше почитание фройляйн выглядит смешно. Но мне нравится все смешное, в нем всегда есть что-то от волшебства. В восемь у нас начинаются занятия. Уже за десять минут до этого мы, воспитанники, в позе напряженного ожидания сидим на своих местах и неподвижно смотрим на дверь, в которой должна появиться начальница. Этот способ предупредительного изъявления своего усердия также предписан нам правилами. Прислушиваться к шагам той, что должна вот-вот войти, это нам предписано правилами, это как закон. Мы, как первоклашки, должны десять минут готовиться к тому, чтобы вскочить со своих мест в нужный момент. Во всех этих мелочных требованиях есть мелкие унижения, которые выглядят смешно, но нас должна заботить честь не собственная, а пансиона Беньяменты, и это, видимо, правильно, ибо разве может быть честь у какого-то ученика? Не может быть и речи. Подвергаться опеке и муштре – вот в чем состоит наша честь. Дрессура – вот наша честь, это же ясно как день. Но мы и не восстаем против этого. Никогда не пришло бы нам в голову восстать. Для этого мы слишком мало задумываемся. Я, может, единственный здесь, кто задумывается, но в глубине души я презираю свою способность суждения. Я ценю только опыт, а он, как правило, далек от всякого размышления, от всяких сравнений. Так, я ценю свое умение открывать дверь. Открыть правильно дверь – в этом больше жизни, чем правильно поставить вопрос. Конечно, все вокруг нас располагает к вопросам и сравнениям и воспоминаниям. Думать тоже, конечно, нужно, причем очень много. Но подчиняться – в этом гораздо больше изыска, чем в том, чтобы думать. Когда думаешь, напрягаешься, а это делает безобразным и вредит делу. Ах, если б мыслители знали, сколько они причиняют вреда! Тот же, кто не приучен думать, делает что-нибудь, а это куда полезнее. Десятки тысяч голов во всем мире работают напрасно. Ясно как день. У рода человеческого ослабевает воля к жизни от всех этих знаний-познаний. Если, к примеру, ученик пансиона Беньяменты не знает, что он благовоспитан, то он – благовоспитан. Знает же он об этом – значит достоинства его мнимы, а цели порочны. Сбегаю-ка я лучше вниз. А то разболтался.
Хорошо все-таки иметь некоторое состояние и держать в порядке свои дела. Я побывал в квартире своего брата, и должен сказать, что она приятно меня поразила: обставлена прямо-таки в старом гунтеновском стиле. Одно то, что весь пол застлан мягким ковром голубовато-серого цвета, понравилось мне чрезвычайно. Всюду в комнатах царит вкус, но не бьющий в глаза вкус, а определенный, строгий выбор. Мебель расставлена с каким-то добросердечием, она словно любезно приветствует всякого входящего. Зеркала на стенах, одно зеркало совершенно огромное, от пола до потолка. Отдельные предметы производят впечатление старых и в то же время не очень старых, изысканных, и все же не слишком, дорогих и недорогих одновременно. Доброта и тщательность правили здесь свой порядок, и это чувствуется, это приятно. Добрая и продуманная воля поместила здесь это зеркало, а здесь – эту красиво изогнутую кровать. Я бы не был одним из фон Гунтенов, если бы не заметил этого. Все чисто, нигде ни пылинки, но ничто не блестит, а просто спокойно и весело поглядывает вокруг. Ничто не лезет в глаза. Значительное и прелестное впечатление производит только все вместе. Красивая черная кошка лежала на темно-пунцовом плюшевом кресле, уютный комочек черного бархата на красном. Очень мило. Будь я художником, я бы написал эту негу изнеженного зверя. Брат встретил меня очень любезно, общались мы как безупречно светские люди, умеющие извлекать удовольствие из приличий. Болтали. Тут на мягких лапах радостно припрыгал большой, стройный, белый как снег, пес. Разумеется, я его погладил. Все красиво в квартире Иоганна. С любовью и тщанием собрал он у антикваров отдельные предметы мебели и картины, пока его собрание не приобрело живую цельность. Простыми средствами и в скромных границах ему удалось достичь совершенства гармонии, так что необходимое и полезное в его квартире составляют единое и прекрасное целое с красивым и грациозным. Вскоре после меня пришла молодая женщина, которой Иоганн меня представил. Мы потом вместе пили чай и очень развеселились. Кошка мяукала, косясь на молоко, а пес желал получить пирожное со стола. Оба желания животных были удовлетворены. Наступил вечер, мне пора было возвращаться.
Здесь, в пансионе Беньяменты, мы учимся испытывать и переносить утраты, то есть мы упражняемся в том, без чего любой человек, каким бы значительным он ни был, останется ребенком, чем-то вроде плаксивого кутенка. Мы, воспитанники, ни на что не надеемся, нам строжайше запрещено пестовать в груди своей какие-нибудь надежды, и в то же время мы совершенно спокойны и не унываем. Как такое могло случиться? Не парит ли какой ангел-хранитель над нашими аккуратно причесанными головами? Не знаю. Может быть, мы не знаем забот и не унываем, потому что ограниченны? Тоже возможно. Но разве от этого веселие и бодрость наших сердец значат меньше? Разве можно назвать нас глупыми? Мы в вечном движении.
Подсознательно или осознанно, но мы на многое обращаем внимание, ко многому воспаряем, во все стороны рассылаем свои ощущения за опытом и наблюдениями. Многое способно нас утешить, потому что мы люди ищущие, прилежные и не слишком высоко себя ценим. Кто ценит себя высоко, тот не может быть застрахован от терзаний и унижений, потому что человеку уверенному всегда встретится на жизненном пути то, что поколеблет его уверенность. В то же время мы, ученики, вовсе не лишены достоинства, но это очень, очень подвижное, маленькое, юркое и ползучее достоинство. Мы то снимаем, то надеваем его снова, смотря по обстоятельствам. Дети ли мы природы или продукты культуры, то есть чего-то более высокого? И этого я не знаю. Зато одно знаю наверное: мы ждем! И в том наша ценность. Да, мы ждем, прислушиваясь к жизни, прислушиваясь к пустыне, именуемой миром, прислушиваясь к бушующему морю. Фукс, кстати, оставил школу. Чему я весьма рад. С этим человеком я не желаю знаться.
Я имел разговор с господином Беньяментой, то есть это он имел со мной разговор. «Якоб, – сказал он мне, – скажи, не кажется ли тебе, что жизнь, которую ты здесь ведешь, очень бедная жизнь, очень, очень бедная? А? Я хочу знать твое мнение. Говори без обиняков». Я предпочел промолчать, но не из упрямства. Упрямства во мне давно никакого не осталось. Но я молчал, словно бы говоря: «Сударь, позвольте мне промолчать. На подобный вопрос я мог бы дать только непристойный ответ». Господин Беньямента внимательно посмотрел на меня и, я думаю, понял, почему я молчу. Так и было, потому что через некоторое время он улыбнулся и сказал: «Не правда ли, Якоб, ты удивлен тому, как лениво и вроде бы отрешенно живем мы здесь, в пансионе? Не так ли? Ведь ты обратил на это внимание? Но я вовсе не хочу подловить тебя на опрометчивом ответе. Я должен тебе кое в чем признаться, Якоб. Я, знаешь ли, считаю тебя умным и порядочным молодым человеком. Можешь в ответ на это дерзить. И еще я испытываю потребность открыть тебе, я, твой директор, желаю тебе добра. И еще одно, третье признание. Странным, невероятным, каким-то стихийным образом ты мне полюбился. Ну вот теперь ты станешь дерзить, не правда ли, Якоб? Не правда ли, ты будешь третировать меня после того, как я открылся? И ты покажешь свой норов? Ведь верно? Верно?» Оба мы, он, бородатый мужчина, и я, мальчишка, смотрели друг другу в глаза. Это походило на внутреннюю борьбу воли с волей. Я уж хотел было открыть рот, чтобы сказать что-нибудь раболепное, но сумел совладать с собой и промолчал. И тут же заметил, что по гигантскому телу директора словно бы пробегает мелкая дрожь. С этого момента между нами как будто возникла какая-то незримая связь, я чувствовал это, не только чувствовал, но и знал. «Господин Беньямента уважает меня», – сказал я себе и вследствие этой, осенившей меня, как молния, мысли я счел приличным и даже необходимым промолчать. Увы мне, если б я сказал хоть слово. Одно-единственное слово низвело бы меня до уровня маленького, забитого воспитанника, в то время как я только что был возведен в сан свободного и достойного человека. Все это в миг открылось моей интуиции, и теперь я знаю, что она не ошиблась. Я вел себя верно… Директор подошел ко мне вплотную и сказал: «В тебе есть что-то значительное, Якоб». Он сделал паузу, и я понял почему. Он хотел видеть, как я себя поведу. Я заметил это, поэтому не шевельнул и бровью, а прямо и неподвижно как истукан смотрел перед собой. Потом мы снова посмотрели друг на друга. В моих глазах была строгость и твердость. Мне бы хотелось смеяться от радости, но я изображал холодность и равнодушие. Но в то же время я видел: он доволен моим поведением. Наконец он сказал: «Ступай, мой мальчик, займись чем-нибудь. Поработай. Или поговори с Краусом. Ступай». Я низко, как и всегда, поклонился и вышел. В коридоре – это входит уже в привычку – я опять остановился и прижался ухом к замочной скважине. Но в комнате было тихо, ничто там не шевелилось. Я тихо и счастливо рассмеялся как идиот, а потом отправился в класс, где в полумраке, выхваченный полосой света от коричневатого абажура настольной лампы, сидел в одиночестве Краус. Я долго стоял на пороге. В самом деле, очень долго, потому что было во всем что-то такое, чего я не мог понять. Чувство было такое, будто я дома. Нет, чувство было такое, будто я еще не родился, будто я погружен в теплые воды утробы. Вокруг теплынь и все расплывается перед глазами, как в море. Я подошел к Краусу и сказал ему: «Слышь, Краус, я люблю тебя». В ответ он пробурчал что-то насчет глупостей. И я быстро ушел к себе. Что теперь? Останемся ли мы друзьями? Друг ли мне господин Беньямента? Во всяком случае, между нами особые отношения, но какие? Не хочу и вникать, запрещаю себе это. Хочу оставаться легким, ясным, незамутненным. Прочь мысли.








