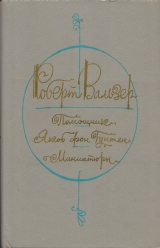
Текст книги "Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
И оба заснули. Было уже половина четвертого утра.
В восемь, проспав только три часа и продремав всю дорогу в поезде, помощник вновь стоял в техническом бюро, между чертежным и письменным столом. – А после пошел в гостиную завтракать.
Через неделю Йозефу пришлось опять ехать в город, причем в качестве арестанта. Двухдневный арест полагался ему за то, что он не явился на осенние армейские сборы. В назначенный час он прибыл в казарму; у него забрали воинские документы и отвели на гауптвахту. Там на нарах и прямо на полу, подстелив пальто, лежали человек пятнадцать мужчин, молодых и постарше, которые как по команде уставились на новичка. В помещении пахло бог знает какой дрянью, единственное зарешеченное окошко находилось где-то под потолком, вровень с улицей. «У меня хоть курево есть, и то хорошо», – подумал Йозеф, стараясь поудобнее устроиться на нарах. Скоро все разноперые обитатели камеры один за другим познакомились с помощником. Кого здесь только не было, и все отбывали примерно то же наказание, что и Йозеф. И все как один бранились. Либо костерили кого-нибудь из старших офицерских чинов, который якобы учинял всяческие безобразия, либо обрушивались на какого-нибудь государственного служащего или гражданского чиновника. Физиономии этих пятнадцати – шестнадцати выражали скуку, жажду свободы передвижения и недовольство тупым безразличием, царящим на гауптвахте. Кое-кто сидел уже целую неделю, а один – скотник по профессии – даже целый месяц.
Здесь рядом с отпрыском владельца гостиницы и африканским путешественником лежал обойщик, рядом с каменщиком и подсобным рабочим – приказчик, рядом со скотником – богатый еврей-коммерсант, рядом с подмастерьем слесаря – булочник. Все пятнадцать были разные, но все были схожи в манере ругаться и коротать время. Люди обеспеченные и образованные угодили сюда потому, что закон исключал замену ареста денежным штрафом, вот здесь и царило равенство, какого на свободе, в привольной кипучей жизни искать придется долгонько.
Ни с того ни с сего затеяли игру в «отбивную», которая, как показалось Йозефу, была частью каждодневного ритуала и заключалась в следующем: участники довольно немилосердно лупили пятернями по заду того, кому выпал жребий подставить сию часть тела под жестокие шлепки. Один из зрителей должен был закрывать страстотерпцу глаза, чтобы тот не видел, откуда сыплются побои. Если же он, невзирая ни на что, угадывал, кто его треснул, то получал «свободу», а пойманный с поличным волей-неволей занимал малоприятное место отпущенника, пока и ему не удавалось – рано или поздно – угадать правильно.
Этой игрой ретиво забавлялись битый час, пока руки не устали. Через некоторое время принесли обед – господи боже мой, поистине тюремная еда, не бобы, не свекла, не цветная капуста, даже не кусочек свинины, а похлебка с ломтем хлеба, скучным и сухим, да еще глоток воды. Похлебка тоже немногим разнилась от воды, вдобавок, что весьма противно, ложки были цепочками прикованы к котелкам, словно кто позарится на это барахло – да с какой стати?! Однако цепочки выглядели по-армейски, были практичны, но обидны, а обитатели гауптвахты были тут, понятно, не затем, чтобы их обхаживали, ласкали и носили на руках. «Презренному поступку – презренную кару» – вот что, казалось, было четко выбито на посуде и обдавало душу холодом.
Двое скучных беспросветных суток!
Скотник – он же дояр – был еще повеселей других. Этого и вправду красивого парня «они» доставили сюда в наручниках, потому что он дерзнул стукнуть по голове полицейского унтера, который брал его под стражу, да так, что у того кровь брызнула из носа и изо рта. За это дояру, конечно, добавили к первоначальному сроку еще месячишко с лишним, что, правда, отнюдь не удручало этого человека, судя по всему неустрашимого и абсолютно равнодушного к благородным вопросам чести. Наоборот, он превратил вынужденное тупое лежание в потешную, развеселую, многодневную забаву; он отлично умел развлекать себя и других, и смех в подвале гауптвахты никогда не затихал до конца. Дояр толковал о государственных и военных деятелях не иначе как тоном по-детски самоуверенного превосходства и заносчивости. Ни разу с губ его не слетело ехидное и злобно-мстительное слово. Он рассказывал тысячи забавных историй – то ли выдуманных, то ли случившихся наяву, – а содержание их почти всегда сводилось к тому, как одурачили и обвели вокруг пальца некую высокопоставленную персону, причем невозможно было отделаться от впечатления, что этот пригожий, нахальный малый привык обращаться с такими персонами как с какими-нибудь смешными, тупоголовыми марионетками. Парень был энергичный, ловкий, а потому добрую половину его историй можно было спокойно и без ущерба для здравого смысла принять на веру, ведь он в самом деле казался прямым наследником гордых, неукротимых предков, кипел давно утерянным в долгой череде поколений азартом игрока и воина и был наделен мужеством, которое просто не могло не презреть законы и заповеди широкой общественности. Как ни странно, чтобы еще ярче оттенить бесчинства, какие он творил с всевозможным начальством, скотник носил на своих кудрях военную шапку, сохраненную со времен бог весть каких прежних учений. При всех своих бродяжьих замашках он, надо сказать, был отнюдь не чужд простых и нежных движений души, по крайней мере нет-нет да и слышали, как он распевал на тирольский манер, – а пел он чудесно и с большой музыкальностью. И о своих многочисленных и дальних странствиях он тоже рассказывал не без тоски, ведь он измерил шагами всю необъятную Германию, чуть не в каждой усадьбе побывал. Было весьма забавно и приятно, даже романтично, слушать о его встречах с тамошними барами да с помещиками – пусть он и привирал и давал волю своей неуемной фантазии. Парень был поистине красавец: изящной формы рот, черты лица благородные, ясные и спокойные, – взглянешь на него, и невольно кажется, что в бурную годину войны он, возможно, сумел бы оказать отечеству серьезные услуги. Весь его облик наводил на мысль о канувших в прошлое эпохах и укладах жизни; к примеру, когда он пел – пока Йозеф сидел в каталажке, он как-то раз пел даже среди ночи, – ты словно внимал музыке и чарам былых могучих времен. Диковинный вечерний ландшафт оживал в томительно-печальных звуках, и сердце щемила жалость к певцу и к нынешней эпохе, которая почитала своим долгом так мелочно и бестолково обходиться с людьми, подобными этому скотнику.
Два дня на гауптвахте предоставили помощнику отличнейшую возможность кое о чем задуматься, например о своей прошлой жизни, или о тяжелом положении Тоблера, или о будущем, или о «Всеобщем кодексе обязательственного и торгового права», однако же он этого не сделал, упустил и этот бесценный случай, довольствуясь проказами, песнями и похабными остротами скотника, которые, на его взгляд, были куда интереснее всех размышлений былого и настоящего. Вдобавок чуть ли не каждые два часа снова и снова затевали «отбивную», что опять-таки не разжигало стремления пофилософствовать, или же в камеру с грохотом вваливался надзиратель и выкликал «отсидевшего» свое арестанта, а это тоже мешало сосредоточиться на высоких материях, привлекая внимание к вещам низким и обыденным. Да и зачем думать-то?
Разве переживание и сопереживание не есть та самая идея, которая превыше всего? Пусть сорок восемь часов отсидки дали в результате сорок восемь мыслей, но разве не достаточно одной-единственной обобщенной идеи, чтобы удержать свою жизнь на ровной гладкой стезе? Эти великолепные, внушающие уважение, старательно продуманные сорок восемь мыслей – что пользы от них молодому человеку, коль скоро он, по всей вероятности завтра же, их забудет? Одна-единственная направляющая мысль, разумеется, намного лучше, но эта мысль не желала мыслиться, она растворялась в ощущениях.
Как-то раз Йозеф услыхал от скотника, что-де чихать он хотел на отечество во всем его величии.
Какое бесхитростное высказывание, и какое несправедливое! Конечно, отечество, или юридическая его ипостась, придиралось к скотнику, мешало ему, сковывало по рукам и ногам, присуждало к унылым и изнурительным срокам лишения свободы, наводило на него скуку, подстраивало неприятности, вводило в расход и вредило его физическому здоровью. Но то, что высказал скотник, были мысли тысяч людей. Тысяч людей, чья жизнь шла далеко не так ровно и размеренно, как это предусмотрено в сухих строках армейского устава. Не всякому было столь сподручно нести службу, как тем многим, кто умудрялся превратить службу в пожизненный гешефт, позволяя государству кормить себя и содержать. Некоторым служба пробивала досадную брешь в профессиональной карьере, более того, иной по ее милости попадал в горчайшее и беспощаднейшее затруднение, так как взыскательное армейское житье-бытье, точно бездонная бочка, пожирало с натугой скопленные гроши – раппены, сантимы, пфенниги – и под конец от них оставался пшик. Не каждый мог затем попросить поддержки у отца с матерью, не каждого сразу же вновь брали в контору, на фабрику или в мастерскую – частенько он весьма не скоро вновь водворялся среди работающих, учащихся, занятых полезной деятельностью, целеустремленных людей. Ну можно ли вообще рассчитывать на любовь этакого индивида к отечеству? Какая нелепость!
«И несмотря на это!» С согревающим чувством, которое было заключено в этом мысленном «несмотря на это», помощник вскочил с нар, чтобы поиграть в «отбивную». Он был везучий и «подставлялся» всегда недолго. Каждый раз он очень быстро угадывал, кто его огрел. Подмастерья слесаря он опознавал по свирепости удара, обойщика – по неуклюжести, еврея – по промахам, африканца – по жеманной стеснительности в игре, а скотника – по манере сдерживать руку и гасить размах. Скотник с первой же минуты проникся к Йозефу известной симпатией и, рассказывая что-нибудь, неизменно обращался к нему, поскольку видел в помощнике самого внимательного слушателя.
Курить «узникам» воспрещалось, но девочки-школьницы, подойдя к зарешеченному окошку, с замечательнейшей сноровкой снабжали обитателей гауптвахты табаком. Один из арестантов влезал на плечи другому и посредством припрятанной от надзирателя палки с гвоздем быстро и ловко подцеплял пачки табаку и сигар, а взамен бросал маленьким контрабандисткам в окно мелкие монеты, так что в каталажке вечно дым стоял коромыслом. Надзиратель, человек, судя по всему, добродушный, на это молчал.
Две ночи на гауптвахте были для Йозефа холодными, зябкими и бессонными. На вторую ночь ему удалось вздремнуть, но сон его был тревожен и полон сумбурных видений.
«Отечество» скотника со всеми своими округами и кантонами широко раскинулось перед его горячечным взором. Из пелены тумана выныривали призрачные, сверкающие Альпы. У их подножия тянулись сказочно зеленые прекрасные ковры, над которыми плыл перезвон коровьих бубенцов. Голубая река блестящей лентой мирно струилась по земле, ласково обтекая деревни, города и рыцарские замки. Вся страна напоминала собою картину, но картина эта была живая; люди, события, чувства перемещались по ней то так, то этак, словно дивно-прекрасные узоры в огромном калейдоскопе. Торговля и промышленность, казалось, чудесно процветали, а серьезные и прекрасные искусства грезили в укромных уголках под плеск фонтанов. Вот сама поэзия задумчиво и одиноко склонилась над письменным столом, а живопись победоносно работала у мольберта. Несчетные мастеровые, завершив свой праведный труд, неторопливо, спокойно и устало возвращались домой. Дороги, залитые вечерним светом, явно вели домой. Звучали привольные, гулкие, берущие за душу колокола. Эти возвышенные звуки точно затопляли эхом, окутывали громом и обнимали все вокруг. Затем послышалось тонкое серебристое позвякивание козьего бубенца, будто на высокогорном пастбище среди скал. Далеко снизу, с равнин, доносились свистки паровозов и шум работ. Как вдруг все эти картины сами собою порвались, словно развеянные шквалом ветра, и на их месте отчетливо и горделиво поднялись стены казармы. Перед казармою замерла по стойке смирно рота солдат. Полковник или капитан верхом на коне отдал приказ построиться в каре, и солдаты под водительством офицеров выполнили перестроение. Удивительно, но полковник этот был не кто иной, как скотник. Йозеф определенно узнал его рот и зычный голос. Скотник произнес короткую, но зажигательную речь, в которой призвал армейскую молодежь любить отечество. «Несмотря ни на что!» – подумал Йозеф и улыбнулся. Они ведь стоял и вольно, значит, можно улыбнуться. День был воскресный. Молодой смазливый лейтенант подошел к солдату Йозефу и приветливо сказал: «Не побрились, Марти, а?» Засим, гремя саблей, он двинулся дальше вдоль строя. Йозеф смущенно схватился за подбородок. «Я сегодня даже побриться не успел!» Как сияло солнце! Как было жарко! Внезапно сон сделал скачок и открылось просторное поле, где полукругом залегла стрелковая цепь. Ружейные выстрелы гулко отдавались среди поросших лесом гор, звучали сигналы. «Вы убиты, Марти! Падайте!» – крикнул скотник-полковник, озирающий с высоты своего скакуна поле боя. «Ага, – подумал Йозеф, – он ко мне благоволит. Разрешает отдохнуть здесь на этой чудесной травке». Он так и пролежал на земле до конца боя, жуя травинки и освежая их соком пересохший рот. Как прекрасен мир, сколько в нем солнца! Какое наслаждение – лежать вот так! Однако пора было подняться и вновь стать в строй. А он не мог, какая-то сила пригвоздила его к земле. Травинка не желала вытаскиваться изо рта; Йозеф старался изо всей мочи, пот выступил на лбу, душу объял страх – и он проснулся, и снова был на нарах, рядышком с храпящим подмастерьем слесаря.
Через три часа за ним пришел надзиратель. «Отсидка» кончилась. Йозеф попрощался со всеми. Бедняге скотнику, которому предстояло сидеть еще полтора месяца, он сердечно пожал руку. Документы опять в кармане, и можно снова выйти на улицу. Руки и ноги у него промерзли и плохо слушались, голова со сна еще полнилась гулом, звоном и стрельбой. Но час спустя его опять окружили реальные, тоблеровские дела. Часы-реклама и патронный автомат сердито и вместе с тем умоляюще призывали его к себе, и Йозеф опять писал за своим столом.
– Изрядную передышку вы себе устроили, – сказал инженер. – Двое суток! Ощутимый срок в таком предприятии, как мое. Теперь придется поднажать с удвоенной; силой. Надеюсь, вы помните, что я вам говорил. Помощник нужен мне, естественно, не затем, чтобы каждую неделю сидеть под арестом. Никто не посмеет от меня требовать, чтобы я пла…
Он хотел сказать «платил жалованье», но внезапно осекся и задумался. Йозеф счел за благо смолчать.
Кресло для больных было готово. Прелестная уменьшенная модель на чертежном столе Тоблера минуты спокойно не стояла: инженер с нескрываемым восхищением вертел ее и так и сяк, чтобы вполне налюбоваться своим детищем. Одновременно он усадил помощника писать письма-предложения, адресованные различным крупным фирмам, отечественным и зарубежным, торгующим больничным оборудованием.
Простым вращением винта и поворотом рукоятки Тоблер легко сложил изящную конструкцию, велел запаковать ее в хорошую бумагу, взял шляпу и отправился в деревню показать этим скептикам и насмешникам бэренсвильцам, какую он опять соорудил хитрую да практичную штуковину.
Йозефу меж тем надо было написать местному мировому судье, что Тоблер не сможет завтра в девять утра лично присутствовать на совещании по иску Мартина Грюнена, ибо у него срочные дела. Посему он считает своим долгом сообщить г-ну мировому судье необходимые разъяснения и цифры письмом, из коего тот сможет заключить, что…
«…что мой хозяин сущий ангел», – с улыбкой докончил про себя помощник, не без легкой злости. Подготовив это письмо, он должен был составить второе, аналогичное, выдержанное чуть ли не в еще более бесцеремонном тоне объяснительное послание на имя высокочтимого окружного судьи. И опять Йозеф подивился четкости собственного эпистолярного стиля, а также вежливым оборотам, которые умело вплетал в энергичный текст. «Излишняя грубость недопустима», – думал он, совершая вылазки в края учтивости и скромности. С этим письмом он тоже разделался довольно быстро, потому как «уже здорово навострился» в этом деле, и с сознанием исполненного долга вновь закурил одну из пресловутых неистребимых сигар. Что им все эти мировые да окружные суды и столь же многочисленные, сколь и коварные официальные требования уплатить по счетам – они с Тоблером и в ус не дуют, знай себе спокойненько и безмятежно смолят ароматные табачные крутки да пускают кольца дыма.
По деревне словно прокатилась волна прозрения – мало-помалу, сперва шепотком, а теперь уж и в полный голос, бэренсвильцы убежденно заговорили о том, что наверху «Под вечерней звездой» «спасать» больше нечего, разве что предпримешь кое-какие юридические шаги и хоть сколько-нибудь взыщешь по закону. Дошло до того, что г-н Тоблер – а в его лице и фирма, и семейный бюджет – превратился в этакую мишень, которую со всех сторон методично, руководствуясь канонами вексельного права, обстреливали, осыпали и забрасывали исками. Ни дать ни взять праздничный фейерверк – ракеты валились на тоблеровский дом и слева и справа, и сверху и спереди, и сзади, оставляя после себя дыры и досаду. Судебный пристав, или взыщик, целыми днями нагло и в то же время неспешно шнырял вокруг дома и в саду, словно тут он как-то особенно отдыхал душою, словно именно тут, наверху, ему особенно нравилось. С виду казалось, будто этот человек просто-напросто любитель садоводческого искусства и красот природы.
Но быть может, эта тощая, костлявая фигура послана сюда каким-нибудь строительным консорциумом или даже неким географическим обществом, чтобы на глаз и в уме произвести съемку местности? Едва ли! Однако вид у него был именно такой. Г-жа Тоблер ненавидела его и боялась, а заприметив, спешила отойти от окна, точно он олицетворял собою дурное предзнаменование и настрой. Хозяйка была права, ведь если кто, расхрабрившись, заглядывал в лицо этого человека, как бы запертое на ключ и наглухо заколоченное, то у него мороз пробегал по коже и невольно возникало ощущение, будто его коснулась ледяная рука беды.
С Йозефом этот господин общался в изысканно-своеобразнейшей манере. Он умел вдруг, точно исторгнутый из темного земного нутра, объявиться перед конторой, как бы вытесняя собою и свет и воздух. С минуту он стоял так, не затем чтобы сделать что-то или подготовить, а просто, кажется, ради собственного удовольствия. Потом он отворял дверь, но не входил – входить пока было не время, – а опять замирал, точно проверяя, какое впечатление производят его зловещие ухватки. Не отрывая своего холодного взгляда от помощника, которому было здорово не по себе, он наконец входил в контору и первым делом опять-таки замирал. Ни «добрый день», ни «добрый вечер» он никогда не говорил. Время суток для него словно бы не существовало, равно как и воздух небесный, ибо человек этот взирал на мир так, будто дышать ему не было надобности. Придав своему костлявому лицу непроницаемое выражение, он доставал из черного кожаного бумажника один-два бланка, поднимал их высоко вверх и ронял на стол помощника – безмолвные, ощетинясь углами, они летели вниз, словно вот-вот вонзятся острыми когтями в стол. Покончив с этими манипуляциями, он, видимо, упивался сознанием того, что навел своим обликом уныние и гнетущую тоску, ведь он даже не думал уходить, а минуту-другую пробовал водворить бумажник обратно в карман. Потом бурчал что-то вроде «прощайте» и выходил из конторы. От этого «прощайте» мурашки пробегали по спине, лучше б ему вовсе ничего не говорить; слова его звучали рассеянно и вместе с тем нарочито холодно и жестко. Ну вот, кажется, он и уходит, но нет, самое ужасное было еще впереди: как бы примериваясь, он обводил взглядом окрестности, дом и сад. Потом в конторе распахивалась другая дверь, на пороге появлялась возбужденная г-жа Тоблер, с широко раскрытыми глазами, и испуганно лепетала:
– Он опять в саду! Смотрите, смотрите!..
В те дни, когда приходил этот человек, погода обыкновенно была пасмурная, холодная, молчаливая – не то снег, не то дождь. По цоколю стены дома сочились сыростью, с озера дул пронзительный ветер, суля новые метели и ливни, а само озеро было свинцовым, блеклым и печальным. Куда девались его дивные утренние и вечерние краски?! Канули в пучину вод? В такие дни точно и не было уже ни утра, ни вечера, унылые часы походили один на другой, казалось, им наскучило носить свои имена и разниться милыми, привычными световыми нюансами. Ну а если среди этакого тусклого уныния и обезображенности природы появлялся еще и человек с черным кожаным бумажником, то и г-жа Тоблер, и помощник единодушно считали, что земля вдруг перевернулась и они видят не естественную, а теневую, изнаночную сторону всего реального и обыденного. Красивый особняк Тоблеров словно окутывала какая-то призрачная пелена – и счастье и праздничность этого дома, более того, даже его право на существование как бы растворялись в обманчивом, тусклом и бездонном сновидении. И когда г-жа Тоблер смотрела в окно на свое летнее озеро, теперь уже зимнее и туманное, и глазам и чувствам ее открывалась меланхолия, которая завладела всем миром зримых предметов, она невольно подносила к глазам платочек и заливалась слезами.
Одним из самых оголтелых кредиторов оказался садовод, который прежде неизменно следил за выполнением сезонных работ, поставлял и обихаживал растения в усадьбе «Под вечерней звездой». Этот тип, как целый батальон сквернословов, бранил Тоблера и все его семейство и твердил, что не даст себе ни минуты покоя, пока не настанет день его торжества, когда у этих «зазнаек» опишут имущество и вышвырнут их из виллы. Г-ну Тоблеру – отчасти чтобы польстить ему, а отчасти чтобы исподтишка уколоть – услужливо передали эти хамские речи, и он сей же час распорядился забрать из теплиц садоводческого хозяйства принадлежащие ему растения и свезти их в подвал к другу, страховому агенту, тому самому, что присутствовал на освящении грота. Йозефу доверили срочно выполнить этот приказ, и у него не было причин медлить. И вот он поехал в одноконной упряжке к садовнику и нагрузил полную телегу растений, в числе которых была уже довольно высокая белая пихта. Похожая на сад повозка двинулась по улицам, минуя изумленных прохожих, и остановилась у нужного дома. Страховой агент сам помог разгрузить телегу и перенести поклажу в подвал – сколько уместится. Молоденькую пихточку пришлось закрепить веревками в наклонном положении: подвал был чересчур низок для стройного, гордого деревца, а так оно хотя бы расти сможет. У помощника сердце кровью обливалось, когда он смотрел на бедняжку – но что поделаешь? Так хотел Тоблер, а воля Тоблера была для помощника единственным и непреложным руководством.
Страховой агент в самом деле остался верен Тоблеру. Это был простой, но просвещенный человек, ему и в голову не пришло из-за трудностей чисто внешнего характера отказать в дружбе и доверии человеку, которого он привык ценить. Теперь он был чуть ли не единственным, кто еще заходил по воскресеньям на виллу, чтобы разыграть партию в ясс. Выпивки у Тоблеров, слава богу, пока хватало! Ведь буквально на днях из Майнца прибыл небольшой бочонок, полный отменного рейнвейна, запоздалый, но тем более желанный отклик на заказ, сделанный в былые, лучшие времена. Тоблер удивленно воззрился на бочонок; он никак не мог вспомнить, чтобы когда-то заказывал в майнцской фирме такое дорогое вино. Йозеф опять получил дополнительное задание – разлить вино по бутылкам, а после аккуратно закупорить их пробками; в этой работе он продемонстрировал недюжинную ловкость, так что г-жа Тоблер, наблюдая за его сноровистыми движениями, в шутку спросила, уж не работал ли он раньше в винных погребах. Таким вот образом в доме порой выдавался веселый, самозабвенный часок, который отлично помогал превозмочь великое множество часов тяжелых, а это было неоценимое и нужное всем благо. Но неожиданно захворала г-жа Тоблер.
Сколько она ни бодрилась, а пришлось уложить ее в постель и вызвать врача, того самого д-ра Шпеккера, который уже не первую неделю старательно избегал переступать порог дома, внутренние опоры которого грозили вот-вот рухнуть. По вызову он, однако же, явился, хотя не мог не опасаться, что гонорара за врачебные труды и беспокойства полуночного пути в кромешной тьме не получит. Он тихонько подошел к постели г-жи Тоблер и говорил с нею так, будто никогда не прекращал свои дружеские визиты, а по-прежнему поддерживал с семейством инженера наилучшие отношения. Он участливо спросил о болях и с каких пор они донимают г-жу Тоблер и так далее. И исполнил он свои серьезные профессиональные обязанности так мягко и приятно, как только мог. Позднее, хотя был уже первый час ночи, Тоблер показал доктору свое кресло для больных, благо как раз сегодня был получен первый образец его в натуральную величину. Можно не откладывая опробовать кресло на собственной жене, сказал изобретатель с деланной веселостью, но шутка вышла неудачная.
– Может, выпьете на дорожку рюмку вина, господин доктор?
Нет. Врач ушел.
Ну вот, в довершение всех бед она вынуждена лежать в постели, жаловалась г-жа Тоблер каждому, кто заходил к ней. Мало того, продолжала сетовать она, что в доме и в делах все вот-вот пойдет прахом, так тут еще и здоровье подводит. Угораздило ее заболеть, когда в работе каждая рука на счету, и вообще, глаз да глаз нужен, как никогда. А расход какой – где взять столько денег? Она так слаба, а ей очень хочется взбодриться, очень хочется, чтоб несчастья скорей остались позади. Где Дора? Пусть придет к мамочке.
Йозефа к больной не допускали. Но поскольку болезнь затягивалась, а у него возникла настоятельная необходимость кое-что ей сказать, он осмелился зайти в комнату. Сделал он это с робостью человека грубоватых, в общем-то, привычек. Хозяйка встретила его улыбкой и подала ему руку, он же, заикаясь, пожелал ей скорейшего выздоровления. Какие у нее огромные глаза! А эта рука. До чего же бледная! И это жестокосердая мать? Она спросила, как там в гостиной, как ведут себя дети, и слабым голосом добавила, что ему придется теперь, до ее выздоровления, немного побыть воспитателем. Ей так хочется побыстрее стать на ноги. Хорошо ли готовит Паулина? И как обстоят дела?
Он ответил на ее расспросы и был в ту минуту совершенно счастлив. И этой женщине, которая даже в постели, занедужив, умела остаться настоящей дамой и от болезни скорее хорошела, чем дурнела, этой женщине он собирался читать мораль?! Как несправедливо и ребячливо! И все же вполне допустимо. Ведь с Сильви и сейчас обращались ничуть не лучше прежнего.
Если в эти дни Сильви готова была разразиться криком, Паулина шипела ей в ухо: «Тише ты!» Надо было щадить больную.
Сказано – сделано: при первом же удобном случае Тоблер опробовал на жене патентованное кресло для больных. Она осталась весьма недовольна качествами этого изобретения и рискнула попенять на недочеты. Прежде всего, сказала она, кресло чересчур тяжелое, давит, и потом, надо сделать его пошире, а то слишком тесно.
Неприятно было услышать такое от собственной жены. Но Тоблер, поняв, что кое-что упустил, сразу же принялся вносить соответствующие изменения и быстро набросал за чертежным столом несколько новых деталей, чтобы не откладывая послать эскизы столяру. Переделок требовалось совсем немного, а там, глядишь, можно без опаски приступать к серийному выпуску. Инженер получил уже письма от целого ряда магазинов и сбытовых контор, что они, мол, весьма заинтересованы в получении ознакомительных образцов.
А часы-реклама? Как подвигались дела с ними? Установлен контакт с вновь созданной компанией: туда направлено детальное предложение, вкупе с краткой биографией автора проекта – так пожелала фирма. А значит, падать духом пока не стоило!
Электростанция между тем отключила в доме свет, по соображениям, которые вынудили и всех прочих поставщиков совершенно закрыть кредит хозяевам виллы «Под вечерней звездой». Когда Тоблер узнал об отключении электричества, он рассвирепел, чуть не до умопомрачения и послал чиновникам с электростанции бессильно-гневное и не в меру язвительное письмо, прочитав которое, эти господа, и в первую очередь директор, добродушно и пренебрежительно посмеялись. Делать нечего – пришлось обитателям особняка вернуться к скромным керосиновым лампам, и надо сказать, все, кроме самого инженера, быстро привыкли к такому освещению. Однако же Тоблеру, когда он поздно вечером возвращался домой, слишком недоставало его любимой электрической лампочки на веранде – ведь он всегда воспринимал ее как приветный огненный знак, как сияющий символ незыблемости своего дома. Теперь ее не было; и это причиняло ему боль, бередило в его груди и без того огромную рану, а поэтому он еще больше мрачнел и терзал домочадцев резкими перепадами настроения.
Главное теперь было – достать некоторую сумму денег, любой ценой, и расплатиться хотя бы с самыми срочными долгами; вот почему однажды утром пришлось написать матери Тоблера, женщине состоятельной, но упрямой и известной неколебимостью своих принципов, нижеследующее письмо.
Дорогая матушка!
От моего адвоката Бинча ты, верно, наслышана о том, в сколь стесненном положении я теперь нахожусь. Я – как пойманная в силок птица, которую змея завораживает своим колючим убийственным взглядом. Кредиторы мне буквально проходу не дают – будь это друзья и покровители, я бы непременно прослыл богачом и всеобщим любимцем; к сожалению, однако, они не знают пощады, а я знаю лишь тягчайшие заботы. Ты, дорогая матушка, и прежде не раз выручала меня из беды; я помню об этом и всегда думаю о тебе с благодарностью, а поэтому прошу тебя, причем настоятельнейшим образом, прошу так, как просят люди, к горлу которых приставлен кинжал публичного позора, помоги мне и на сей раз выбраться из трудного положения и немедля, при первой же возможности, вышли мне хотя бы часть тех денег, на которые я по всем юридическим статьям вправе претендовать и поныне. Матушка, пойми меня, это не угроза, я сознаю, что полностью завишу от твоей доброй воли, сознаю и то, что при желании ты можешь погубить меня, – только зачем тебе желать моей гибели? Вдобавок моя жена, твоя почтительная дочь, сейчас хворает. Она лежит в постели и встанет не скоро, – дай-то бог, чтобы она вообще когда-нибудь встала. Как видишь, еще и это! Куда податься деловому человеку, на которого со всех сторон сыплются такие удары? До сих пор мне более или менее удавалось держаться на плаву, но теперь я и вправду дошел до предела, сил моих больше нету! Что ты скажешь, если вскоре однажды утром или вечером прочтешь в газете, что твои сын поконч… нет, я не в состоянии произнести эту фразу до конца, ведь я говорю со своей матерью. Пришли мне деньги не откладывая. Это опять-таки не угроза, это только совет, но очень серьезный. В домашнем хозяйстве денег тоже почти не осталось, а к мысли о том, что детям рано или поздно будет нечего есть, мы с женой давно привыкли. Я описываю тебе свои обстоятельства не такими, каковы они на самом деле, просто мне думается, иначе описать их в приличных выражениях будет невозможно. Жена моя шлет тебе сердечный привет и обнимает тебя, равно как и твой сын








