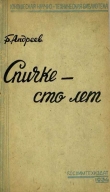Текст книги "Шведские спички"
Автор книги: Робер Сабатье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Глава девятая
По мере того как Оливье теснее вживался в быт улицы, проникал в секреты, кроющиеся за фасадами ее домов, какая-то часть его жизни уходила в прошлое. Растворялись, рассеивались мучающие его чары галантерейной лавочки, тускнел и таял весь этот мир мотков ниток, иголок, ножниц, лент и резинок, заслоненный новыми яркими впечатлениями. В потрясенном сознании мальчика видения нового и старого смешивались, наслаивались друг на друга. Терял четкость образ Виржини, что-то приобретая от Мадо или Элоди, пока какой-нибудь факт, случай, встреча снова не заставляли всплыть в памяти ее безжизненную светловолосую голову и не погружали ребенка в тоску и задумчивость.
Кузина протянула ему только что выглаженную рубашку, от которой так хорошо пахло, и, посмотрев на заштопанный локоть, сказала:
– Как она искусно чинила, твоя мама!
Кровь прилила к лицу мальчика. Он сел на диван как был неодетым, с голой грудью, и растерянно смотрел на белые клеточки штопки. Замечание Элоди пробудило в нем уснувшие, казалось, воспоминания. Он уставился на свой теперь такой бесполезный школьный ранец, потом оделся, вышел и примкнул к компании ребят, окруживших Туджурьяна, который хвастался, что он «парень дошлый!», а после глазел на Анатоля, пробовавшего, хорошо ли качает его велосипедный насос.
Как-то утром Оливье услыхал, как Рири говорил малышу Жан-Жаку: «Да не реви ты, увидишь еще свою мать!» И это выражение, уже много раз слышанное, предстало перед ним в новом свете. Если б Рири сказал так ему, Оливье, он бы, наверно, теперь ответил: «Нет, я не увижу ее больше».
На улице Лаба показался Красавчик Мак, подошел к ребятам и картинно поиграл мускулами под тонкой тканью костюма. Так как ему хотелось повозиться с детьми, а по возрасту это было не совсем, пожалуй, уместно, Мак старался быть развязным, красовался, подходил то к одному, то к другому, внезапно поворачивался с гибкостью тореадора или низко кланялся, размахивая шляпой, оттопыривал лацканы пиджака, оттягивал манжеты, поглядывал на ручные часы – и все это делал непринужденно, почти как Жюль Берри, порой застывал на месте и играл на публику, изображая то мастеров балета, то оперных певцов; такие приемы людям взрослым показались бы смешными, но на подростков они производили впечатление.
Мак выбрасывал рывком перед собой кулаки, наносил боковой удар по первому попавшемуся подбородку, а затем выдавал «апперкот» в сторону Оливье:
– Ну-ка, дай сдачи, малыш!
Мальчик немедленно становился в оборонительную позицию и начинал прыгать на месте. Он уже нередко в этом тренировался, вовлекая Лулу и Капдевера в товарищеские бои. Оливье добыл себе пеньковую веревку и прыгал через нее как через скакалку. Ребята дразнили его девчонкой, но он отвечал:
– А вот и не девчонка – я боксер!
Мальчик укладывал в карман разлохматившуюся веревку и начинал боксировать с собственной тенью, окрестив ее Максом Шмелингом или Примо Карнера, сам наносил удары и оборонялся от них.
Выглядело это весьма комично: Оливье стукал самого себя под подбородок, падал и подымался с пола, ерзая спиной по стене, косил глаза, гримасничал, делая вид, что у него искры из глаз сыплются. Затем считал вслух над своим распростертым, но невидимым телом и, окончательно раздвоившись, вставал при счете девять, чтоб поразить своего врага.
Однажды утром он отправился вместе с Элоди на рынок на улицу Рамей. Пока она выбирала кочан, к ней сзади прижался Мак, насвистывая сквозь зубы американскую песенку. Красавчик подбросил кочан над ее головой, многозначительно поглядывая на Элоди. Он попробовал прихватить ее за локоток, но она спокойно высвободилась и, с полным безразличием посмотрев на него, сказала:
– Зря теряете время, берегитесь – у печатников тоже есть мускулы.
Тогда Мак, невзирая на разъяренные взгляды торговки, начал забавляться тем, что бросал кочны в корзинку Элоди, заверяя, что в капусте тьма младенцев, а потом отошел и, кривляясь, повторял:
– Нет, это невозможно, право, невозможно!
– Не водился бы ты с подобными типами! – сказала Элоди, вынимая кочны из своей корзинки.
Она никому в Париже не доверяла – ни мужчинам, ни женщинам. Едва отвечала и на любезное приветствие Мадо при встрече в подъезде: «Здравствуйте, мадам!» Принцесса как-то заметила мальчику:
– Она ведь хорошенькая, твоя кузиночка. Если б она умела еще одеваться и пользоваться косметикой…
Но Жан был бдителен и берег свою молодую жену от городских соблазнов, в том числе от губной помады и, конечно, от перманента.
Весь день Оливье прогуливался, смотрел, слушал. Он шел, уставившись на кончики своих сандалий: левой, правой, снова левой… и ему чудилось, что это земля движется, бежит у него под ногами. Если же мальчик смотрел прямо перед собой и забывал считать шаги, то ему казалось, будто он стоит неподвижно, а вокруг перемещаются улицы, и он вдыхал запахи перца, корицы, гвоздики у торговца семенами, видел блистающий ярким светом ювелирный магазин – лучи этого света отражались в каждой броши, в сережках, кольцах, – замечал завсегдатая кафе, сидящего на террасе и уныло созерцающего стопку блюдец, через витрину парикмахерской видел вереницу дам, сидящих под сушильными, с множеством проводов аппаратами для перманента, а на улице – цепочку похожих на игрушки такси, в итальянской колбасной – подвешенные к потолку окорока и колбасы с белым, как пудра, налетом, на тротуаре – посыльного с двухколесной тележкой и ящиком на ней, в окнах – ожидающих клиентов портных, с висящим змейкой на шее клеенчатым метром.
Вот какие-то две девочки, именуя друг друга «Дорогая мадам!», везут деревянные колясочки с тряпичными розовыми куколками, набитыми отрубями. Молодой араб пускает мыльные пузыри через соломинку и пытается поймать их на лету. Парень из гаража с улицы Лекюйе размеренными движениями накачивает бензин и отвечает «Нет!» какой-то цыганке, предлагающей ему купить одну из ивовых корзинок, что нанизаны у нее на руках до самых плеч. Чуть дальше четверо ребят в красных передничках, взявшись за руки, бесконечно повторяют одно и то же: «Станем в круг, станем в круг!..»
Оливье останавливался то тут, то там и, улыбаясь, с любопытством осматривался. Иногда он твердил свое имя: «Оливье, Оливье, Оливье…», а потом фамилию: «Шатонеф, Шатонеф, Шатонеф…» – и наконец соединял их: «Оливье Шатонеф, Оливье Шатонеф, Оливье Шатонеф…» – и уже переставал понимать, что говорит о себе самом. Совсем как в классе, когда Бибиш вызывал на перекличке всех подряд, хотя он превосходно знал, кто отсутствует: «Аллар? – Здесь. – Бедарье? – Я здесь, мсье! – Бланшар? – Весь здесь, мсье! – (За это ему придется в наказание написать строк пятьдесят!) – Шатонеф? – Я здесь! – Карлетти? – Его нет, мсье! – Капдевер? – Вот он, я! – (Сто строк после уроков этому плохо воспитанному Капдеверу!) – Кулон, Делаж, Делаланд… – Зесь, зесь, зесь, мсье…» Прямо как игра в «считалку».
В книжной лавке на улице Жюно какой-то писатель, плешивый, в очках с толстыми стеклами, раздавал автографы. Для этой важной церемонии он надел темный костюм с чересчур придавленными лацканами, галстук бабочкой, похожий на пропеллер. Писатель, с торчащими из рукавов пиджака целлулоидными манжетами, держа наготове ручку, смотрел на людей, протягивавших ему книги, с лукавым, самодовольным и вместо с тем неуловимо ироническим видом и, набрасывая на странице несколько строчек, время от времени смотрел куда-то вверх, в поисках вдохновения. А вокруг теснились люди, как мотыльки, привлеченные светом лампы. Оливье созерцал эту чудаковатую личность, и в какой-то миг их взгляды встретились через витрину. У мальчишки появилось желание скорчить ему рожицу, но он побрел дальше по улице, изображая, будто что-то пишет рукой в воздухе.
Иногда Оливье шел следом за каким-нибудь элегантным господином, изучая движения его трости – решительный толчок вперед, затем стук трости о тротуар, небольшая заминка, снова легкое раскачивание. Или же пытался ходить по-утиному, как Чаплин, вращая воображаемой тросточкой. Или вытягивал вдруг руки вперед, закрывал глаза и играл сам с собой в лунатика или в слепца.
Оливье гулял в скверах, где скрипит песок под ногами, выбирая шикарные аллеи со стороны улицы Коленкур, что ведут к перпендикулярным улочкам с виллами, утопающими в цветах, и мастерскими художников с огромными стеклянными окнами. И город становился прекрасным, как в мечтах Люсьена Заики, который никогда не углублялся в прошлое, а был весь устремлен в будущее, город, точно большой лес с подлеском и полянами, зеленый, грибной, с огромными деревьями, красивыми камнями, белками, птицами, а также удивительными животными, которых называют людьми.
*
Проснувшись однажды утром, улица так и ахнула от удивления, обнаружив нечто совершенно неожиданное: окно Бугра было украшено великолепным красным флагом с золочеными кистями и серебряной надписью, прячущейся в складках полотнища – из-за чего ее трудно было прочесть.
Кое-кто улыбался при виде этого флага, потому что он вносил яркую нотку в монотонность фасадов. Другие, вроде Гастуне, беспокоились – нет ли тут какого-нибудь революционного намека, и по этому поводу состоялось короткое секретное совещание. Когда Бугра вечером свернул и убрал свой флаг, многие вздохнули с облегчением.
Прошло два дня, и знамя снова появилось в окне. Все утро Гастуне прогуливался неподалеку, бросая оскорбленные взгляды на возмутительную, по его мнению, эмблему. Он даже крикнул разок: «Убирайся в Москву!» – но Бугра и не показался. Вечером флаг был опять убран, но наутро водворен на место. Это уже вызвало вихрь волнений, обсуждалось, кто «за», кто «против», завязывались споры, а один рабочий из предприятия Дардара чуть не сцепился с Громаляром, которого подстрекала к драке жена.
На следующий день, когда Бугра, сидя у окна рядом со своим флагом, раскуривал трубочку, наблюдая, как клубы бурого дыма тают в теплом воздухе, в дело вмешалась полиция. Комиссар, сопровождаемый двумя полицейскими, заявил, что это запрещено муниципальным советом, и потребовал от Бугра немедленно убрать стяг.
– Что, что вы говорите? – переспросил Бугра, поднеся ладонь к уху.
Полицейский чиновник был вынужден повторить свою фразу громче, тщательно выговаривая слова, а его подручные молча ожидали, заложив пальцы за пояс.
– Ах, вот оно что? – сказал Бугра. – Всего и делов… Ну обождите…
Он очистил свою трубку, постучав ею о подоконник, снова набил и ушел за спичками. Вернувшись, начал ее со смаком раскуривать и даже предложил табачка комиссару, но тот отказался весьма сухо. Тогда Бугра вытащил из-под куртки какой-то маленький томик в красной обложке и заявил, что это у него Гражданский кодекс, «который каждый француз должен читать и обдумывать». Перелистывая странички, Бугра поинтересовался:
– Ваше запрещение – это какая статья?
– Это не статья, – смущенно сказал комиссар, – а просто запрет…
– Ну, тогда укажите, по какому параграфу, – попросил Бугра, доброжелательно улыбаясь.
Комиссар коротко бросил: «О чем спорить?» – но Бугра ответил:
– Не беспокойтесь, комиссар, конечно, у нас не форт Шаброль, но я хотел бы задать вам еще два-три вопроса…
Старик стал и впрямь напыщенно цитировать статьи Гражданского кодекса, хотя большинство из них не имело прямого отношения к вопросу.
Вскоре на улице собралась толпа. Гастуне, Громаляр и булочник оказались единомышленниками и считали, что закон следует соблюдать. Им противостояли все, кто хотели позабавиться. Дети же и еще несколько человек, наоборот, все принимали всерьез. Бугра отстаивал свое право украсить окно «честным патриотическим знаменем».
– Патриотическим, скажешь тоже! – шумел Гастуне.
Комиссар нервничал. Полицейские повторяли собравшимся: «А ну, не задерживайтесь!» – в ответ на что слышали: «Улица принадлежит всем!» Под конец комиссар отдал короткий приказ, и один из его людей приставил к стене лестницу. Пока шли эти приготовления, какой-то военный в окне начал петь:
Посмейте, посмейте-ка бросить вызов
Великолепному нашему алому знамени…
Когда полицейский взобрался до половины лестницы, Бугра поднял знамя и стал им размахивать. Полицейский тщетно пытался схватить древко – Бугра был проворней, чем он. Кто-то запел: «Тореадор, смелее в бой!» – и какой-то ребенок подхватил: «Тореадор, тореадор!» А военный продолжал свое:
Оно красное от рабочей крови,
Красное от крови рабочих!
Тогда папаша Бугра, который заранее наслаждался эффектом, выдал самое главное. Он широко развернул полотнище флага, и каждый смог прочитать: 2-й полк колониальных пехотных войск. И Бугра, подделываясь под стиль выступлений чиновников супрефектуры, воскликнул:
– Граждане, граждане, знамя, что развевается перед вами, принадлежит колониальным войскам, нашим славным колониальным войскам. И я требую, прежде чем его уберу, чтоб все полицейские, а также и вы, унтер-офицер Гастуне, воздали этому знамени военные почести!
Вся улица принялась хохотать. Подростки распевали: «Салютуйте знамени, салютуйте знамени, салютуйте!» Чтоб со всем этим покончить, комиссар снял свою шляпу и держал ее над головой. Полицейские – и тот, что стоял на лестнице, и тот, что остался внизу, – отдали честь, а Гастуне, хоть и не очень решительно, все-таки приложил пальцы к виску. Только после этого Бугра свернул знамя и, смеясь в бороду, захлопнул окно.
«Последняя выходка Бугра» тут же была широко прокомментирована жителями квартала, но обрадовала лишь самых заядлых шутников. Лулу, всячески приукрашивая эту историю, доложил о ней Оливье, и тот почувствовал гордость за своего друга.
Однажды Мадо пригласила его в чайный салон на улице Коленкур, и он сидел на массивном стуле «Чиппендель», покрытом тисненым бархатом, напротив Принцессы. Она с ним приветливо беседовала, давала советы, как держать себя за столом, но делала это незаметно. Оливье вежливо ее слушал и все время улыбался. Мадо была в этот раз еще красивей, чем всегда, в своей фетровой шапочке с пером фазана и светлом костюме. Она заботливо выискивала такие темы для разговора, которые могли бы ребенку понравиться, но его мало интересовали слова; вполне достаточно было того, что он здесь, рядом с ней. Ему нравилась ее зеленая шелковая кофточка, розовый мрамор столика, венок из цветов на чайнике, горшочки для сахара, блюдца и чашки, нравилось следить за жестами официанток в белых фартучках и с бантами в волосах; девушки деликатно брали серебряными щипчиками пирожные, чтобы положить их на бумажные тарелки с кружевными фестончиками по краям.
За соседним столиком две девочки с белокурыми косами наслаждались вкусным чаем. Их отец, важный господин с усами щеточкой, сидел очень прямо, слушая их щебетание, и иногда подтверждал то или иное мнение легким кивком. Девчушки поглядывали на Оливье, а затем обменивались высокомерной капризной гримаской. Мальчик не понимал, почему они смотрят на его ноги, а потом вверх, в неизвестную точку над его головой.
Мысли его снова обратились к Принцессе, певучим голоском она что-то говорила ему о предстоящих каникулах, о море, которого он никогда еще не видал, о пляжах, похожих, по его представлению, на песочницы в скверах, может, только побольше, о набережной в Довилле, о знаменитых людях, которых там встречаешь, о казино, о бегах, о прогулках, о гольфе. Из ее изящного, красиво очерченного ротика слышались только приятные ласковые слова, будто она не говорила, а пела.
Уплетая кекс, Оливье рискнул задать вопрос, от которого он долго воздерживался. Он был очень смущен, лицо у него покраснело, и он пробормотал:
– Это правда, э-э… Мадо, что, ну что…
– Что, малыш?
– Что вы шоферша такси?
Она с недоумением сморщила брови. Оливье еще больше покраснел и извиняющимся голосом проронил: «Мне сказали, что…» Он чувствовал себя ужасно невежливым, нескромным, вроде тех кумушек, которые сплетничают во дворах или из окна в окно, стараясь что-то выведать друг у друга окольным путем.
Мадо зажгла сигарету «Примроз», растерянно повертела чашечку на блюдце, а потом заговорила уже серьезно:
– Да нет же, ты знаешь, у меня нет такси… Мне приходится все время то надевать платья, то их снимать и надевать другое. Ведь я «манекен»…
Оливье не понял, что в данном случае могло означать слово «манекен». Во-первых, потому, что оно мужского рода, следовательно, неприменимо к женщине. А кроме того, оно вызвало у него представления о чем-то неподвижном – о той деревянной болванке, которую Виржини драпировала в ткани, как в платье.
Оливье еще думал над этим, но Мадо неожиданно засмеялась:
– Шоферша такси, ах, я понимаю, в чем дело! О боже мой, как люди глупы… Нет-нет, не ты, люди. Да нет же, я, конечно, была такси-герл, но ведь это совсем другое. Они танцуют…
Она не сочла нужным объясниться подробней, и Оливье проронил «Ах так?», будто он понял. И не заметил, как взор Мадо затуманился. Она машинально спросила:
– Еще кекса хочешь?
И, не дожидаясь ответа, положила ему кусок, а себе в чашку бросила дольку лимона. Мыслями она была уже далеко: там, в танцевальном зале, украшенном серебристыми, геометрической формы цветами, с огромными прожекторами, распространяющими странный свет – ослепительный, если смотришь прямо на прожектор, но вместе с тем едва освещающий танцевальную площадку. На эстраде играл жалкий оркестрик, а на другом возвышении стояли в ряд «такси-герлз», ожидая, пока какой-нибудь кавалер выберет себе среди них партнершу. Мужчина держал в руке розовый билетик с перфорированными отверстиями. Партнерша забирала у него билетик, делила его на две части, как это делает в кино контролер, одну половинку бросала в урну, а другую клала в сумочку – эти полубилетики определяли ее зарплату. Она танцевала по большей части с неизвестными ей, но вежливыми людьми; некоторые из них, прощаясь после танца, целовали ей руку, а затем уже, как полагалось, аплодировали оркестру. Затем Мадо вместе с другими «такси-герлз» возвращалась на свое место и освежалась безалкогольным напитком, только по цвету напоминающим спиртное: холодный чай вместо виски, минеральная вода «виттель» вместо водки.
Мадо тряхнула головой, словно хотела выбросить из нее воспоминания об этом мрачном периоде своей жизни. Оливье все еще держал на вилочке кофейное пирожное и думал, что ему надо бы поддержать разговор, но не находил достойных тем, кроме тех, что ему давала жизнь улицы, а это, как он считал, покажется Мадо скучным. Однако рассказал следующее:
– У меня есть друг, его зовут Люсьен, у него полно радиоприемников, и в них столько всякой музыки. Он живет на улице Ламбер…
– Да, в самом деле, – рассеянно заметила Мадо.
– А потом у меня есть еще приятель Бугра. И мадам Альбертина.
– А друзья-ровесники у тебя, наверно, тоже есть?
– Конечно! Их много! Лулу, а особенно Капдевер. Мы с ним большие приятели, хотя… ну, в общем, хотя… Да у меня полно дружков! И даже один калека! Знаете, тот, которого зовут Паук! Так вот, его имя – Даниэль, он мне сам сказал. Только что-то его больше не видно.
Так как Мадо не ответила, мальчик добавил:
– Может, он болен?
– Может, – равнодушно сказала Мадо.
– А Мак, он – каид. Он научил меня драться, – продолжал Оливье, напрягая перед ней свои мускулы.
– Ну ладно, ладно…
Оливье опустил голову. Подумал, что, наверное, ей надоел. Как жаль, что он еще не взрослый. Будь он мужчиной, как Мак или как Жан, уж он поговорил бы с ней о всякой всячине: о кино, о спорте, о театре, он бы заставил ее посмеяться, и тогда Мадо сказала бы: «Ой, какой ты смешной, как с тобой хорошо!» Оливье разочарованно рассматривал свои тощие ручонки, чувствуя себя маленьким, совсем малышом, таким робким! Тайком он оглядел еще раз прелестное лицо Мадо, ее гладкий беленький носик, красивые, цвета платины, волосы. Красота Мадо вызывала у него грусть.
Но она выглядела счастливой, казалось, ей здесь нравилось, и мальчик решил, что это из-за вкусного кекса. Мадо открыла сумочку, заплатила официантке. Все ее жесты были именно такими, каких можно было ожидать – точные, рассчитанные. Оливье была не очень-то по вкусу ее уверенность. «Совсем как мамаша!» Нет, это ему было не по душе. Мог ли он понимать, что по-своему, по-детски влюблен в Мадо?
– Ну, ты доволен? – спросила она.
– О да, конечно!
Белая душистая рука ласково потянулась к его щеке, и Оливье придвинулся ближе, чтоб ощутить прикосновение. У него было желание схватить эту руку, покрыть ее поцелуями. Он прошептал: «Ах, Мадо, Мадо…», – посмотрев на нее таким напряженным взглядом, что Мадо смутилась. Едва улыбаясь, она промолвила:
– Ну вот и прекрасно. А сейчас мы расстанемся. Мне нужно позвонить одному другу.
Оливье крепко пожал ей руку. Может быть, чересчур крепко, но он вспомнил, как люди говорили, что рукопожатие должно быть чистосердечным и прямодушным. Мальчик посмотрел в сторону девчонок-насмешниц, которые все еще жеманно болтали, и пошел на цыпочках из салона, как будто он был в церкви.
*
Оливье правилось смотреть на Лулу, когда тот морщил нос, кривил свой забавный рот, чесал «вшивую башку» и придавал еще более смехотворный вид своей и без того уморительной мордочке. Альбертина пренебрежительно говорила о нем: «Ну и фигляр! – и, посмотрев на Оливье, обычно добавляла: «Два сапога – пара!»
Когда Лулу переставал вертеться вьюном, то он вовсе не становился таким задумчивым или грустным, как Оливье, отнюдь: за неугомонными движениями тела следовала столь же буйная речь – Лулу обожал игру слов, всякие песенки или двусмысленные фразы, которым научился у своего отца. Он, подняв палец, изображал вдовушку, которая трясет лорнетом и мямлит смешным голоском: «Один молодой человек, девяноста лет от роду, сидя на камне из белого дерева, читал ненапечатанную газету при свете погасшей свечи». Или говорил, покачивая головой и паясничая: «Нет, мы этого никогда не узнаем… – И после паузы, полной отчаяния, добавлял: – Нет, мы никогда не узнаем, кто поставил корзину с калачами под кран канистры с бензином. Увы! Мы этого никогда не узнаем».
Скучать с Лулу было невозможно. В карманах у него постоянно хранились какие-то забавные вещицы: игральные кости, прозрачная коробочка с бегающим по лабиринту мышонком, которого следовало загнать в убежище, чтоб спасти от кота, была у него и куча кривых гвоздиков, и нужно было разгадать секрет, как сцепить их друг с другом. Иногда Лулу предлагал сыграть партию в ши-фу-ми : полагалось, спрятав за спиной руку, выбросить ее неожиданно вперед, сложив в форме камня, листка или ножниц. Или он брал веревку и заставлял всех играть, припевая: «Распилим поленце для мамаши Никола: на тысячи кусочков свои сабо сломала она». Он знал кучу детских считалок, чтоб решить «кому водить», и любил загадывать слова, обозначающие ремесла.
– С…р.
– Столяр.
Так как почти всегда оказывалось не то, надо было назвать все буквы подряд. Оливье выкрикивал гласные и согласные, и при каждой ошибке Лулу добавлял мелом еще одну деталь к нарисованной на тротуаре виселице. К концу игры Оливье уже не только был повешен, но даже сожжен. А Лулу смеялся вовсю: «Это был слесарь!» Оливье бурно протестовал: «Так ты ж не той буквой закончил, разве так пишут?»
Существовали и другие игры, но уже без твердо установленных правил. Начиналось с утверждения: «Я буду солдатом…» – и дальше фантазировалось, что могло из этого проистечь, вплоть до абсурда: «Я буду солдатом и… и съем пирог с яблоками!» Или Лулу объявлял: «Одно из двух!» – и Оливье находил всегда первое из двух и никогда – второе, а однажды у него получилось: «Одно из двух – или я глуп… или же… я глуп!»
– Здравствуйте, мадам Хак!
– Ну заходите же, повесы вы этакие, и ведь как только догадались, что я пеку оладьи!
Ребята, которых действительно привлек к ее окну вкусный запах, подмигнули друг другу и зашли к Альбертине, чтоб сразу пристроиться к столу и лежавшим на тарелках оладьям, благоухавшим апельсиновым сиропом. В знак благодарности им пришлось выслушать откровения Альбертины, рассказавшей о пресловутых путешествиях своей дочки, а также о тех временах, когда она была «не такой, как сейчас», и разные зажиточные господа просили ее руки: «Но я была такой дурой, что отказывала, а если бы согласилась, была бы нынче богатой!» Потом она заговорила о людях, которые ей завидуют: «Знаете, всем трудно нравиться, ведь я не луидор!» В заключение она сообщила детям секреты, которые ей поведал в переписке один индийский спирит, после чего стала гадать на картах.
Альбертина полностью ушла в это занятие, как вдруг какой-то бродяга постучал в окно:
– Дайте мне чего-нибудь, хозяйка, я голоден!
– Скорее хочешь выпить, а?
И все же она сунула ему монетку, а дети так и прыснули со смеху, глядя на рожу этого прохвоста, похожего на Кренкебиля, который уверял свою благодетельницу: «Боженька воздаст вам сторицей!»
Альбертина закрыла оконные створки, но все равно в комнату доносились с улицы голоса женщин, возвращающихся с рынка, – они жаловались на дороговизну или рассказывали друг другу, чем сегодня занимались: «Ну, будильник мой отзвонил, и – черт побери! – подумала я, – все мы скоро помрем, – и заснула еще на четверть часа. Потом стала мыться. Надо было еще и белье замочить. Ну, затем пол протерла. И…» – «Вечно всюду пылища, денег всегда не хватает, сплошное кругом злопыхательство, никакой тебе благодарности и приветливости. Как ни выбивайся из сил, все равно без толку»… Следовал общий вздох. Он относился к наиболее пострадавшей. Они будто состязались в жалобах. Собеседницы шли дальше и все говорили, говорили, голоса их слышались глуше, пока не превратились в какое-то неясное куриное кудахтанье.
Лулу сидел, облокотившись о стол, и терпеливо слушал объяснения Альбертины, раскладывавшей пасьянс, а Оливье созерцал фарфоровую подставку с декоративным яйцом. Мысли его забрели далеко. Вот он сидит около мамы за овальным столом. Виржини готовит гренки – мажет хлеб свежим маслом, потом режет его тонкими ломтиками. В красной кастрюльке кипит вода и пляшут яйца, а Виржини быстро шевелит губами, отсчитывая сто восемьдесят секунд…
Немного позже, уже на улице, когда Оливье прощался с Лулу, он с беспокойством сказал другу:
– А вот Даниэль исчез!
– Паук? Правда? Может, он уехал?
– Нет, – отвечал Оливье, – тут что-то другое.
– Может, он умер? – предположил Лулу. – Ну ладно, мне пора. Привет, Олив!
Оливье, проводив друга, пошел посредине улицы, старательно выворачивая ноги и стремясь ступать между торцами. Он уже многих спрашивал про Паука. Альбертина ответила:
– Ну, знаешь, так всегда бывает с людьми: одни уходят, другие приходят…
Мальчик подумал, что Бугра мог бы сообщить ему больше, но старик почесал бороду и ответил так, словно Паук принадлежал какому-то далекому прошлому:
– Ах, он… Тот человек? Все несчастья мира обрушились на его тело!
Все несчастья мира!
Так как на улице было пусто, а Жан вернется домой нескоро, ребенок решил направиться к Люсьену. Радиолюбитель слушал музыку и отстукивал ритм отверткой.
– Послушай-ка… – сказал Люсьен.
Но так как он медлил, не находя сразу слов, жена его подсказала, что играют «Волшебную флейту». Женщина вытирала одновременно по две тарелки, стараясь работать бесшумно. Они послушали вместе, и Люсьен попытался четко сказать: «Это театр Ла Скала в Милане!», но застрял на слове «Скала», покраснел от усилия и с досадой щелкнул пальцами. Послышался стук в стену из соседней квартиры.
– Сделай потише! – попросила его жена усталым голосом.
Люсьен выключил музыку, выпил стакан воды и начал беседовать с Оливье почти без заикания, голосом тонким и робким, но с приятными модуляциями. Он любил говорить о будущем и верил, что оно будет счастливым, невзирая на болезнь жены, на кризис, на слухи о предстоящей войне. Он не сомневался, что сбудутся все его радужные мечты и начнется жизнь среди цветущих садов, зеленых полей, в светлых домах, окруженных спортивными площадками и театральными залами, совсем как в набросках архитекторов, – жизнь, обещающая людям нескончаемые удовольствия: игры, смех, музыку. Люсьен добавил:
– Я-то этого не увижу, а вот ты – возможно.
– В двухтысячном году? – спросил Оливье.
– О нет! Много раньше.
Но сухой кашель жены заставил его поникнуть. Он вздохнул, посмотрел на малыша и снова включил радио, приглушив звук. Люсьен принадлежал к тем редким в квартале людям, которые любили то, что называют «серьезной музыкой». Оливье чувствовал себя хорошо в этом доме не только потому, что ему было с Люсьеном легко и просто, но также и потому, что звучащая здесь музыка и песни, слов которых он часто не понимал, все же помогали ему приблизиться к странному, неведомому миру, казавшемуся мальчику далеким и недоступным.
– Вот что! – сказал Оливье, как только мог равнодушно. – А Паук? Он что, уехал отсюда?
– П-по-хож-же, – ответил Люсьен.
– Так для него лучше, – добавила мадам Люсьен, и лоб у нее покрылся холодной испариной.
Оливье заявил, что ему уже пора, но все-таки чуть задержался, прислушиваясь к музыке. Он подумал перед уходом, что надо бы сказать какую-нибудь любезность несчастной чахоточной женщине. Но слов не нашел и просто поцеловал ее в худую щеку с ярким лихорадочным румянцем. Люсьену он протянул руку и степенно поблагодарил его, а тот проводил мальчика до самой улицы, по-приятельски похлопывая по спине.
*
Значит, на улице люди могли исчезнуть и никто об этом не беспокоился. Оливье подумал о маме. О ней уже почти не говорили, как будто никогда тут не существовало ни ее галантерейной лавочки, ни ежедневных бесед с ней, ни взаимных услуг, ни дружбы. Ребенок сжал кулаки и почувствовал, что у него задрожал подбородок.
Разве он, Оливье, не был единственным другом калеки? Мальчик раздумывал о Пауке, словно считал себя ответственным за его судьбу. Он решил заглянуть в тот дом на улице Башле, куда, как он не раз видел, входил Паук, боком протискивая свое изуродованное тело в узкую дверь.
Мальчишка, которого все называли Пладнером, по пути толкнул Оливье, но, к великому удивлению задиры, тот встал в оборонительную позицию и крикнул:
– А ну подойди-ка, я жду.
Пладнер нахально взглянул на Оливье, но отступил. Тогда Оливье двинулся на него, поигрывая плечами, как настоящий боксер:
– Ближе, ближе, жалкая ты душонка!
– Некогда мне, – ответил Пладнер, – я тобой попозже займусь.
И пошел восвояси, хлопая себя рукой по заду и делая непристойные жесты. Оливье понял: победа за ним – и даже удивился. Значит, можно сделать так, чтоб с тобой считались? Он вспомнил Мака, учившего его, как надо себя защищать, как наносить удар в подбородок, и уже с большей уверенностью вошел в подъезд дома, где жил Паук.