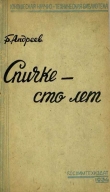Текст книги "Шведские спички"
Автор книги: Робер Сабатье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Предисловие
– «Шведские спички»? Что за книга? – спросит себя читатель, взяв в руки этот роман известного современного поэта, члена Гонкуровской академии Робера Сабатье.
Название романа заставит, быть может, кое-кого вспомнить об Антоне Павловиче Чехове. «Шведская спичка. Уголовный рассказ» – так была озаглавлена насмешливая, даже веселая новелла молодого Чехова, пародировавшего модные в восьмидесятых годах прошлого столетия (как, впрочем, и сейчас) детективные романы.
Но, кроме случайного совпадения названия произведений Чехова и Сабатье, между ними нет ничего общего. Роман французского писателя – это неторопливое лирическое повествование о нелегкой судьбе десятилетнего мальчика с Монмартра Оливье Шатонефа, который неожиданно, после скоропостижной смерти матери, хозяйки крошечной галантерейной лавочки, остался круглым сиротой в огромном, знакомом и вместе с тем чужом Париже тревожной поры между двумя мировыми войнами.
А шведские спички? У Оливье всегда в кармане два спичечных коробка – в одном из них гремят несколько сантимов, которые время от времени дает ему сердобольная кузина Элоди на какое-нибудь лакомство, а в другом – спички. Оливье любит зажигать их, когда забивается в свое убежище – темную конуру под лестницей Беккерель, – с тоской раздумывая о свалившемся на него горе. Мальчик смотрит на огонек, который вспыхивает и гаснет, но рассеивает сумрак и помогает ему коротать горькие минуты одиночества. Впрочем, как и всякий ребенок, Оливье старается отогнать тягостные думы, он бродит по улицам и переулкам Монмартра, встречает бывших школьных дружков, играет с ними на пустырях, сидит у отзывчивых обитателей своего квартала, жадно ловит человеческую ласку, внимание…
Когда читаешь начало романа, начинает казаться, что возвращаешься в привычный, запомнившийся с детских лет мир классических романов. На память приходят печальные истории Оливера Твиста, или Дэвида Копперфилда, или, обращаясь к более близкому по времени, – образ маленького Даниэля из книги «Малыш» Альфонса Доде.
Но постепенно привычные образы прошлого отступают, уходят в тень. Нет, книга Сабатье не похожа на классические произведения XIX века о трудном детстве. Самый строй авторской речи, образы, метафоры с неопровержимостью доказывают, что это не реконструкция диккенсовских романов о несчастливых мальчиках и не возрождение традиций раннего Доде; это принципиально иное, новое.
Об этом говорит любая фраза наугад: «Оливье жил в теплом воздухе галантерейной лавочки, как удачное слово в поэме». В XIX веке так не писали. По всему стилю авторского письма явственно чувствуется: писал наш современник, это роман последней трети нашего столетия – ошибиться трудно.
Хочется сказать, что в пестром многоцветном потоке современной французской литературы, с ее порой искусственно усложненной формой «нового романа», или «антиромана», или преувеличенным вниманием к эротическим коллизиям, книга Робера Сабатье «Шведские спички» выделяется своей лиричностью, непосредственностью, простотой, реализмом в лучшем понимании этого слова.
Вместе со своими друзьями и единомышленниками, коллегами по Гонкуровской академии – Эрве Базеном, Арманом Лану, Бернаром Клавелем, – Робер Сабатье упорно и настойчиво идет против модных в наше время модернистских течений, против игры в слова; слово – высокая, святая ценность; романы – картины реальной жизни, нередко отражение пережитого.
Сабатье не скрывает, что многое в «Шведских спичках» автобиографично. Вот что он писал в газете «Франс-суар» 8 августа 1974 года:
«Самая замечательная история, какая когда-либо приключалась со мной, произошла в Нью-Йорке летом 1968 года. Я прогуливался в бедном квартале, который называется «Литтл Итали» – «Маленькая Италия». Было ужасно жарко. На тротуаре дети открыли пожарный кран и бултыхались в воде, на их лицах сияло счастье. Я поглядел на них, и вдруг из глубины памяти всплыло воспоминание: 1933 год, моя мать только что умерла, отца уже давно нет в живых. И вот так же, как эти дети из «Литтл Итали», я барахтаюсь в воде под пожарным краном на моей родной улочке Лаба, там, на нашем Монмартре.
Ожившие в памяти картины далекого прошлого неотвязно преследовали меня. На следующий день я снова вернулся в этот нью-йоркский район, и хотя он, в сущности, выглядел почти современно, я на каждом шагу встречал картины моего детства тридцатых годов. Можно было подумать, что мне все это снится.
В тот же вечер в номере гостиницы я начал писать о своем детстве на Монмартре и назвал свой роман «Шведские спички».
И вот перед нами воскрешенный писателем Париж первой половины тридцатых годов, последнего десятилетия перед началом второй мировой войны. Еще никто не верит в близость этой войны; на горизонте обозначаются лишь первые ее тучи, и они пока не внушают тревоги. Другие заботы – жестокий экономический кризис. День ото дня все туже затягивает петлю безработица, безденежье, гаснут надежды вырваться из трясины нищеты – вот что заставляет волноваться рабочих, консьержек, мелких лавочников, обитателей кварталов Монмартра.
По некоторым приметам времени можно с большой долей достоверности определить хронологические рубежи описываемых событий: начало тридцатых годов. Экономический кризис, поразивший страну и весь капиталистический мир, еще кажется непреодолимым, хотя низшая точка падения уже достигнута. Все недовольны, но общественная неудовлетворенность еще не откристаллизовалась, не отлилась в четкие формы. В соседней Германии на трясине кризиса быстро вырастает ядовитая поросль гитлеризма. Во Франции все в брожении; но ни предпосылки, ни идеи Народного фронта еще не созрели – это будет позже.
Впрочем, Робер Сабатье отнюдь не стремится к тому, чтобы воссоздать во всей полноте социальное полотно того времени. Оно обозначено сугубо эскизно и остается скорее набросанным крупными мазками историческим фоном, оттеняющим события, ограниченные точно локализованной частью Парижа, вернее кварталами Монмартра, и даже не всего Монмартра, а тремя-четырьмя его улицами.
Если не считать смерти Виржини – матери маленького Оливье, – с чего, собственно, и начинается роман Робера Сабатье, то на протяжении всех последующих глав почти не происходит заметных событий. Сюжетная линия ровна и, если угодно, однообразна.
День тянется за днем, с мелкими будничными заботами, со своими радостями и огорчениями. Улица Лаба, улица Башле, улица Рамей, лестница Беккерель… Этот замкнутый, как бы отграниченный от кипящей жизни остального Парижа микромир одного из кварталов Монмартра живет обособленной жизнью. Здесь все знают друг друга, как в маленькой патриархальной деревне какой-нибудь глухой провинции. Старый, грубоватый, все понимающий Бугра, мастер на все руки, живущий случайными заработками; всегда голодный калека Даниэль, по прозвищу Паук, молча наблюдающий жизнь улицы и вечерами читающий на своей мансарде Шопенгауэра; Принцесса Мадо – очаровательная манекенщица, работавшая ранее в качестве «такси-герл», но сумевшая сохранить в этой трудной жизни доброе сердце и полную независимость; одинокая привратница Альбертина, которая постоянно заботится о своей внешности, но красивей от этого не становится; мастер радиоаппаратуры Люсьен Заика и его чахоточная жена; Красавчик Мак – то ли сутенер, то ли мало удачливый гангстер, завершающий свои похождения тюремной решеткой; кузен Оливье – Жан, типографский рабочий высокой квалификации, и его прелестная жена Элоди, мечтающие о счастливой жизни, но вынужденные с каждым днем все строже соблюдать самую жесткую экономию: ведь Жан все чаще – то на неделю, а то и на две – оказывается безработным…
Таковы обитатели улицы Лаба – простые люди, с трудом сводящие концы с концами, но умеющие быть оптимистами и чистосердечно радоваться солнечному летнему дню. Может, кто-то из них и грубоват на язык, и склонен поиздеваться над соседом, а все же это славные, сердечные люди…
За старшим поколением следует младшее: парижские гамены, сверстники Оливье, его товарищи по школе и улице. Само собой разумеется, отнюдь не «пай-мальчики», почти все сорванцы, драчуны, фантазеры, немного вруны; старшие называют их озорниками, шалопаями. Это дети Монмартра – в родных кварталах они знают каждый подъезд, каждую подворотню; мальчишки с улиц Лаба и Башле воюют с сорванцами соседних улиц – все это в нравах старого Монмартра.
В романе Сабатье как бы соучаствуют наряду с живыми героями множество примет времени, черточек быта: выписанные тщательно, любовно, с деталями, витрины лавочек и продовольственных магазинов, вывески, рекламы, мастерские, бистро, отели, газовые фонари, даже стулья, поставленные в жаркий день перед подъездами домов, когда консьержки выходят отдохнуть и посудачить.
Эти аксессуары уличного быта – немые свидетели горестных переживаний, раздумий, редких радостей маленького Оливье. Они как бы вплетаются в ткань повествования. Мальчик привык к ним с первых дней детства, и окружающий мир казался бы ему другим без этих газовых фонарей, без сомкнувшихся на ночь деревянных ставень над желтыми четырехугольниками окон, без витрин, привлекавших его ребячье воображение.
С самого начала романа, когда Сабатье говорит об «ощущении постоянной, беспощадной, ошеломляющей белизны, которой отличалось солнце» его улицы, читатель угадывает авторскую талантливость. Его покоряет тонкость психологического рисунка детских переживаний, достоверность деталей, колорит времени. Грусть невеселого повествования смягчают острые, красочные эпизоды, юмор, легкая усмешка.
Французская критика встретила роман Робера Сабатье с редким в наше время единодушным одобрением. Первая часть трилогии «Шведские спички» была опубликована в 1969 году и сразу же получила высокую оценку писателей и широкого круга читателей. «Фигаро литерер», «Нувель обсерватёр», «Юманите», «Франс-суар» и многие другие газеты и журналы положительно отозвались об этой книге. В 1970 году Роберу Сабатье была присуждена премия Золотое перо газеты «Фигаро литерер».
Парижан, так любящих свою столицу, роман Сабатье увлек настолько, что один из известных французских критиков Робер Кантер высказался так: «У меня возникла необходимость побывать в тех местах, которые описывает автор, совсем на другом конце города, на этой улице Лаба; оказывается, предприятие Дардара все еще там и бистро «Трансатлантик» тоже… я взобрался по лестнице Беккерель до того места, откуда так хорошо виден собор Сакре-Кёр; а потом вернулся домой дочитывать роман, и все, что я видел собственными глазами, стало в книге еще более теплым и светлым… Это отменная книга, – продолжает критик, – в ней нет безвкусицы, она строгая, но не суровая, книга, полная жизнелюбия, и, читая ее, трудно самому не проникнуться этим чувством…»
С тех пор уже вышли последующие части этой трилогии – «Мятный леденец» и «Дикие орешки», – которые столь же высоко оценили и полюбили французские читатели.
А. Манфред
Ослепительной была моя улица.
Прошли годы. Я кое-чему научился, много путешествовал, узнал края иные, запомнил блеск других небес, морей и солнца, порождавших несравненные оттенки света, столь необходимого человеку, как и растению. Но ничто, ни природа, ни книги, не оставило в моей памяти ничего равного этому ощущению постоянной, беспощадной, ошеломляющей белизны, которой отличалось солнце моей улицы.
Блеск этот, без сомнения, существовал лишь в моем воображении, его волшебно преобразила память, и я не совсем уверен, был ли он таким на самом деле. Но торжество солнца совпадало с торжеством жизни.
В десять лет я впервые узнал, какова она жизнь: она заявила о себе первой раной; кончалось растительно-животное существование, зверек обретал разум; и так как я был дитя человеческое, а не просто беспечный котенок, слезы не сразу просыхали у меня на щеках.
Да, моя улица была ослепительной, даже со своими серыми домами, которые солнце окрашивало в белые, с мостовыми, отсвечивающими перламутром, и зеленой травкой, упорно пробивавшейся в расщелины меж камнями, с каменными тумбами, охранявшими уединение этих мест. До того ослепительной, что каждое мгновение ее жизни отпечаталось в моей памяти, будто на негативе. Навсегда. Вот я вижу вновь этого чистого сердцем, взволнованного ребенка лицом к лицу с его первой жизненной трагедией, вижу трепетание его век, слышу необычное биение сердца, как будто это был совсем не я, а мой собственный сын, чей образ уже растворился в этом избыточно ярком сверкании. Но мир того времени выглядел все-таки жизнерадостным…

Глава первая
Ребенок кончиками пальцев провел по губам, коснулся влажной щеки, скользнул по векам зеленых полузакрытых, слишком больших для его маленького лица глаз, отбросил прядку длинных золотистых волос, но она снова упала на лоб. Долгим прерывистым вздохом он втянул в себя теплый пыльный воздух.
Он сидел на самой кромке тротуара, как раз посредине между бороздками, отделявшими эту каменную плиту от соседних, и рубцы его черных вельветовых штанишек отпечатались на теле. Мальчик долго не вставал с места, внимательно оглядывая все вокруг, как будто только что проснулся в незнакомом ему месте. Впервые зрелище улицы захватило его; один эпизод следовал за другим, декорации сменялись: до сих пор мирок его был замкнут объятиями матери, уличные события оставались где-то в стороне, он никогда их особенно не замечал, но вот они обрели свое собственное существование, а вместе с ними и его тело, его одежда, он сам. Он жадно осмотрел все подряд: дома, лавчонки, стены, вывески, уличные таблички… и все это мало-помалу становилось для него чем-то особенным, подавляюще полным жизни. И тогда он задумался об этом новом для него мире и о своем месте в нем. Почему он оказался именно здесь, а не в другом каком-либо месте? Почему его окружает все это? За что те или иные радости и беды даны ему, Оливье, сыну Пьера и Виржини Шатонеф, скончавшихся? Почему он отныне так одинок?
Один. От всех отделенный. Одинокий, как проходящая мимо собака. Обособленный, как этот короткий участок улицы Лаба (от дома номер 72 до номера 78, от номера 69 до номера 77), отрубленный, как голова от туловища, перекрестками, следующими один за другим, улицей Ламбер (отель дю Нор, отель де Лалье, комиссариат полиции), а еще ниже – улицами Рамей и Кюстин. Этот копчик улицы Лаба упирается в улицу Башле с ее облезлыми домами, над которыми на холмах Монмартра нависают восьмиэтажные здания, и кажется совсем иной, отколовшейся от других улицей.
Оливье медленно читал, подняв голову, одну вывеску за другой: «Предприятие Дардара», «Кровельное дело», «Прачечная», «Вина Ахилла Хаузера». Он пробежал глазами и другие вывески, но так быстро, что они слились в одно нескончаемое, почти бессмысленное слово: яйцасегодняшниесвежиеизовернихлебвенскийплиссированныеворотники… Потом он попробовал читать наоборот, с конца, а уж затем выделить каждый слог и попытаться навести порядок в этом взбесившемся алфавите.
Ребенок, опершись на колени и раздвинув худые ноги, наклонился, чтоб осмотреть русло канавы, где по утрам быстро сбегали сточные воды, чтоб исчезнуть в люках канализационных труб. Меж торцами мостовой он нашел ценную вещь: горбатый гвоздь, форма которого напоминала силуэт кораблика. Оливье вытянул правую ногу и, отклонившись назад и влево, старался засунуть находку в уже достаточно набитый карман штанов. Вдруг ему вспомнилась фраза, услышанная у стойки кафе «Ориенталь»: «Если ты часок погуляешь вдоль канавы, внимательно глядя в воду, то почти всегда обнаружишь в ней парочку монет, чтоб заплатить за графинчик красного винца!» Графинчик красного, красный графин, графин. Слова эти мелькают в его голове, а потом улетучиваются. Он совсем не умеет сосредоточенно думать.
Но вот Оливье встал, расправил штанишки. Он пошел вверх вдоль залитой солнцем улицы, отворачиваясь от галантерейной лавочки – «Торговля полуоптовая и в розницу» – с деревянными полированными ставнями, на которые наложены легкие свинцовые пломбы. Ему сдавило грудь, вырвалось что-то похожее на рыдание и перешло в икоту. Оливье ощутил, что вот-вот он заплачет, но ему удалось сдержать слезы.
Он посмотрел на небо. Солнце даже сквозь рубашонку жгло ему плечи. Мальчик опасался, что оно скоро спрячется. Оливье боялся темноты, которая казалась ему страшней, чем те два шалопая с улицы Башле, отлупившие его недавно. Ребенок и не пытался дать им отпор или хотя бы крикнуть, как будто эти удары ничего для него не значили, словно он заслужил их. Тогда один из нападавших рассвирепел и, уходя, завопил:
– Загнулась твоя мамаша. Так тебе и надо!
На улице драка была делом обычным, вполне принятым. Дуду и Лопес жили на улице Башле, Оливье – на улице Лаба; стало быть, он расплачивался за старое соперничество, но, услышав брань, оторопело поглядел на них: «Загнулась твоя мамаша. Так тебе и надо…» Мальчик пытался понять, представить себе эту кару справедливой, этот удар судьбы обоснованным, но напрасно – мысли его смешались, и он заплакал.
Оливье угрюмо брел дальше, и вдруг в бельэтаже дома номер 73 с шумом открылось окно квартиры, где жила пышнотелая мадам Хак. Она оперлась о подоконник толстыми руками и, кивнув ему, крикнула:
– А ну, зайди-ка сюда.
Оливье с любопытством посмотрел на ее мощные руки и зашел в подъезд, коричневые, облупленные стены которого напоминали истершуюся географическую карту. Жилище консьержки мадам Хак пахло стираным бельем и лавандой. Закрывая окно, женщина заметила: «Опять бродяжничал…» Ребенок не ответил. Он уселся на соломенный стульчик и ласково поглаживал длинные висящие уши рыжей собаки.
Лицо мадам Альбертины походило на незавершенную скульптуру: в грубой массе едва проступали черты лица, которым, очевидно, надлежало быть тонкими. Как все тучные люди, она умела создавать себе иллюзии перед зеркалом. Зеркало у нее было узкое, и в нем она казалась на диво худощавой и не раз подолгу задерживалась перед ним, разглядывая себя и принимая различные позы, внушавшие ей некоторое успокоение. Теми же соображениями была вызвана и ее смехотворная прическа: букли, как черные стружки, болтались вдоль ее отвислых щек. Губная помада, щедро наложенная на верхнюю губу, еще более округляла малюсенький ротик, а два мазка румян на скулах прекращали ее в какую-то одутловатую марионетку.
Все трое – женщина, ребенок, собака – сидели молча. Огромный шкаф из Бресса, с узорными филенками, был заполнен аккуратно разложенными стопками белья, пропахшего душистыми травами, лежавшими в маленьких мешочках. Жилище консьержки Хак было не похоже на квартиры ее коллег в этом квартале, оно было куда чище, даже кокетливей. Альбертина иной раз говаривала, что у нее, кроме скромного заработка, имеются и другие доходы: ее дочка вышла замуж за богатого человека, путешествует вокруг света и нередко посылает ей денежные переводы. Хотя Альбертина и держала всегда на столе раскрытый альбом с наклеенными в нем яркими марками, никто ее рассказам не верил: не пыталась ли она таким способом, как и каждый в этом населенном простонародьем квартале, сохранить хоть крупицу мечты, хоть каплю значительности?
Женщина прижала к своей пышной груди большой четырехфунтовый каравай с золотистой корочкой и отрезала от него толстый ломоть. Корочка приятно хрустнула. Без особой приветливости Альбертина осведомилась у мальчика:
– С мармеладом хочешь или выпьешь чашку шоколаду?
Оливье промолчал, и консьержка, с недоумением пожав плечами, прошептала: «Ах, боже мой», – намазала хлеб маслом и посыпала солью из коробки фирмы Церебос.
Мальчик поблагодарил и стал есть, осмотрительно подбирая падающие крошки. Золоченый маятник стенных часов, казалось, почти не двигался с места. Собака время от времени становилась на задние лапы, пытаясь схватить бутерброд, и ребенок в растерянности подымал кусок хлеба над головой. Тогда пес с ленцой снова ложился на пол и жалобно скулил. В комнате царила торжественная тишина, которую нарушал только скрип паркета или жужжание мухи, бьющейся о стекло. Альбертина вязала носки, четыре спицы образовывали квадрат. Оливье смотрел, как она это делает, и раздумывал, каким образом носки получаются круглыми. Он не спеша откусывал хлеб, долго пережевывал каждый кусочек, продлевая процесс еды, ибо не знал, что ему дальше делать, о чем говорить.
Тишина. Молчание. И так все время. Ужо целую неделю вокруг него все помалкивали, и мальчику казалось, что в этом молчании таится какое-то осуждение. Поэтому он чувствовал себя провинившимся, словно был в ответе за смерть матери. А он еще сам не мог поверить в ее смерть, не в силах представить себе неумолимую правду.
– Ты опять подрался, – сказала вдруг Альбертина.
Ребенок ответил: «Нет, это Дуду и Лопес, они…» И когда она возразила: «Вот так ответ», – Оливье уточнил, и голос его звучал как-то странно, будто ему претило объяснять столь очевидное обстоятельство:
– Они так сделали потому, что мама моя умерла.
Альбертина, охваченная возмущением, проворчала: «Все они шалопаи, все!» – и добавила, желая быть беспристрастной: «Да и ты тоже хорош!.. Вечно по улицам шляешься!» Она вздохнула, затем неожиданно открыла ящик комода, бросила туда свое вязанье и моток шерсти. За эту шерсть она еще не уплатила. Ей казалось, что ребенок знает об этом и что в его глазах она читает упрек, потому Альбертина со злостью сказала: «За мной не пропадет!» – и, охваченная внезапным гневом, добавила еще громче:
– А ну, живей убирайся, брысь отсюда, доешь на улице, крошки всюду набросал, лодырь ты эдакий!
Почему у нее вырвались эти слова? Отдавала ли она себе в этом отчет? Может быть, потому, что зеркало отразило гусиные лапки морщин вокруг глаз? А может быть, потому, что она немало горя хлебнула в жизни? Консьержка смотрела вслед уходящему Оливье и, немного остыв, палила себе рюмочку «кальвадоса», выпила его с удовольствием лакомки, потом решительно сжала губы.
*
Оливье вышел из подъезда, уставившись на носки своих сандалий. На губах его остался соленый привкус. Почему Альбертина заговорила о шерсти? Он вроде понял, но это казалось ему таким мелочным. Только неделя прошла со дня рокового события. На листке ежедневного календаря для записи намеченных дел стояла большая красная цифра 30, за ней следовало выведенное черным слово апрель, а на обложке красовался год, обозначенный золотыми цифрами. Его мать под конец каждого месяца обычно подбивала расходы и готовила счета для покупателей галантерейных товаров. Мальчик взбирался на высокий табурет, стоявший у кассы, а мать, облокотившись о полированный стол, на котором лежал деревянный метр, диктовала ему: фиолетовый фай, золоченые кисти, нитки, подкладка, бумажные ленты, витой шнур, шпульки, портновский приклад… и цифры появлялись на краю строчек в узких графах – весь лист был в серую сеточку. Потом Оливье готовил квитанции, подчеркивал карандашом сумму вычетов вверху, над колонками.
После проверки – это делала его мать – счета укладывались в кучку на столе, под тяжелый магнит с красной ручкой, на котором всегда торчало несколько булавок. А позже все эти счета рассовывали по конвертам с прозрачным квадратиком на лицевой стороне и направляли их адресатам.
Мама Оливье была стройной тоненькой женщиной, изящные черты ее лица освещались большими глазами какого-то необыкновенного зеленого цвета, который Оливье унаследовал от нее, волосы были светлыми, как конопля, она причесывала их гладко, собирая сзади в тяжелый узел, и закалывала черепаховым гребнем. На застекленной двери под ярлычками реклам художник вывел желтыми прописными буквами: Мадам вдова Виржини Шатонеф, но она стерла «мадам вдова», и после этого на стекле остались какие-то следы. Хотя Виржини было уже тридцать, ее все еще звали «мадемуазель», что смешило ее, и она каждый раз показывала на Оливье. В таких случаях кавалеры пускались на пошлые ухищрения:
– Что вы, что вы, это ведь ваш братик. Разве не так, мальчик?
Когда мама подымала руки, чтоб получше уложить свой шиньон или засунуть под гребень непослушную прядь, она напевала без слов: ля-ля-ля-ля – всегда на один и тот же мотив. Ее кожа была белой и гладкой, как у женщин Скандинавии, пристальный взгляд оттененных болезненными кругами глаз смягчался длинными ресницами. Щеки ее порой розовели: в восемнадцать лет правое легкое Виржини слегка затемнилось, но она надеялась, что уже выздоровела. Когда бледные губы раздвигались в улыбке, зубы блестели, как жемчуг. Мода ее занимала мало, и Виржини упрямо носила чересчур длинные черные юбки и блузки из тонкого белого батиста, собственноручно вышитые.
Иногда к ней наведывался какой-нибудь мужчина: некоторое время он посещал галантерейную лавочку, пытаясь подружиться с ребенком, потом вдруг исчезал, и кто-то другой являлся ему на смену. Оливье недолюбливал этих посетителей: когда они приходили, мать закрывала магазин и говорила ребенку, чтоб он шел поиграть на улицу, даже если ему вовсе этого не хотелось. Либо она давала ему деньги на кинематограф – в «Маркаде-Палас» или «Барбес-Пате» либо же в «Пале де Пувоте» (который прежде называли «Мезон Дюфайель»), а то и еще дальше, в «Стефенсон» (обычно говорили короче: в «Стефен»). А иногда мать предлагала ему навестить двоюродного брата и его жену, Жана и Элоди, которые проживали в доме номер 77 на этой же улице, впрочем со дня своей женитьбы Жан уже меньше интересовался Оливье.
Виржини вела себя с сыном скорей как старшая сестра, чем как мать. Порой она притягивала его к себе, долго, как в зеркало, смотрела на него, казалось, она хочет в чем-то признаться, доверить ему какой-то страшный секрет, но тут же быстро закусывала нижнюю губу, растерянно глядела вокруг, будто искала поддержки, которая не появлялась, и восклицала почти умоляющим тоном: «Ну, иди играть, Оливье, иди играть».
А мальчику больше нравилось играть вечерами с матерью в те игры, что лежали в коробках, извлекаемых из шкафа: в красные и желтые лошадки, в лото с нумерованными картонными картами и мешочками, в которых находились фишки в форме маленьких деревянных бочонков, а еще он, любил шашки, из которых одну затерявшуюся заменили пуговицей, любил домино, блошки… Вот тогда они были по-настоящему вместе, объединены общей радостью. Однажды вечером, когда Виржини учила его играть в Желтого карлика, она, вдруг прервав игру, сказала:
– Не зови меня больше мамой. Говори: Виржини.
Но он с недовольной гримасой продолжал едва слышно шептать: «Мам!»
Галантерейная лавка была набита всякими сокровищами, лежавшими в беспорядке и во множестве выдвижных ящичков, и в куче картонных коробок, и в пакетах с ярлычками; там были ленточки с красными инициалами, чтоб метить белье, сантиметры для швеек, тесьма, позумент, обшивной шнур, застежки-молнии, резинка. Оливье постоянно помогал матери вести опись товаров, знал все марки шерсти для вязанья и бумажных ниток, разбирался в прикладе, был знаком с качеством пенькового и льняного полотна, понимал в пуговицах, знал, где лежат круглые, блестящие, как черные глаза, а где – простые штампованные, или те, что из кожи, из дерева, из перламутра, металла, из кости, ему были известны всевозможные сорта тесьмы, изделия металлической галантереи; он знал, какие ножницы нужны белошвейке, какие портному, портнихе, а какие годятся для вышивания, для фестонов, для кроя. Он обо всем тут имел представление: о швейных иголках, вязальных спицах, крючках. Канва для вышивания с трафаретом по картине художника Милле «Анжелюс», по басне «Лисица и журавль», бесконечные розы и кошечки предназначались для тихой работы по вечерам. Булавки с головками из агата, всякие позументы, ленты, воланы, кружевные жабо и воротнички, косыночки, шелковые цветы вызывали мечты о нарядной, изысканной жизни. Оливье собирал пустые катушки, а потом дарил соседским девочкам – те радовались, собирая из них цепочки.
Утром магазин был всегда полон, приходили не только домохозяйки, но и белошвейки, портнихи, разные болтливые дамочки, местные портные, которым Виржини делала скидку. Разговаривали, смеялись, выслушивали или давали советы, перелистывали журналы мод, выбирали выкройки. Материи и ленты струились вдоль деревянного метра под внимательными взглядами покупателей, касса весело звякала, отмечая стоимость покупок. А имя Виржини повторялось раз десять: «Виржини, мне зеленого канта»… «Виржини, готово плиссе-солнце? А пуговицы? А шелковые охлопки?..» «Мне нужен, Виржини, розовый шнур для бортов! Дайте корсажной ленты, той, что по двадцать пять, резинки для подвязок, плечики»… «Виржини, прошу тесьму, прошивку, гипюр, нет, не так много, не этот, другой… Виржини, Виржини…»
В тот вечер, разбитая сухим кашлем, она прижала к груди свою длинную белую руку, на одном из пальцев блестели два обручальных кольца – ее и покойного мужа, скончавшегося пять лет назад. Глаза сверкали лихорадочным блеском, и, так как ребенок за ней наблюдал, Виржини с усилием улыбнулась. Она раньше, чем обычно, закрыла лавку, проговорив:
– Больше никто не придет… – и добавила более веселым тоном: – Знаешь, Оливье, приготовим-ка шоколад!
Магазин находился в передней комнате, в квартире их было две. Кругом тут было навалено разных товаров. На зингеровской швейной машине в куче лежали ножницы, наперстки, нитки, куски материи, подушечки для булавок. На ореховом столике, где обычно царствовала «раненая ассирийская львица» из бронзы, с отвинчивающимися стрелами, находились еще и картонки, и связки мотков шерсти, и каталоги, и целая груда образцов.
Когда наступили сумерки, Виржини зажгла люстру с тюльпанами. Освободила полукруглый столик от каких-то пакетов, протерла клеенку, взяла из буфета толстую плитку шоколада для варки, сняла с нее зеленую обертку, украшенную гирляндой золотых медалей, сняла фольгу и протянула сыну кухонный ножик: «Настругай шоколад на тарелку… Нет-нет, потихонечку. Эй! Не пробуй так часто…»
Когда у Оливье все было готово, Виржини развела шоколад в кипятке, разминая комки о стенки кастрюли. Шоколад в смеси с какао приятно пах. Когда плитку разламывали, края оказывались более светлыми, а поверхность излома шероховатой. Варка имела свой особый ритуал: Виржини деревянной ложечкой помешивала жидкость, постепенно маленькими дозами наливая сливки, затем подсыпала немного рисовой муки. Если ей казалось, что шоколад получился слишком жирным, Виржини добавляла несколько капель аниса или кофейного экстракта. Распространялся чудесный аромат. Оливье лепетал: мяу-мяу – и облизывался. Они шутливо упрекали друг дружку в чревоугодии, и Виржини разворачивала пакет со сдобными булочками и намазывала их маслом.