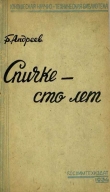Текст книги "Шведские спички"
Автор книги: Робер Сабатье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Внизу начали смеяться, и «обмен любезностями» продолжался, но уже на тему «Заткнись!» Послышалось: «Закрой свой котелок, а то рагу завоняло!» – и вариант: «Заткни свою сахарницу, а то мухи налезут!» Нашелся остряк, брякнувший: «Заткнись своим же дерьмом», и это получило перевес над всем предыдущим. Мадам Громаляр выпустила напоследок еще целую обойму ругани и удалилась, а улица приняла свой обычный вид.
– Ох и люди, ну и люди же… – повторяла Альбертина, надкусив зеленый стручок.
Потом она полюбопытствовала:
– Слушай, что это за история с огнем?
– Понятия не имею, – ответил Оливье немного свысока.
Альбертина сделала еще одну попытку узнать, но мальчик не ответил. Может, он ей когда-нибудь и расскажет, но позже, много позже. Женщина назвала его «молчуном» и добавила к этому «противный». Что же с ними сегодня стряслось? С Бугра, с Громаляршей, с Альбертиной… Все они были в отвратительном настроении. Нет, никогда Оливье не сумеет понять этих взрослых.
Мальчик начал раздумывать, не найти ли себе новое тайное место где-нибудь на пустырях Монмартра, на участке «Труб» или «Горшечной глины». Он разметит камушками границы своей земли и будет там жить, как Робинзон на своем острове.
Его отвлекло от этих размышлений внезапное появление аэроплана, который летел так высоко, что казался не больше чайки. Глаза всех людей, стоявших на улице, устремились вверх, а руки, сложенные козырьком, поднялись ко лбу. Мальчишки знали, что существует два наиболее распространенных вида аэропланов – монопланы и бипланы, – и умели их различать. Сыну кондитера удалось рассмотреть на аэроплане трехцветные знаки, и это вызвало общий энтузиазм. Появление аэроплана дало повод к высказываниям Гастуне (он выговаривал ареоплан) о Гинемере и Фонке, с их общей воздушной славой, за этим последовали рассуждения о бомбардировках и о воздушных боях в будущих войнах. У детей в памяти возникли чарующие имена, связанные с гражданскими подвигами: Мермоз, Линдберг, Блерио, Босутро, Амелия Эрхарт, Костес и Беллонте. Они называли их «асами». Потом кто-то заговорил о дирижаблях, и Оливье припомнились огромные киты, соперничающие в скорости с летучими рыбами.
Ребенок заметил Паука, неподвижно сидевшего у порога арабской гостиницы, и ему захотелось узнать, видел ли тот аэроплан, но спросить не решился. Он только кивнул Пауку и пристроился рядом. Они смотрели, как работает обойщик Лейбович, который вместе с сыном Ильей расчесывал шерсть для матраса. Обойщик расположился посредине улицы, и снежные хлопья разлетались в свете фонарей от его странной машины на колесиках, которую он раскачивал, как люльку, туда и обратно. Оливье поздоровался с Ильей, уселся на краю тротуара, надеясь, что его позовут на подмогу. А пока он смотрел вокруг, деля пространство на отдельные маленькие участки, в точности как это делает кинорежиссер, когда хочет сосредоточить внимание зрителя на деталях.
Как раз на углу улицы Башле в небольшом тупичке находилась трикотажная лавка с вывеской: «Храбрый малыш». Библейский Давид из фанеры, стоящий у порога, подстерегал Голиафа, которого совсем не боялся. Так как здесь продавалось вдобавок и детское приданое, то была и вторая надпись, начертанная белыми буквами прямо па стекле витрины: Для младенцев Монмартра. Немного ниже, напротив, на улице Николе, стояли невысокие дома, довольно жалкие, кем-то прозванные «частными особняками», неподалеку от дворика супрефектуры росли деревья и среди них одна истощенная смоковница, никогда не дававшая плодов, и во всех направлениях были натянуты веревки, на которых сушилось белье. Оливье знал, что Виржини, когда она еще не владела галантерейным магазинчиком, жила вместе с мужем в одном из этих домов. Именно тут они наказали аистам принести им Оливье. Позже ребенку станет известно, что здесь жил поэт Поль Верлен с женой Матильдой. Занятно, что рядом ютился торговец красками и на его вывеске значилось: «Верален». Всего одна лишняя буква.
Когда Лейбович сложил шерсть в полосатую тряпку из тика, а Илья занес шерстобитку домой, Оливье спустился на улицу Ламбер. Окно радиомастера Люсьена было открыто. Он пел, стараясь не заикаться, песенку «Уличные дети». Люсьен зазвал Оливье в комнату, чтоб показать ему чудо прогресса, которое ему принесли для ремонта. Растрепанный, длиннолицый, он нежно и бессмысленно улыбался, расписывая «фонобудильник» фирмы «Питер Пан Клок», предназначенный пробуждать от сна своего счастливого обладателя заранее выбранной им пластинкой.
Потрясенный этой новинкой науки и техники, Люсьен сказал Оливье: «Вот увидишь, придет такой день…» – и стал рыться в своих журналах, пытаясь разыскать тот, в котором среди статей писателей и инженеров было одно исследование, посвященное «новому виду радиосвязи», называемой «беспроволочным фототелеграфом» или еще «телевидением». Люсьен прочел ребенку часть этой статьи и принялся комментировать ее с восторгом, что отнюдь не способствовало внятности речи.
– Т-т-ты увидишь, ч-что при-придет день, и у каж-ждого человека будет дома свое к-ки-но!
Оливье слушал это весьма скептически. Но, чтоб сделать Люсьену приятное, он все же иногда восклицал:
– Ах! Скажите, пожалуйста! Подумайте только!
Люсьен объяснил ему, что раз люди теперь умеют передавать звук, то скоро они научатся транслировать и картинные изображения, и тут же описал ему принцип работы «фототелеграфа». Мальчик, весьма заинтересовавшись, признал своего друга настоящим ученым и, когда покидал его дом, все еще ощущал восторженный трепет.
Оливье вытащил из своего спичечного коробка бумажку в пять франков, расправил ее – после разговора с Люсьеном ему так захотелось пойти в кино! – но, вспомнив о швейцарском ноже, спрятал обратно. Напоследок мальчик заглянул в окно своего друга, сказал ему: «Ох, и здорово это!» – и еще раз попрощался с мадам Люсьен, которая была уже в халате и протирала пальцем, смоченным в сиропе «Делабар», десны своему младенчику, чтобы исчезли молочные налеты. Поразмыслив над тем, что когда-нибудь люди будут смотреть кино у себя дома, Оливье решил, что это слишком неправдоподобная сказка.
Однако все эти раздумья привели его на улицу Кюстин, чтобы просмотреть афиши, извещающие, что идет в кинотеатрах квартала, грубо размалеванные в красные, зеленые, голубые тона, уже чуть облинявшие, ибо на них были программы сразу на три недели. Кинематографы «Маркаде-Палас», «Барбес-Пате», «Рокси», «Монкальм», «Дельта», «Пале-Рошешуар», «Сигаль» пестрели манящими названиями: «Фантомас», в главных ролях Жан Вормс и Жан Галанд, «Дэвид Гольдер» с Гарри Бауэром, «Патетическая симфония» с Жоржем Карпантье, «Последний шок» с Жаном Мюра и Даниэль Пароля, «Шанхай-экспресс» с Марлен Дитрих, «Удары боковой качки» с Максом Дирли, «Тайна желтой комнаты» с Роланом Тутеном и Югеттой экс-Дюфло, «Деревянный крест» с Пьером Бланшаром и Шарлем Ванелем, «Жемчужина» с Эдвиж Фейер… Все это было полно обещаний, и Оливье уже представлял себе бесконечные киносеансы, во время которых он будет путешествовать от фильма к фильму, сидя в волшебном кресле и глядя во все глаза. В точности как те дети, которые стоят перед витринами кондитерских и мечтают в один прекрасный день съесть все пирожные сразу, так и Оливье хотел увидеть все эти фильмы.
В бакалее «Ля борделез» поджаривали кофейные зерна, и вся улица пропиталась их благоуханием. Жан-Жак, сынишка хозяина магазина, сидел на скамейке у дверей и тщился соорудить водяной фильтр, как учили его в классе: пустая коробка из-под консервов с дыркой внутри, слой песка, слой размельченного древесного угля, опять слой песка… Но, когда мальчик пропускал воду, она выходила черной-пречерной, и он безутешно твердил: «Почему же не получается?» Оливье заметил ему, что смесь, пожалуй, недостаточно плотно умята, однако паренек резко сказал, что Оливье ничего не смыслит, так как перестал ходить в школу. Но Оливье, еще весь под впечатлением рассказа Люсьена, ушел от этого брюзги, кинув ему на прощанье:
– Я-то знаю такое, о чем ты даже и не слыхивал.
Он остановился на развилке улиц Рамей и Кюстин. Посмотрел на большой ртутный термометр на здании аптеки «Фармаси Нормаль» и прочел надписи, начертанные против разных делений, – Наивысшая температура 1890, Москва 1812, Точка замерзания спирта, Лед, Глубокие шахты, Оранжереи, Шелковичные черви, Сенегал, Суматра, Борнео, Цейлон, Тропики – и тут же вообразил эскимосов и негров. Солнечные зайчики в витрине скользящими бликами перебегали по двум огромным пузатым сосудам желтого и зеленого цвета, что привлекло любопытство Оливье не меньше, чем эмблема врачей и фармацевтов – палочка Меркурия, обвитая двумя змейками, и зеленый крест, окруженный молочно-белым люминесцентным кольцом. Затем мальчик встал на весы, стоявшие перед дверью. Весовой диск, гладкий, без делений, тут же двинулся и замер меж двух, тоже немых, черточек, а чтобы узнать свой вес, надо было бросить монетку в щель, и только после этого выскакивал билетик с заветной цифрой. Оливье это показалось смешным: будто внутри весов кто-то мог знать, сколько он весит, но ни за что не хотел ему об этом сообщить.
Он еще остановился у витрины торговки зонтами, любуясь зонтами от солнца, палками с ручкой в виде собачьей или утиной головы, детскими тросточками, фигурками Мальчика с пальчик, который лезет в котомку, и подумал, что хозяйке вряд ли удается выгодно торговать в такую погоду. Чуть дальше, около кадок с лавром, у дверей ресторана стояла вырезанная из фанеры и ярко раскрашенная фигура знаменитого кинокомика Харди, еще более жирного, чем в действительности, но на этот раз Харди был разлучен со своим тощим напарником Лорелем – в одной руке толстяк держал сковородку, а в другой рамочку с меню на сегодняшний день. «Салют, Харди!» – сказал ему Оливье, проходя мимо.
Перед домом номер 8 на улице Ламбер всегда можно было увидеть высокую худощавую женщину в черном платье, с белым школьным воротничком и большими, тоже белыми, мушкетерскими манжетами; лицо у нее было бледное, серые с проседью косы поддерживались лиловыми бантами. Женщина обычно сидела на плетеном стуле и бесконечно вышивала на зеленой ленте одни и те же крохотные шелковые розочки с расстоянием между ними в семь сантиметров. За каждый метр этой вышивки она получала плату от большого универмага «Лувр». Она работала, разложив свое вышивание на черной бархатной подушечке, и зеленая лента, на которой появлялся цветок за цветком, змейкой сползала в корзинку из ивовых прутьев. Она была настолько привычным элементом пейзажа, что Оливье ее почти никогда не замечал. И вот, впервые осознав ее присутствие, он остановился посмотреть, как ее длинные ловкие пальцы манипулируют с лентой, иголкой и ножницами. На безымянном пальце у нее был надет наперсток, и этот крохотный металлический кубок увел мысли мальчика в галантерейный магазин Виржини, и он снова увидел мать штопающей носок, напяленный на большое деревянное яйцо. Женщина, вышивавшая розы, вдруг бросила на него хмурый взгляд. Тогда мальчик сказал:
– А это красиво!
И увидел, что на ее губах появилась слабая улыбка. Она отложила на минутку свое вышивание, посмотрела на Оливье, вздохнула и опять принялась за дело.
Оливье медленно пошел дальше. Над черепичными крышами бледнело вечернее небо. Кое-где оно принимало окраску цветов, которые вышивала женщина.
Как радостна была жизнь, и сколько в ней было печали!
Глава восьмая
Элоди с покрасневшими глазами сидела перед двумя белыми тарелками и перебирала светлую чечевицу. Это было похоже на игру. Кончиками пальцев она перекладывала из одной тарелки в другую маленькие круглые, как конфетти, зерна, отбрасывая время от времени мелкие камушки, которые накидал туда не иначе, как сам черт.
На другом конце стола, облокотившись о него, спрятав в ладони лоб, сидел Жан и, уставившись в газету «Ами дю пёпль», раскрытую на спортивной странице, делал вид, что читает. Подавленный и озабоченный, он прислушивался к своим думам, изредка вздыхал и не осмеливался посмотреть на Элоди, будто опасаясь, что если их отчаяние станет общим, то жизнь покажется им еще более горькой.
Когда он просил Элоди выйти за него замуж, то, обратившись к ее матери, с достоинством сказал: «Со мной она никогда не будет голодна. У меня ремесло хорошее!»
Но экономический кризис породил в этом сомнения. Некоторые из его товарищей, никогда ничему не учившиеся, как-то выкручивались и зарабатывали даже лучше, чем он. До чего же все это было несправедливо!
Забыть о постоянных заботах могла бы помочь любовь, но и у любви бывают антракты. Немного позднее взгляд Жана опять остановится на голубой зефировой блузке жены, и он залюбуется ее волнующейся грудью, черной прядью, ласкающей щеку, полуоткрытыми алыми губами, – но теперь настал для него грозовой час со всеми его шквалами, тревогами, взметенными тем же злым ураганом, что и безумные вести в газетах.
Жан время от времени вздергивал брови, пожимал плечами, невольно жестикулировал, будто хотел кому-то что-то доказать, потом опять сжимал кулаки, впиваясь ногтями с въевшейся типографской краской в кожу ладоней. Все в нем взывало: «Что же делать?» С начала недели его взяли на учет как безработного, и мысль, что ему придется теперь занять место в длинном ряду людей, ожидающих, жалкого пособия, лишала его присутствия духа.
В киностудии Франкер не было спроса на статистов, не помогла даже рекомендация Крошки Луи. Жан уже брался за что попало, следуя примеру своего товарища-однополчанина из Люневилля, парня по имени Грегуар, а по кличке Жеже, которого он случайно встретил на улице Пуасонъер, и тот вовлек его в странные авантюры. Они отправлялись вдвоем к бегам или спортивным площадкам, прихватив с собой высокий и узкий складной столик. Придя на место, они расставляли свои столик и на время расходились. Жеже, искоса осмотревшись, доставал из кармана три карты, клал их на столик рубашкой вверх и выкрикивал:
– Играем в три листика, три листика, три листика!
Выкрики тут же привлекали желающих поиграть и просто зевак. Жеже быстренько показывал всем три карты, одна из которых была дама червей, заново тасовал их, пропуская карты меж пальцами, много раз перекладывал с одной на другую и спрашивал:
– Где же дама червей? Где она? Здесь или там? Три листика, три листика…
Какой-нибудь игрок делал ставку, затем, поколебавшись, указывал на одну из лежащих на столике карт. Жеже ее переворачивал: увы, это была не та, что нужно. Он забирал ставку, снова тасовал карты, все быстрой, быстрей:
– А ну, налетай, три листика, три листика…
На этот раз появлялся Жан, он вступал в игру, «валял дурочку», делал большую ставку, а Жеже еле заметным движением языка меж тубами влево, в середку или вправо указывал ему расположенно дамы червей. Жан, конечно, выигрывал, а Жеже, недовольно брюзжа, выплачивал ему сумму. Жан, веселясь от души, снова «валял дурочку», выигрывал, а потом уходил, держа на виду свои деньги. Естественно, теперь всем хотелось играть: если этот тип выиграл, почему бы не попробовать и им?
– Три листика, три листика, три листика…
У Жана была еще одна обязанность: стоять на стреме. Едва вдалеке показывалась форменная фуражка, он приближался, давал знак или же говорил «Двадцать два!» либо «Шухер!», и оба «давали ходу» —удирали в другое место.
Но вся эта затея была Жану не по душе. Не нравилось ему и продавать украдкой галстуки, спрятав их в полураскрытом зонтике и обучая покупателей искусству завязывать модный треугольный узел. Однажды у него даром ушло все утро на совершенно безуспешную торговлю бритвенными лезвиями и на показ, как следует их оттачивать, положив плашмя и потирая о внутреннюю стенку баночки от горницы, – все это дало ему так мало барыша, что не хватило даже на один бифштекс. Нет, у Жана способностей к торговле не было.
– Хочешь кофе? – спросила Элоди.
– Нет, спасибо.
Он взял папку с наклеенной на ней картой Лиона, открыл ее и разложил перед собой печатную продукцию собственного изготовления: карточки коммерсантов, фирменные бланки, каталоги, а также складные рекламные проспекты автомобильных фирм, которыми он особенно гордился. Если ты умеешь так хорошо печатать в четыре краски, можно ли заниматься продажей каким-то простофилям старых банок с пересохшей сапожной мазью? Он с нежностью разглядывал на проспектах автомобили фирм Тальбо, Амилькар, Бугатти, Делаж, Паккар, Шенар, Уолкер, а также Испано-Суизы с их блистающими лакированными кузовами, которым он любовно придал в печати еще более красивые расцветки, чем они обладали в действительности.
Жан все же попросил у Элоди чашечку кофе. Он пил и медленно осматривал свою комнату: начищенную до блеска мебель, кретоновые занавески, сшитые самой Элоди, подвешенное к стенке лакированное сабо с побегами самшита, вазу, наполненную декоративными восковыми фруктами, двух слоников – зажимы для книг, зеленую мраморную доску камина, скатерки, разложенные там и здесь. Уже один счет за мебель остался неоплаченным, со следующим будет то же. А если магазин заберет обратно всю обстановку? А судебные исполнители? Жан заранее представлял себе это страшное бедствие: пустая комната, голые стены, запущенность – как это все будет мерзко! А бакалейщик, который вывесил у себя в лавке плакат с изображением гроба: Кредит умер! А булочник со своим картонным петухом: Когда жареный петух закричит, вам предоставят кредит. А Элоди, которая заявила, что хочет пойти на завод или наняться приходящей прислугой, – неужто ей придется портить свои красивые руки для каких-то богатых сволочей? А все эти газеты, которые уже сейчас предвещают войну и сообщают в своих репортажах, что достаточно пятисот немецких самолетов, чтоб полностью разрушить Париж! Жан тер себе лоб, подбородок, глаза, отгоняя эти жуткие призраки.
Он вздрогнул от неожиданности. В дверь стучали. Пришел Оливье, словно и ему надлежало занять свое место среди всех этих тревог и волнений. Одежда его пропылилась, в золотистых волосах виднелись клочки паутины, лицо было грязное, а сам он пропах селитрой. Оливье держал в руках бутылку «монбазийяка» для Элоди, любившей сладковатое вино, и пакет с черносливом. Он выложил все это на стол и посмотрел на кузенов с довольным видом справившегося с делами расторопного парня.
– Я вкалывал с Бугра! Мы чистили подвалы на улице Беньер.
– Ах ты чистюля! – воскликнула Элоди. – Ну и чистюля! Мыться шагай, да побыстрее, грязный чертенок!
Жан тоже проворчал что-то вроде: «О боже мой, что за парень…» – но довольно добродушно. «Он настоящий оборванец, твой двоюродный братец!» – снова завела Элоди со своим провансальским акцентом. Когда мальчишка вернулся из кухни более или менее чистым, она поставила перед ним тарелку:
– Ну, какой шик! «Пропащий хлеб»! – вскричал Оливье.
– Тебе еще повезло, что хоть что-то осталось. Знаешь, который час?
«Пропащий хлеб» был лакомством бедноты. Под предлогом, что надо вернуть свежесть черствому хлебу, его нарезали, макали в сладкое молоко, а потом, добавив апельсиновый сироп и яйца, подрумянивали в духовке.
Оливье наслаждался вкусной едой, а Жан пошел на кухню поставить бутылку под струю холодной воды из крана. Элоди замочила в стеклянной вазе чернослив.
– Ах, как вкусно, ням-ням-ням! – приговаривал Оливье, смешно надувая щеки и вытягивая губы.
Рейды с Бугра шли ему на пользу. Ребенок заметно посвежел, его мускулы укрепились. Реже появлялась в зеленых глазах дымка печали. Он нашел лекарство и от своих ночных страхов: просто нащупывал в кармане спичечный коробок, помня, что в любую минуту он может победить тьму. Оливье вел себя смелее, посвистывал сквозь зубы, – он теперь знал, как себя защитить: ведь его научил этому Мак.
К полному изумлению кузенов, мальчик вытащил из кармана пачку с четырьмя «парижскими» сигаретами и протянул их Жану:
– Не хочешь ли курнуть, возьми одну…
Элоди от неожиданности толкнула тарелки с чечевицей. Ее угнетали скверные манеры Оливье, но она не знала, что сказать по этому поводу. Вздохнув, Элоди углубилась в хозяйственные расчеты. Она хотела приготовить чечевицу с луком и тонким кусочком сала. А если что-то останется, можно будет сделать и суп или же добавить в салат.
Жан с некоторым колебанием вынул из смятой пачки сигарету и поднес ее к губам. Оливье тут же чиркнул шведской спичкой и подал кузену огонек с лукавой миной:
– Я-то не курю. Слишком молод!
Жан открыл бутылку «монбазийяка». С шумом выскочила пробка. Она была длинной, и Элоди сказала, что это существенно – значит, вино хорошее. Его разлили в три высоких бокала, а в тот, что дали Оливье, добавили «снадобья доктора Густена». И все трое выпили с восклицаниями: «За твое! Чин-чин!» Губы у Элоди были влажными и блестящими, она воскликнула: «Ох! Как вкусно!» И эти минуты, полные веселья и оживления, были такими приятными, что казалось, так теперь будет всегда.
Но Жан снова нахмурился, рассеянно щипнул себя за кончик носа, поскреб отросшую на подбородке щетинку, поднял бокал, словно собираясь предложить тост, но вместо этого растерянно выговорил:
– Мне надо тебе что-то сказать, Оливье, тем более что мы тут все вместе.
Затем он произнес несколько коротких фраз, которые, видимо, давно приготовил, и все же они прозвучали весьма сумбурно:
– Мы ведь друзья, а? Видишь, какое у нас положение… А если у Элоди будет ребенок? Вот – на семейном совете… Нет-нет, не сейчас, недельки через две… Надо с этим кончать… Нотариус, да и другие… Тебе придется жить у дяди… Они ведь богатые, сам знаешь. Тетка его пилит, конечно, но эти люди с Севера… Они медленно на что-то решаются.
Элоди отпила глоток вина и продолжила вслед за мужем:
– Мы бы не прочь оставить тебя, но парень ты не из легких. Бродяга, лодырь, да еще и кривляка. Нет, ты не легкий парень, а мы с Жаном молоды. У дяди ты сможешь учиться, перестанешь шляться по улицам, будешь играть вместе с их сыновьями. У них ведь даже прислуга есть. Как бы ты сам поступил на нашем месте?
Оливье низко склонил голову, слушал и смотрел на пузырьки, поднимавшиеся со дна его бокала. Все эти слова, хоть говорились они с волнением и явной неохотой, причиняли ему боль. Ему в таких случаях хотелось плакать, просить прощения, и в то же время он не мог поверить, что это страшное все же произойдет. Наверное, это одни слова… Одно за другим, просто так, а завтра все будет иначе. Может быть, Жану удастся найти работу. Он ведь такой хороший печатник… Взрослые всегда много говорят, а потом меняют свое мнение.
Почему он сейчас подумал о бассейне на улице Амиро, о его голубой воде, несущей забвение? Он как бы сам превратился в рыбку, плавал в этой прозрачной ясности, и не было у него никаких забот, только ощущение нежных касаний воды, он скользил в ней, скользил… Мальчик поднял голову и столкнулся с суровыми глазами родных. Спросил их:
– А если бы я был рыбкой?
Они с возмущением покачали головой: что за нелепый дерзкий вопрос! Ну и парень, с луны он, что ли, свалился? Жан строго сказал:
– Иди, поиграй на улице. Всем этим выходкам скоро будет конец!
Оливье не понял. Он разглядывал этикетку, наклеенную на бутылку. На ней были изображены шпалеры виноградных лоз, а за ними большой дом. Прошло несколько минут… Жан раздавил сигарету в рекламной пепельнице, зажег вторую. Он несколько успокоился после того, как сказал все. Налил еще бокал вина, но Элоди шепнула: «Не стоит, а?» Завтра Жан пойдет в типографию. Постарается вести себя сдержанно; если не будет работы для мастера, он согласится на любую – мыть и смазывать машины, подметать, упаковывать, развозить печатные изделия. Бог с ним, с этим достоинством квалифицированного рабочего! У него жена, он должен заботиться об этом мальчишке – это и обезьяна поймет.
Он обнял Элоди и поцеловал ее. От волос жены приятно пахло лавандой. Элоди подняла голову. Их потянуло друг к другу. И Жан произнес:
– Ну, улыбнись, Оливье, и иди играть. Все наладится, вот увидишь. А кроме того, ведь мы никуда не денемся!
Ребенку не так уж хотелось играть, но он понял, что должен их оставить наедине: видать, им не терпится заняться той самой штукой. И Оливье бесшумно скользнул за дверь.
*
Па улице он увидел «двух дам», в их строгих костюмах, аккуратных галстучках, с приглаженными помадой «Бекерфикс» волосами; они шли под ручку к Монпарнасу, в те самые заведения с джаз-оркестрами, где они могли встретить таких же, как они сами: в «Колледж Ин», «Ужасные ребята», «Босфор», «Борджиа», «Жокей» и «Викинги». Там они потанцуют темпераментное, неистовое танго, посмотрят на иностранок, плотно прижимающихся друг к другу, а потом отправятся туда, где бывает более знатная публика: в «Гранд Экар», или на экзотический негритянский бал в «Белом Шаре», или в «Джунгли», где принят колониальный стиль.
Ребенок слышал обо всем этом из разговора между Красавчиком Маком и Мадо, которые, по-видимому, тоже неплохо знали злачные места. Этот Монпарнас казался Оливье весьма далеким, а отрады его – какими-то непонятными, вроде тех, что показывались в фильме «Однажды ночью, под Рождество», который он видел в кино «Барбес».
На углу улицы Кюстин Оливье заметил Мадо, садящуюся в такси. Куда она едет? Небось, в такие места, куда детей не пускают. Когда машина исчезла за поворотом, Оливье стало грустно.
У школьной стены, в том самом месте, где обычно по окончании уроков в четыре часа дня ребята играли в стеклянные шарики, пристроилась парочка цыган, смуглолицых, с угольно-черными глазами. У мужчины были длинные черные усы, у женщины – косы и широкая цыганская юбка до пят. Они сидели на стульях под газовым фонарем, напоминая аляповатую картину плохого художника. Если б не суетливые жесты, то, пожалуй, нельзя было бы поверить, что это живые люди. Немного дальше стояла торговка цветами в плиссированной юбке, она поливала водой из ржавой консервной банки сильно пахнущие фиалки. Какой-то старик толкал перед собой повозку, которая прежде служила детской коляской и где, наверно, недавно спал ребенок, а теперь этот человек собирал в нее лопаткой конский навоз с шоссе, чтоб удобрить им свой жалкий садик. Краснорожий бродяга натыкал окурки на острый конец палки, ожидая, пока закончится киносеанс, чтобы просить милостыню у зрителей; потом, уже на рассвете, он будет рыться в мусорных баках. Тут можно было увидеть и компанию молодых парней в кепках, кидавшихся к одиноко стоящим девчонкам, чтоб с ними побалагурить.
Оливье бежал мимо, как быстрый белый огонек. Его зеленые глаза подернула дымка тоски – и так будет теперь всегда, всю его жизнь, во время одиноких прогулок по ночному городу. Точно колоски в поле, он собирал по пути впечатления, питавшие его фантазию, и подавлял в себе неожиданные, странные желания – высказаться, излить кому-нибудь душу или же бегать, петь, играть, как в театре, читать стихи, с кем-то драться либо, напротив, прийти кому-то на помощь, и он не знал, как освободиться от этого бурного, незнакомого ему доселе потока, который переполнял его через край, – он просто пьянел от чувств, запахов, красок, движений. На самой высшей точке восторга холодные слезы катились у него по щекам, а от того, что он плакал вот так, без причины, он казался себе порой сумасшедшим.
Наконец он добрался до кафе «Два каштана», до того места, где по воскресеньям после полудня останавливались автобусы, ходившие на бега, и выскакивал шофер в белой с голубыми отворотами куртке, крича в рупор: Лонгшан, Лонгшан, бега! – пока люди не заполняли весь автобус, в то время как те, что уже сидели там с программой бегов в руках, проявляли сильное нетерпение, опасаясь опоздать на первый забег. Площадь Дельта была так ярко освещена, что Оливье показалось, будто он попал на сценическую площадку из полутемного зрительного зала. Бульвар Рошешуар весь так и струился цветными огнями реклам, прерывистых, пляшущих, и лишь кое-где этот нестерпимый блеск становился чуть мягче от зеленой листвы деревьев. Проезжающие автомобили излучали призрачный свет, их фары казались живыми, точно глаза.
Оливье остановился: дальше в своих ночных странствованиях он обычно не заходил. Но на этот раз решился и вошел в неведомый мир, как путешественник в какой-нибудь девственный лес. После площади Дельта, на которой метро втягивало людской поток в подземную пучину, бульвар обретал ширину. Он превращался в реку, в Ганг, так и кишащий толпами, огромный, загадочный, со своими обрядами, с ночными клубами вместо храмов, приставшими к его берегам, как полные тайн шлюпки, шаланды или пироги, с автомобилями, которые с жестокостью черных акул расчищали себе дорогу гудками, а спасительными островками здесь были разве что фонтаны, газетные киоски и общественные уборные, где то и дело хлопали двери.
Оливье был оглушен, ослеплен разгульем звуков и блеска, толпой, которую так сильно преобразила ночь. Он пробирался вдоль баров, сверкающих своими никелевыми стойками, мимо щегольских ночных кабаре с вкрадчивыми зазывалами и развешанными у входа фотографиями голых девиц, мимо ресторанов с поднятыми над этим людским морем террасами, мимо кинематографов, ночных клубов и сверкающих электрическими огнями театриков, где в стеклянных будках восседали щедро размалеванные кассирши.
В «Трианон Лирик» давали оперетты, которые завсегдатаям этого театра казались «серьезной музыкой»: популярную «Страну улыбок» Франца Легара, «Маскотту» Одрана, «Маленького Дюка» Лекока, «Корневильские колокола» Планкетта. Несколько месяцев тому назад, как-то вечером, когда бульвар был еще весь покрыт снегом, Виржини привела сюда сына, чтоб вознаградить его за хорошие отметки в дневнике. Шла «Мадам Баттерфляй». Сначала Оливье был в восторге, но вскоре заскучал и подумал, что цирк Медрано куда лучше – там он видел клоуна Грока, который так неподражаемо повторял: «Бе-е-з шу-у-у-ток!» – но все же память Оливье сохранила от этого вечера впечатление, что он впервые проник в мир взрослых, где все казалось ему таким роскошным – зал, зрители, а особенно Виржини, надевшая по такому случаю черное платье, расшитое блестками и стразами, да еще ожерелье из искусственного жемчуга фирмы «Текла».
За театром оперетты помещался зал «Элизе-Монмартр», в котором устраивались грандиозные балы и где сводники обычно выслеживали хорошеньких горничных, а еще дальше располагался целый выводок всех этих крохотных эстрадных сцен: «Стрекоза», «Муравей», «Кукушка», «Черный кот», «Два осла», предшествовавших мрачному кабаре «Небытие», вслед за которым можно было заглянуть как в «Ад», так и в «Рай», причем в первом из них через разверстое жерло дверей было видно, как носятся красные чертенята с хвостами в форме стрелы, а во втором похаживают нарумяненные ангелы гомосексуального облика и в свете розовых люстр трясут своими крыльями из картона. Оливье шагал и шагал, обходя огромные озера площадей Пигаль, Бланш, Клиши, порой возвращался, перебегал с одного тротуара на другой, разглядывал круглый шатер цирка Медрано и фотографии, снятые на арене; эстрадный театр «Мулен Руж» со светящимися крыльями мельницы, пивную «Графф», из которой доносилось позвякивание посуды, площадь Анвер со сквериком посредине и «Птичьим кафе», где, как ему представлялось, сидят за своими бокалами канарейки и попугайчики; и дальше перед ним мелькнет то кафе с негритянским джазом, то другое, с цыганами, затем с аккордеонистами и певцами, уговаривающими публику хором исполнять вместе с ними припев; то ресторанчик, откуда валит жирный чад, то странная лестница между двумя стенами, похожая на декорацию экспрессионистского кинофильма, то какая-то красная лавка с зазывалой, одетым в костюм из черного бархата – под певца Аристида Брюана – и с пунцовым шарфом на шее, причем зазывала тащил прохожих чуть ли не за руки; то танцоры, что вышли в антракте на воздух; то книжные лавочки с выставкой в витрине; то мастерская художника или артиста… – и весь этот путь был полон ловушек, встречных людских потоков, гула толпы; ноги людей, непрерывно смыкаясь и раздвигаясь, напоминали циркули, бесконечно что-то измеряющие, а веселье, будь оно искренним или напускным, таило в себе что-то ужасное, как крадущаяся в травах змея, при виде которой холодный пот струйками бежит по спине.