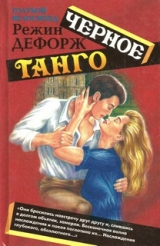
Текст книги "Черное танго"
Автор книги: Режин Дефорж
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
6
По возвращении из Нюрнберга Леа ждал сюрприз: Сара назначила ей встречу в квартире на площади Вож. Не распаковав чемоданы, и даже не сняв форму Красного Креста, Леа помчалась по указанному адресу. Ей открыл дверь белокурый молодой человек с лицом, которое легко можно было принять за девичье.
– Вы Леа Дельмас? Входите, мадам Мюльштейн ждет вас.
Молодой человек провел ее в просторную гостиную с потускневшей позолотой и разнородной мебелью, прокуренную и жарко натопленную, где страстно спорили пять или шесть человек, в том числе две женщины. У одной из них – высокой, худощавой, элегантно одетой – была наголо обрита голова. Она стояла спиной к Леа, но та сразу же узнала в ней Сару Мюльштейн. Женщина обернулась, и ее холодный, жесткий взгляд поразил Леа.
– Оставьте нас одних, – обратилась Сара к собравшимся.
Все тут же молча поднялись и вышли, неприветливо взглянув на вновь прибывшую.
Оробев, Леа не сводила глаз с этой странной, когда-то веселой и беззаботной женщины, которая в свою очередь молча ее рассматривала. Радость, которую она предвкушала от встречи с Сарой, мгновенно улетучилась. Пораженная ее видом и молчанием, Леа не осознавала, что пристально, в упор смотрит на подругу и что это может ту покоробить.
– Вижу, что ты сохранила привычку разглядывать людей, как разглядывают предметы.
Леа почувствовала, что краснеет, и от этого разозлилась. Куда делось предчувствие радости от встречи с той самой Сарой, которую она вырвала из когтей Мазуи и спасла от смерти в Берген-Бельзене?! Сбитая с толку, она молча понурила голову.
– Ну ладно, не сердись! Давай же обнимемся!
Зазвучавшая в ее голосе теплая интонация вывела Леа из замешательства. С детской поспешностью она бросилась в раскрытые объятия Сары и принялась целовать ее щеки, на которых белели неглубокие шрамы. Эти отметины не только не портили холодную красоту этой женщины, но придавали ей еще большую оригинальность, которую подчеркивали также бритая голова и зеленые, казавшиеся огромными, глаза.
– Какой же ты стала красавицей! Девочка моя, ты теперь еще красивее, чем была…
Хрипловатый, надтреснутый голос Сары тронул Леа, и она с неподдельной искренностью воскликнула:
– Не я, а ты красавица, несмотря…
Тут она осеклась и снова покраснела. Сара улыбнулась.
– Нет, я не красавица. Почему ты замолчала?
– Все дело в волосах! У тебя ведь были прекрасные волосы!
– Ну и что? Кому они нужны? Разве что для переработки в ткацком производстве…
– О! Нет!
– Тебя это шокирует? Но именно так они использовали наши волосы. Тебе следует свыкнуться с лежащим на мне клеймом бесчестья. Ведь бритая голова у женщины означает бесчестье. Я думала, что ты это знаешь.
– Знаю, конечно.
– Видишь ли, я хочу, чтобы все, кто меня встречает, думали: это – шлюха.
– Замолчи!
– Да, шлюха, шлюха на потребу бошей, бритая, как продажные девки после освобождения…
– Замолчи! Зачем ты все это говоришь?
– Чтобы ты знала и никогда не забывала об этом. Там, в Германии, меня отправили в солдатский бордель, и каждый день десятки бошей приходили, чтобы надругаться над моим телом. Такую красавицу, как ты, они тоже поместили бы в бордель!.. Да что там! Это – не самое страшное, и я, может быть, могла бы им это простить. Но, кроме этого, было еще и многое, многое другое, а потому им нет, и никогда не будет прощения.
Сара отвернулась и подошла к окну. Прижавшись лицом к стеклу, она долго молчала. Леа приблизилась к ней и положила голову ей на плечо.
– Но все уже позади, ты вернулась, ты жива.
Сара вдруг резко оттолкнула ее и зло рассмеялась.
– Жива, говоришь?.. Нечего сказать, нашла подходящее слово! Как можно выговорить такую глупость!.. Жива!.. Посмотри на меня хорошенько! Я – МЕРТВАЯ!.. Я умерла навсегда! Я – труп среди трупов!.. Почему ты не прошла мимо там, в Берген-Бельзене?! Тебе следовало бы оставить меня гнить среди прочей падали!.. Мое место было там, среди моих товарищей по несчастью, умерших от голода, изнурения и пыток, которых ни ты, ни любой другой человек не может себе представить и в которые даже мы, пережившие все это, не можем поверить. С тех пор, как вернулись, мы каждый день говорим себе: «Нам это приснилось!.. То, что мы испытали, было всего лишь сном, навеянным нашими расстроенными нервами!.. Ни один человек на свете не способен сделать то, что делали они с другими людьми!..» Тем не менее, они были способны и на это, и еще на многое другое. А ты хочешь, чтобы я простила и забыла!.. Все нам твердят: «Забудьте!» Даже среди нас есть такие, кто повторяет это от страха, от извращенного чувства вины. Но я говорю: «Нельзя забывать!» Никогда нельзя забывать! Мы, уцелевшие, должны оставаться вечными свидетелями ужасов, мы обязаны отомстить за всех, кто оттуда не вышел, кого истребили с наслаждением, с доведенной до совершенства изощренностью! Пусть мы погибнем ради этого, пусть сделаемся такими же гнусными, как и они!.. В Писании сказано: «Око за око, зуб за зуб». Чтобы души убиенных покоились в мире, нам предстоит вырвать тысячи глаз и тысячи зубов!.. Ты что-то побледнела. Я напугала тебя? Очень хорошо! Теперь мы будем пугать их, преследовать их по всей земле, везде, где они появятся, даже если нам для этого понадобится целое тысячелетие! Они об этом еще не знают, но мстители поднимаются один за другим, они уже в пути, и они будут неумолимы! «Нечистая» раса истребит их всех, их и тех, что придут после них. Мы, Леа, находимся в состоянии войны, войны, которая продлится тысячу лет – до тех пор, пока грязное чудовище не будет стерто с лица земли!
Шрамы на ее щеках покраснели, лицо напряглось и стало мертвенно-бледным, на бритой голове проступили капельки пота, огромные глаза сделались неподвижными, а руки, красивые руки с длинными пальцами, судорожно сжимались, как бы стремясь задушить невидимую жертву.
С горечью в сердце Леа смотрела на подругу. Любые слова были бессильны облегчить ее муки. Она вспомнила о самоубийстве дяди Адриана и представила, что происходило в его душе при виде пыток и предательства. Каково было бы его состояние, если бы он стал свидетелем ужасов в концентрационных лагерях? Что мог бы он сказать этой обезумевшей от ненависти женщине? Слова участия застряли бы у него в горле, вместо молитв он воздел бы к небу руки и, сжав кулаки, проклял бы Бога, от которого он и без того отрекся, покончив с собой. Если этот мужественный человек, боец Сопротивления, священник потерял волю к жизни, то где было взять силы для возрождения этой молодой женщине, прошедшей все круги ада? По-видимому, Сара нашла источник такой силы в мести. Леа понимала ее, хотя и сознавала, что такой выбор таит в себе множество отрицательных сторон. На какую-то долю секунды ей показалось, что ее долг – любыми способами заставить подругу отказаться от ее страшных планов, но она тут же поняла, что не сделает этого.
– Не надо жалеть меня. Мне не нужно ни твоей, ни чьей бы то ни было жалости. Я жду от тебя другого.
– Требуй от меня все, что хочешь. Ты ведь знаешь, что для тебя я сделаю все, что в моих силах.
– Посмотрим.
Сара долго молчала, ходила взад-вперед по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы еще раз взглянуть на Леа. По ее нахмуренному лбу и сжатым губам можно было предположить, что у нее есть какая-то тайна, которую она не решается раскрыть.
– Я сейчас расскажу тебе кое-что, но поклянись, что никогда не проронишь об этом ни слова. Клянись!
– Клянусь!
– Хорошо. Теперь слушай.
Продолжая ходить из угла в угол, Сара начала свой рассказ:
– Из борделя меня отправили в концлагерь Равенсбрюк. Я была беременна, но еще не знала об этом. В лагере я имела несчастье поднять руку на местную докторшу. Меня сначала избили, а потом подлечили, чтобы я дольше смогла переносить пытки, на которые она меня обрекла в наказание за неповиновение. Когда я немного поправилась, она открыла мне, что у меня должен родиться ребенок, но что она не допустит этого и сделает мне аборт. Эта новость повергла меня в ужас, и в первый момент я скорее с облегчением выслушала ее сообщение об аборте. Это не ускользнуло от ее внимания, и она тут же изменила решение.
– Ты носишь в себе немецкое семя. Очень хочется увидеть, каков будет плод от жидовской обезьяны и представителя чистой расы. Он может стать ценным объектом для моих опытов.
К моему великому стыду я тогда умоляла ее сделать мне аборт. Но она бесстыдно разыграла возмущение и заявила:
– Как ты смеешь просить меня совершить подобное преступление! Я – врач и обязана сохранять жизнь, даже если речь идет о плоде в чреве жидовки.
Чтобы быть уверенной, что я доношу ребенка, она освободила меня от тяжелых работ и поставила на лагерную кухню. Там мне полагался более питательный рацион по сравнению с остальными заключенными. За эту привилегию меня возненавидели все содержавшиеся в моем блоке женщины, хотя иногда я тайком уносила для них продукты с кухни. Когда же стало заметно, что я жду ребенка, они еще больше ожесточились и стали осыпать меня самыми гнусными оскорблениями. Была, однако, среди них одна девушка, которая отнеслась ко мне с сочувствием. Мы подружились, и я стала изредка ее подкармливать. Это была полька по фамилии Ивеньская, прелестное, нежное и хрупкое создание. Ее родителей и младшего брата убили у нее на глазах. От потрясения у нее помутился рассудок. Она постоянно что-то напевала и чему-то улыбалась, вызывая раздражение у окружающих. По ночам она долго лежала без сна на своем тюфяке, а из широко раскрытых глаз текли, не высыхая, слезы на улыбающееся личико.
Однажды врач Герда Оберхейзер приказала привести ее в лагерную санчасть. Я попыталась помешать этому, но медсестра Эрика пинками прогнала меня. Ивеньская пошла туда с улыбкой на лице. На следующий день она вернулась, как всегда улыбающаяся, но мертвенно-бледная, с обострившимися чертами лица, с безумным блуждающим взглядом. Ее руки были судорожно сжаты на животе. Ночью у нее начался сильный жар, и она корчилась от боли с искаженным, но по-прежнему улыбающимся лицом. Страшно было смотреть на эту улыбку на обезображенном страданием лице. Ее трясло под несколькими одеялами, накинутыми на нее другими женщинами. Под тюфяком образовалась лужица крови. На кухне говорили об опытах, проводимых на заключенных в отделении доктора Оберхейзер. Там по приказанию врача Шуманна, прибывшего из Освенцима, более сотни молодых цыганок были прооперированы целой бригадой эсэсовских врачей и медсестер. Проходя мимо санчасти, заключенные слышали крики и плач. Нескольким девочкам облучили на рентгеновских установках яичники, некоторым удалили половые органы. У многих на животе оставались открытые и постоянно гноившиеся раны. Почти все вскоре умерли в страшных мучениях. Та же участь постигла и Ивеньскую. Утром я нашла ее мертвой с застывшей улыбкой на прекрасном и наконец, умиротворенном лице.
Ребенок, которого я носила, начал шевелиться. Со временем я полюбила это крохотное, копошащееся во мне существо. К концу беременности доктор Роза Шеффер госпитализировала меня в родильное отделение санчасти, где и вызвала роды…
Сара замолчала, уставившись в одну точку. Дрожащими руками она достала из кармана платья измятую пачку сигарет, вынула одну из них, закурила от протянутой Леа зажигалки и пару раз нервно затянулась. Ее руки перестали дрожать.
– Родился мальчик…
Ее плечи вдруг опустились, и она раздавила недокуренную сигарету в переполненной окурками пепельнице.
– Я назвала его Иваном… У него были светлые волосики… и вообще, это был очень красивый ребенок…
– Как такая уродина, как ты, могла произвести на свет такого красавца-арийца? – возмущалась доктор Шеффер. – Жаль, что на нем придется проверить действие новой противотифозной вакцины.
Я умоляла ее пощадить ребенка и испытать действие вакцины на мне.
– Об этом не может быть и речи. Ты предназначаешься для другого эксперимента. Если не хочешь отдать мне своего сына, то убей его.
Сара закурила новую сигарету. Шрамы на ее щеках снова покраснели, подчеркивая бледность лица.
– Всю ночь я не спала и прижимала к себе моего ребенка. Под утро, измучившись, задремала. А когда проснулась, ребенка возле меня не было. Надо мной стояла и улыбалась Роза Шеффер.
– Ну, как провела ночь? Вижу, что хорошо, раз ты уже на ногах.
– Где мой сын?
– Твой сын? Ах да, твой сын! Не волнуйся, с ним все в порядке.
– Верните его мне!
– Тебе его вернут, но с одним условием.
– С каким условием?
– Этой ночью одна цыганка родила девочку. Ребенок – урод от рождения, но, в общем, вполне здоров. Мы не можем позволить ему жить. Он должен умереть, и убьешь его ты.
– Я?!
– Да, в обмен на жизнь твоего сына.
Я не верила своим ушам: мне предлагали убить чужого ребенка, чтобы спасти от смерти своего собственного. Я расхохоталась.
– Тебе смешно? Тем лучше.
Она вышла, а я, несмотря на потрясение, продолжала хохотать, как безумная. Немного погодя вошла сестра Ингрид с плачущим новорожденным на руках. За ней шла доктор Шеффер и держала за ножки моего мальчика… Я дико закричала и бросилась к нему.
– Не двигайся, иначе я размозжу ему голову об стену.
Я замерла на месте.
– Убей девочку, и я верну тебе сына.
Сестра Ингрид протянула мне ребенка. В нем не было заметно никакого уродства. Я взяла девочку на руки, и на меня вдруг нахлынула волна нежности. Ее густые черные волосы были мягкие, как шелк. Машинально я поцеловала ее в лобик. Обе немки не сводили с меня глаз.
– Убей же ее, – произнесла почти с нежностью Роза Шеффер.
Я покачала головой и протянула ей ребенка.
– Убей, или я убью твоего сына!
Задыхаясь, Сара прижимала к груди руки. Леа, вся дрожа, очень тихо сказала:
– Хватит, не говори больше ничего. Ты только терзаешь себя.
– Ты говоришь, что я терзаю себя, но на самом-то деле ты не хочешь, чтобы терзали тебя! – взвизгнула Сара.
Подруги стояли лицом к лицу и смотрели друг другу в глаза. Сара первая отвела взгляд и продолжала:
– Доктор Шеффер по-прежнему держала моего мальчика вниз головой в вытянутой руке. Его личико налилось кровью, он задыхался.
– Убей ее!
– Не могу.
Она тем временем раскачивала ребенка, личико которого все больше и больше наливалось кровью, а крики становились все слабее. Тогда я обхватила обеими руками шею девочки и сдавила ее…
Леа с трудом сдерживала приступ тошноты.
– В этот самый момент в комнату ворвалась полураздетая окровавленная женщина. Ее громкий вопль остановил меня. Она вырвала у меня из рук ребенка, а я в ужасе уставилась на свои пальцы… Цыганка прижала к груди новорожденную и начала пятиться к двери, не сводя с нас полных ярости глаз. Но она не дошла до двери. Автоматная очередь прошила ее насквозь. Я наклонилась над тельцем девочки и подумала: «Она еще теплая…»
Потом я осторожно положила маленький трупик на грудь убитой матери. Тут меня начало неистово рвать. Роза Шеффер с искривленным в гримасе ртом не сводила с меня сверкающих от злорадства глаз. Я упала на колени и поползла к ней, протягивая руки к сыну.
– Отдайте его мне!
Она засмеялась.
– Не беспокойся, отдам.
Я задрожала от безумной радости и поднялась с колен… Она же стала вращать ребенка все быстрее и быстрее… Я закричала, попыталась схватить его, но она отпихнула меня ногой и с размаху ударила ребенка головой об стену.
Леа начала медленно сползать на пол. По подбородку Сары стекала пена, ее бритая голова была мокрой от пота, а сухие глаза смотрели в одну точку, в угол комнаты. Потом она направилась туда походкой сомнамбулы, наклонилась, как бы подбирая что-то, сложила руки крест-накрест и принялась укачивать в них невидимое дитя, тихо напевая немецкую колыбельную. Продолжая укачивать то, чего на самом деле не было, она подошла к дивану, осторожно села и с нежностью в голосе проговорила:
– Спи, мой маленький, спи. Какой же ты красивый… Ты, наверное, проголодался… Вот, возьми, солнышко мое, пососи…
Расстегнув платье, Сара вынула грудь и протянула ее несуществующему ребенку.
Леа не могла это выдержать. Она вскочила и с силой дважды ударила Сару по щекам. В полном спокойствии молодая женщина застегнула пуговицы платья и, встав с дивана, сказала:
– Спасибо.
На ее совершенно белом лице проступили красные пятна от ударов Леа.
– Извини, но я доведу свой рассказ до конца. Ты должна знать… Ты только что видела то, что я тогда сделала. Я подняла тельце сына и прижала его к груди, пытаясь согреть и накормить… Мне удалось втиснуть сосок в его еще теплый ротик…
– Замолчи, умоляю тебя, замолчи!
– Я стала напевать ему колыбельную, которую перед сном играл мне отец. Я забыла, что в комнате лежали трупы новорожденной девочки и цыганки, что там находились обе немки. Я почти не слышала, как они смеялись. Меня переполняло счастье – у меня на руках был мой ребенок! Чтобы он не озяб, я завернула его в простыню с койки. Потом босая, в одной рубашке, измазанной кровью, я вышла из санчасти… Шел снег… Мои ноги тонули в мягких белых сугробах, но я не чувствовала холода и шла, как во сне, бесконечно счастливая от того, что прижимала к груди и несла домой моего мальчика… У входа в мой блок стояло с десяток заключенных, дрожавших от холода в своих полосатых робах. Они расступились и дали мне пройти. Одна из них подвела меня к печке и усадила на табуретку. Кто-то набросил мне на плечи одеяло, кто-то натянул на ноги разноцветные шерстяные чулки. Мне подумалось, что, наверное, потребовалось немало терпения, чтобы связать их из подобранных там и сям обрывков пряжи, Полная признательности, я повторяла слова благодарности. За все время моего пребывания в лагере они не относились ко мне с таким вниманием. Мне протянули кружку с чем-то горячим, и я с наслаждением выпила ее содержимое.
– Покажи нам твоего ребенка.
Я осторожно приоткрыла простыню.
– Только не разбудите его.
Над моим сыном склонились бритые и покрытые косынками головы. Но почему они вдруг отпрянули назад, почему закричали и заголосили? Вслед за ними подошли другие, потом еще и еще. И все отходили с криками и рыданиями.
– Тсс! Не шумите, вы разбудите его…
Они разом смолкли. Только редкие всхлипы нарушали тишину барака… Я не понимала, почему они плакали вместо того, чтобы радоваться вместе со мной… Пять дней подряд эти женщины, раньше казавшиеся мне бесчувственными, эгоистичными, готовыми на все ради корки хлеба, кормили меня, умывали, гладили по голове, не говоря мне ни слова о моем безумстве. Думаю, что только благодаря их заботам я окончательно не сошла с ума и поняла, наконец, что качала на руках труп. Они помогли мне завернуть его в саван и, выстроившись в траурную процессию, под тихое пение колыбельной моего отца проводили меня с сыном на руках до крематория. Там я в последний раз поцеловала моего мальчика и положила его на груду других тел, приготовленных к сожжению.
7
– Хватит тебе пить, так ведь и заболеть недолго, – проговорила Лаура и вырвала из рук Леа только что наполненный стакан виски.
– Оставь меня!
– Два дня подряд ты не ешь и не спишь, а только беспрестанно пьешь. Что произошло у вас с Сарой? Что такое она тебе сказала, что ты вдруг ударилась в пьянство?
Леа ничего не ответила. Она лежала в одежде на кровати сестры и не могла унять дрожь во всем теле.
– Ты больна, я вызову врача.
– Врач не сможет меня вылечить, – ответила, усмехнувшись, Леа. – Дай лучше выпить.
– Не дам!
В дверь позвонили, и Лаура побежала открывать.
– А! Франк! Входи быстрее. Мне нужна твоя помощь.
– Что случилось? На тебе лица нет!
– Ничего удивительного. Я не сплю уже две ночи подряд.
– Снова влюблена?
– Не говори глупостей. У меня Леа.
– Леа? Великолепно! Значит, она вернулась из Германии? И давно?
– Два дня назад. Не успела она приехать, как одна из ее подруг, бывшая заключенная концлагеря Сара Мюльштейн… Да ты ее знаешь, я говорила тебе о ней. Так вот, эта подруга пригласила ее к себе. Леа тотчас же к ней отправилась, даже не переодевшись с дороги. А вернулась очень поздно и совершенно пьяная. Она мне все тут заблевала, а наутро снова принялась пить. Она пугает меня, говорит о каком-то мертвом ребенке, опытах, колыбельной песне… Ничего нельзя понять. А я была так рада ее возвращению!
– Ты вызывала врача?
– Она не хочет никакого врача.
– Подожди, я поговорю с ней.
Франк вошел в комнату, где царил неописуемый беспорядок и вонь. Увидев его, Леа скрючилась на разобранной постели.
– Леа, это я, Франк.
– Франк?..
– Да, приятель Лауры.
– Ах да, Франк!
Она попыталась встать, но тут же снова рухнула, ударившись при этом головой о спинку кровати. От боли она расплакалась, как ребенок.
– Я сейчас ею займусь. А ты позвони домой моему брату Жан-Клоду и скажи, чтобы он сразу же пришел и захватил с собой свой инструмент.
– Думаешь, он сможет ей помочь?
– Он же на последнем курсе медфака, – ответил Франк и потащил Леа в ванную.
Будущий врач нашел Леа сидящей в кресле в махровом халате и с мокрой головой. Франк и Лаура меняли постельное белье.
Осмотрев больную, Жан-Клод сказал Лауре:
– Пока что дайте ей кофе и таблетку аспирина. Она не просто так напилась, она пережила нервное потрясение. Я позвоню своему, профессору, он лучше меня знает, что в таких случаях надо делать.
Против всякого ожидания Лаура оказалась прекрасной сиделкой.
К вечеру пятого дня сильный организм Леа победил недуг, хотя она по-прежнему оставалась замкнутой, молчаливой и упорно отказывалась рассказать и врачу, и Лауре, что именно с ней произошло. Спустя неделю она решила повидаться с мадам де Пейеримоф и сообщила ей, что хочет уволиться из Красного Креста.
– Нам жаль с вами расставаться, – сказала ей мадам де Пейеримоф при встрече. – Ваше участие в нашей работе было исключительно полезным… Но вы неважно выглядите… Вам нездоровится?
– Нет, мадам, я просто устала.
– Это пройдет. В вашем возрасте рано говорить об усталости. Я знаю ваши семейные затруднения и понимаю как причины вашего ухода, так и ответственность, которую вы собираетесь на себя возложить.
Леа молча кивнула в знак согласия, радуясь, что ей не задавали других вопросов по поводу ее просьбы об увольнении. Она без сожаления покинула стены штаб-квартиры Красного Креста. Начиналась новая страница ее жизни.
Продолжая жить в квартирке сестры на улице Грегуар-де-Тур, Леа попыталась подвести итоги. Денег, полученных от Красного Креста, ей едва хватит на то, чтобы обзавестись гардеробом и вернуть небольшие долги теткам. Оставаться в Париже она не могла, так как не имела ни работы, ни доходов, ни собственного жилья. Леа не хотелось каким-то образом изворачиваться или спекулировать по примеру Лауры. Ей очень недоставало Франсуа Тавернье. Уж он-то нашел бы для нее выход из положения. Но, к ее удивлению, он не давал о себе знать. Скорее всего, ему пришлось задержаться в Нюрнберге. Может быть, Сара что-нибудь знала о нем? Но идти снова к Саре было выше ее сил. Нет, говорила она себе, только не теперь, когда столько жутких картин постоянно стоит перед ее внутренним взором. Она до такой степени страшилась услышать голос Сары, что всякий раз упрямо отказывалась подойти к телефону, когда та, зная, что Леа больна, звонила ей. С другой стороны, тетя Альбертина просила Леа поторопиться с приездом в Монтийяк, где было необходимо ее присутствие. В конце концов, Леа с чувством облегчения покинула Париж, так и не повидавшись с Сарой.
Зима была очень холодной, а весна дождливой. На нормальное отопление просторного дома не хватало денег, а кроме того, недоставало и угля. Франсуаза, Руфь и дети большую часть дня проводили на кухне. Усевшись у зажженного очага, женщины слушали радио или занимались домашней работой, приглядывая за Шарлем и Пьером. Шумные игры и смех детей вносили некоторое оживление в их монотонную жизнь. По утрам Шарль отправлялся в школу в Верделе и возвращался только вечером. Мальчик был не по годам серьезен, и все свободное время посвящал чтению и рисованию. Малышу Пьеру в декабре исполнилось четыре года. Мать во всем потакала своему непоседливому и часто капризничающему сыну, вызывая тем самым возмущение Альбертины, не одобрявшей воспитания без принуждения. Однако Франсуаза не могла ни в чем отказать ребенку.
Молодая женщина думала, что возвращение в родной дом, многочисленные заботы по содержанию имения, помогут ей забыть пережитые муки. Ничуть не бывало! С наступлением каждого нового дня она погружалась в состояние мрачного одиночества, из которого ничто не могло ее вывести. Она не переставала думать о любимом человеке, о его смерти, об унижении, которому ее подвергли, обрив голову на церковной паперти в Париже, об оскорблениях, которыми ее осыпали, о презрении, которое ей демонстрировали знавшие ее с детства лавочники Лангона, о замечаниях, бросаемых в ее адрес занятыми в хозяйстве рабочими, об отказе принимать ее у себя со стороны подруг и родственников, живших в Бордо. После ее возвращения никто не попытался повидаться с ней, понять ее или хотя бы проявить по отношению к ней немного участия. Теплая забота теток и Руфи оказалась явно недостаточной. Только новый управляющий Ален Лебрен, похоже, не интересовался ее прошлым. Франсуаза была ему за это признательна и с удовольствием работала вместе с ним.
Приезд Леа поначалу всех обрадовал, но радость вскоре угасла при виде хмурой, печальной и молчаливой девушки. Работы внутри дома были закончены, мебель расставлена по местам, занавески и картины повешены. Леа все время казалось, что где-то в углу коридора она вот-вот столкнется с отцом или матерью. Всю первую неделю она провела, уединившись в своем «владении» – кабинете отца, где снова воцарилась атмосфера незыблемого спокойствия и уюта, рассеивавшая когда-то ее детские страхи и умиротворявшая вспышки гнева. Забившись в угол старого дивана, и укрывшись одеялами, большую часть дня она дремала или же часами смотрела на огонь в камине. Она едва притрагивалась к блюдам, которые приносила Руфь.
У Альбертины хватило благоразумия переждать неделю прежде, чем подступиться к Леа с расспросами. Однако Шарль опередил ее. Он пробрался в комнату Леа и, заливаясь слезами, спросил, почему она его больше не любит.
– Дорогой мой, я по-прежнему люблю тебя, – ответила она и обняла мальчика.
– Нет, неправда, ты больше не рассказываешь сказки, не играешь со мной… Ты даже не садишься с нами за стол и не разговариваешь. Я отлично вижу, что ты меня больше не любишь.
Мальчик так рыдал, что Леа испугалась за него.
– Прости меня, голубчик, прости… Я тебя люблю, люблю больше всех! Не сердись на меня… Мне было плохо, я очень горевала, но теперь все кончено!
– О чем ты горевала, если я так тебя люблю? – проговорил мальчик, обхватив Леа за шею, неуклюже целуя и орошая слезами ее лицо.
– Ну, будет, будет, мне щекотно!
Он отпрянул от нее и захлопал в ладоши.
– Ты засмеялась, Леа, засмеялась!..
Шарль прыгал от радости вокруг нее, а она смеялась все громче, глядя на выкрутасы, которые он выделывал.
– Что здесь происходит? Что это вы так расшумелись?
Это была Франсуаза, за ней следовала любопытная, как всегда, Лиза, шествие замыкала Альбертина.
При виде вопросительного выражения их лиц веселость Леа мгновенно испарилась.
– Благодарю вас всех за терпение. Если бы не Шарль, не знаю, смогла бы я отделаться от мучительной тоски…
– Ты могла бы, по крайней мере, попытаться поделиться с нами своими переживаниями.
– Но только не с тобой, Франсуаза, – сухо ответила Леа и тут же пожалела об этом.
Молодая женщина с короткими волосами и печальными глазами вздрогнула и побледнела. Выходит, и родная сестра, как и прежде, осуждает ее за любовь к немцу!.. Она столько надежд связывала с ее приездом, думала, что после всех ужасов, которые ей пришлось увидеть, она сможет лучше понять, что жизнь не всегда укладывается в те рамки, которые ей навязывают люди. Она рассчитывала обрести друга, которому можно было бы довериться, а увидела перед собой судью и врага. Франсуаза стояла, дрожа всем телом, униженная, неспособная произнести ни слова. Леа было стыдно, она не знала, что сказать, и ее молчание только усиливало неловкость. Лиза и Альбертина, сознавая свое бессилие, оставались немыми свидетельницами драмы двух сестер. И снова Шарль разрядил обстановку.
– Пойду скажу бабушке Руфи, что Леа выздоровела и что по этому случаю надо испечь сладкий пирог.
Это заявление вызвало смех у Лизы и бледную улыбку у Альбертины. Леа подошла к сестре и обняла ее.
– Прости меня. Вижу, что причинила тебе боль, но клянусь, это получилось нечаянно. Ты – жертва, как тысячи других, которых они искалечили…
– Отто был не такой, как они!
– Знаю, но он виноват вместе с остальными…
– Нет, он был добрый и не мог никому причинить зла!
– Он был немец!
– Остановитесь, девочки, – вмешалась Альбертина. – Вам обеим надо попытаться забыть прошлое.
– Забыть?.. – воскликнули обе разом.
– Да, забыть. Нельзя жить, постоянно пережевывая свои горести. Ты, Франсуаза, должна думать о сыне, а ты, Леа, отвечаешь за Шарля. Ради этих невинных детей вы должны сделать все, чтобы забыть. Это не только ваш долг, это – единственное разумное решение.
Пока тетка говорила, перед глазами Леа стояла Сара с невидимым ребенком на руках. Она зажмурилась и до боли сжала кулаки.
– Тетя Альбертина права. Ни к чему погружаться с головой в грустные воспоминания. Надо сделать над собой усилие. Я помогу тебе, Франсуаза, а ты мне.
Плача и нервно смеясь, сестры обнялись.
И вновь настали ясные дни – как в природе, так и в отношениях между обитателями Монтийяка. На семейном совете было решено, что Альбертина и Лиза будут жить в большом доме на втором этаже, где для них будут обустроены удобные комнаты, и что они без промедления дадут объявление о продаже домика в Лангоне. Не прошло и недели, как появился покупатель – молодой врач, желавший обосноваться невдалеке от родителей-пенсионеров, живших в Вилландро. Продажа домика принесла определенный достаток всей семье, позволила приобрести кое-какой инвентарь для виноградника, а также новый маленький грузовичок и подержанную легковую машину. В начале лета сестры де Монплейне не без грусти перебрались на постоянное жительство в Монтийяк. Лиза предпочитала, как она выражалась, «жить в городе», подразумевая под этим Лангон, что неизменно вызывало смех у Леа.
– Не волнуйся, милая тетя, я буду возить тебя за покупками в магазины Бордо, – утешала она старушку.
Пожилая модница и вправду успокоилась, услышав такое обещание. Альбертина же, не знай она о своей тяжелой болезни, никогда не согласилась бы на переезд из одного только опасения стеснить племянниц. Однако больше всего на свете она боялась оставить одну-одинешеньку свою ненаглядную и простодушную Лизу после ее, Альбертины, смерти. Не сказав никому ни слова, она купила участок на кладбище в Верделе недалеко от могилы Тулуз-Лотрека и от места захоронения Изабеллы и Пьера Дельмасов. Эта скромная и скрытная женщина готовилась в последний путь с единственной заботой: свести к минимуму хлопоты близких и любимых ею людей по ее погребению. Она хотела уйти из жизни со свойственным ей достоинством.








