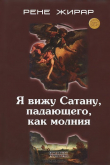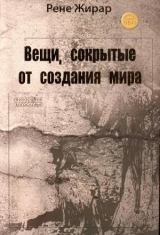
Текст книги "Вещи, сокрытые от создания мира"
Автор книги: Рене Жирар
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
В действительности причины, по которым Фрейд вынужден некритично прибегать к мифологии, в сущности, не отличаются от тех, которые всегда заставляют людей придерживаться мифологизма: я имею в виду неспособность улавливать миметические механизмы.
Отнюдь не составляя какой-то доктрины и даже не являясь чем-то завершенным, мысль Фрейда открывает в неведении, играющем нами, некоторые бреши, тотчас затыкаемые мифологическими средствами, тем более грубыми, чем сильнее эти бреши беспокоят современный ум. Поэтому не стоит удивляться тому, что некоторые радикальные деконструкции Фрейд совмещает с откатами к самым архаичным мифологическим пластам. Соединение двух этих моментов особенно чувствуется в таких текстах, как эссе о Das Unheimlich («тревожащей необычности»). Потребовалось бы время, чтобы вчитаться как следует в то, что, например, в этом эссе Фрейд пишет о двойниках. Несколько страниц просто усыпаны настоящими прозрениями. Фрейд констатирует, что проблема двойников и проблема повторения взаимосвязаны, и по этому поводу он, вероятно, делает даже аллюзию, достаточно актуальную, на «вечное возвращение» Ницше. Но все это остается в плену фундаментальной неспособности распознать структуру двойников повсюду вокруг себя, во всем том, о чем он говорит. Вслед за Ранком Фрейд говорит о двойнике как о феномене, связанном с давно минувшим мифологическим прошлым и с тем, что он называет первичным нарциссизмом. Он видит в нем, по существу, некий образ, фантом, а не реального Другого, не миметического противника[178]178
Gesammelle Werke XII.
[Закрыть]. Он не может уйти от ограничений мифического мышления, и, как вы сейчас поймете, это становится очевидным из его прочтения мифа о Нарциссе.
G. Метафоры желания
Р. Ж.: Если проанализировать метафоры «безупречного нарциссизма», то мы заметим, что все они обращены, в сущности, к одному и тому же: к ослабленному, отсутствующему либо еще не вполне присутствующему сознанию.
Фрейд сравнивает то, что он называет «очарованием» (Reiz) безупречного нарциссизма, то, что в нем есть пикантного, возбуждающего, провоцирующего, раздражающего, с Reiz, очарованием, привлекательностью младенца, чьи потребности удовлетворены, и с Reiz дикого зверя с лоснящейся шкурой. Он также ссылается на образы опасного преступника и юмориста, в которых усматривает индивидов с исключительно непробиваемым, как бы «окаменевшим» Я.
Можно, я думаю, констатировать, что эти метафоры дегуманизируют свой объект. Они начинают с его феминизации (у Фрейда – в уничижительном направлении), а затем они его инфантилизируют, анимализируют и смешивают с изгоняющим насилием в преступлении или в смехе.
Эти метафоры не являются собственно фрейдистскими. Они не были бы хороши в литературном отношении, если бы были оригинальны. Легко показать, что они не таковы. Мы найдем их у всех великих писателей, описывавших желание, желанный объект, трансформацию этого объекта желанием, во всем том, что сам Фрейд называет завышенной оценкой, не замечая, что его собственный текст представляет собой блестящий образчик того же феномена.
Если б он это заметил, он не мог бы столь твердо верить, как он это делает, в объективную реальность того, что он именует нарциссизмом.
Ж.-М.У.: Я думаю, однако, что эти метафоры не относятся к монополии литературы. Они мне кажутся всеобщими, и мы, вероятно, обнаружим их в самых разных языках и культурах. Вот, к примеру, существует одно арабское выражение, когда-то употреблявшееся на изысканных пляжах Бейрута: чтобы описать поведение молодого эфеба, который, идя но набережной, прокладывает себе в толпе дорогу, пуская в ход свои мускулы и не обращая никакого внимания на людей, говорили: «Прямо тигр какой-то!» (Ilesten train de titrer)[179]179
Букв.: «красит свою шкуру под тигра».
[Закрыть].
P. Ж.: Вы совершенно правы. Обсуждаемые метафоры не зависят ни от капризов, ни от таланта тех, кто их использует. Мы их находим в символизме африканского князька, в средневековой геральдике, а если обобщить, то во всем словаре старого «священного».
Благодаря метафорам, мы хорошо видим ту противоречивость, с какой субъект воспринимает объект своего желания. Нарциссизм – это блаженная самодостаточность: значит, это сознание своего Я, самосознание, ибо самодостаточность, не сознавая себя, не могла бы переживать себя и воспринимать себя как блаженную. В то же время я вижу свидетельство того, что этого блаженного самосознания фактически нигде нет у Фрейда, чтобы его конкретно описать, он берет, конечно, живые существа, но как раз те, которым недостает самосознания, а именно дикого зверя и младенца.
Однако ваше ливанское выражение заставило меня вспомнить об одном тексте Пруста, в котором оно просто колоссально расширяется. Я бы хотел прочитать с вами фрагмент этого текста и показать вам, что в нем мы обнаруживаем все метафоры Фрейда из его эссе о нарциссизме, умело расставленные вокруг желаемого объекта, представленного здесь тоже как неприступная самодостаточность. Различие между Прустом и Фрейдом заключено не в литературной составляющей обоих текстов. Однако различие имеется, и оно кроется в том факте, что Пруст точно знает, что он говорит о своем желании и ни о чем ином; он не воображает себя творцом новой науки, и это хорошо, ведь, не строя себе никаких иллюзий на тот счет, что в конечном счете он должен говорить об этом предмете более «научно», чем Фрейд; он восхитительным образом открывает нам миметическое единство всех тех желаний, которые Фрейд пытается втиснуть в ложные категории, такие, как «желание объектное» и «желание нарциссическое». Пруст знает, что есть лишь одно желание и что оно одно и то же у всех людей, даже если обращено к различным объектам, даже если может проявлять себя в формах, не столь обостренных, как его собственная.
Если я выбрал именно этот текст, то лишь потому, что нахожу в нем все то, чего ищу в весьма ограниченном пространстве, однако он вовсе не является исключительным. Это основополагающий текст о желании из книги «В поисках утраченного времени», и можно было бы привести десятки, а то и сотни примеров того, что он до нас доносит:
Я [...] вдруг почти в конце набережной увидел каким-то странным движущимся пятном приближавшихся ко мне не то пять, не то шесть девушек, столь же непохожих – и видом и повадками – на всех примелькавшихся мне в Бальбеке, как отличалась бы от них залетевшая невесть откуда стая чаек, гуляющих мерным шагом по пляжу, – отставшие, взлетая, догоняют их, – причем цель этой прогулки настолько же неясна купающимся, которых они словно не замечают, насколько четко вырисовывается она перед птичьими их умами[180]180
«A l’ombre des jeunes filles en fleurs», A la recherche du temps perdu I, pp. 788-795. [Pyc. пер.: Под сенью девушек в цвету, указ, соч., с. 308.]
[Закрыть].
Как видите, мы начинаем с метафоры, относящейся к животному миру, чью функцию Пруст объясняет нам по мере того, как ее развивает. Движения чаек кажутся купальщицам непонятными; в свою очередь, и чайки, похоже, не замечают их. Между желаемым и желающим невозможна никакая связь.
Стайка девушек внушает рассказчику впечатление, будто они не относятся к окружающей их толпе. Но не толпа исключает их компанию, а их компания исключает толпу. Все описание направлено на то, чтобы создать мираж необычной самодостаточности:
Теперь я их уже отделял одну от другой, и все-таки разговор, который вели между собой их взгляды, оживленные чувством удовлетворения и духом товарищества, временами загоравшиеся любопытством или выражавшие вызывающее равнодушие, в зависимости от того, шла ли речь о подруге или о прохожих, равно как и сознание близости, позволявшей им всегда гулять вместе, «целой стайкой», устанавливали между их телами, самостоятельными и обособленными, пока они медленно двигались вперед, некую связь, незримую, но гармоничную, накрывали их теплым облаком, окутывали особой атмосферой, образуя из них единое целое, настолько же однородное, насколько отличались они от остальной толпы, среди которой они шествовали (с. 312).
Закрытость этой маленькой группы – так и тянет сказать «метафизическая закрытость», кажется столь реальной, что окружающие почти видят ее; она хочет материализоваться, словно нечто запретное внутри все еще весьма религиозной культуры.
Девушки создают впечатление абсолютной юности, а также силы, ловкости и хитрости. Их взгляды описываются как «жесткие, упрямые и насмешливые». Для рассказчика они составляют настолько же чарующее, насколько непроницаемое препятствие, и это слово постоянно повторяется в описании. Для них-то препятствий как раз не существует; они играючи преодолевают все, что выступает как препятствие; они все это устраняют на своем пути:
Так вот, стайка этих самых девушек, светоносной кометой совершавшая свой путь по набережной, видимо считала, что окружавшая ее толпа состоит из существ совсем иной породы, так что даже страдания этих существ не могли бы возбудить в ней участие; девушки словно не замечали толпу, заставляли тех, кто стоял на дороге, расступаться, как перед никем не управляемой машиной, от которой нельзя ожидать, что она объедет пешеходов, и только в крайнем случае, если какой-нибудь старичок, существование которого они не желали признавать и всякое общение с которым было для них немыслимо, от них убегал, они, глядя на его быструю и смешную жестикуляцию, выражавшую страх или возмущение, пересмеивались Им не надо было наигрывать Презрение ко всему, что находилось за пределами их группы, – непритворное их презрение было достаточно сильно. Но при виде какого-нибудь препятствия они не могли отказать себе в удовольствии преодолеть сто с разбега или одним прыжком (с. 310).
Психоанализ сделал бы тут акцент на сексуальной символике; кроме того, он отметил бы мазохизм желания, которое всегда норовит стлаться под ногами самого жестокого, самого «искренне» презрительного Другого. Но психоанализ не увидит здесь абсолютного единства структуры в миметической игре, которая разыгрывается здесь лишь на уровне изгнания. Желающий субъект всегда видит себя в положении изгоняемого; он то и занимает место жертвы – не в отказе от насилия, не в том смысле, в каком занимает это место Тот, кто говорит в Ветхом и особенно в Новом Завете, но просто потому, что он желает этого места. Психоанализ говорил бы тут о мазохизме, так как он не понимает смысла этого желания, которое состоит вовсе не в том, чтобы меня изгоняли, а в том, чтобы быть с теми, кто меня изгоняет, просочиться в «стайку» и стать причастным ей, стоя особняком.
Как во фрейдовском нарциссизме, эта стайка девушек воплощает одновременно и сознание абсолютное, и сознание отсталое, или почти отсутствие сознания. Эта «спортивность» и «антиинтеллектуальность» девушек, вызывающая в уме образы животных, позволяет рассказчику – Марселю – предположить, что он сам принадлежит к «дурному типу» (genre antipathique), чахлому, тщедушному и умственному, с которым они наотрез отказываются иметь дело:
Быть может, не только случай подобрал и соединил таких красивых подружек; быть может, эти девушки (уже самая их манера держаться свидетельствовала о том, что они смелы, легкомысленны и жестоки) не выносили ничего смешного, ничего уродливого, были равнодушны к духовным и моральным ценностям, испытывали невольное отвращение к тем своим сверстницам, у которых мечтательность и чувствительность выражались в застенчивости, в стеснительности, в неловкости, в том, что эти девушки, наверное, называли дурным типом[181]181
Н. Любимова – «дурным тоном»; мы вынуждены изменить на «дурным типом» ради более точной передачи мысли Пруста и Жирара.
[Закрыть] («genre antipathique»), не сближались с ними и, наоборот, сходились с теми, в ком их привлекало сочетание грации, ловкости и внешнего изящества, то есть единственная форма, которая, по их мнению, могла заключать в себе пленительную душевную прямоту и залог приятного совместного времяпрепровождения (с. 309-310).
В этом последнем пассаже снова прорисовывается линия, уже фигурировавшая в предыдущих цитатах, склонность этих девушек к самой беспощадной насмешливости. Они постоянно смеются над всем тем, что не является ими. Эта склонность позволяет нам понять, почему Фрейд приписывает чрезвычайный нарциссизм юмористу. Он понимает профессиональный юмор как насмешку и издевательство над публикой. На самом деле происходит нечто противоположное; если бы юморист вел себя, как эта стайка девушек, он не заставил бы свою публику смеяться. Стайка девушек не представляет для рассказчика ничего комичного; она очаровательна, ужасающа, но, разумеется, не смешна. Чтобы заставить других смеяться, нужно заставить их смеяться на собственный счет, и, конечно, в этом Пруст, равно как и Бодлер, прав в том, что касается смеха[182]182
R. Girard, Perilous Balance: A Comic Hypothesis. Об элементах «жертвенного откровения» в мышлении Бодлера см.: Pierre Pachct, le Premier Venu.
[Закрыть]. Чтобы засмеяться смехом того типа, какой мы тут обсуждаем, чтобы оказаться в рядах смеющихся, нужно разделить с ними их насилие и неистовство, а не стать его жертвой. Чтобы заставить смеяться других, нужно оказаться в положении жертвы либо добровольно поставить себя в это положение...
Ж.-М.У.: Значит, вот и еще одна метафора безупречного псевдонарциссизма – мы только что обнаружили ее в тексте Пруста. Однако вы не упомянули «опасного преступника», надо найти и его...
Р. Ж.: Не совсем так. Хотя, как бы там ни было, Марсель приписывает этим девушкам неодолимую склонность к преступности. Эта склонность, возможно, лишь воображаемая, составляет неотъемлемую часть их очарования. Девушки не преступницы, но для них не существует закона, как нет его и для тех ловких и хитрых животных, на которых они похожи. Вчитайтесь в текст внимательней; мы та муже стоим на пороге эпохи blue-jeans («синих джинсов») и нарочитой современной неряшливости:
Теперь прелестные их черты уже не были неразличимы и слитны. Я распределил их и наделил ими (вместо неизвестных мне имен) высокую, прыгнувшую через старика банкира; маленькую, чьи пухлые розовые щеки и зеленые глаза выделялись на фоне морской дали; смуглянку с прямым носом, резко отличавшуюся от других; еще одну с лицом белым, точно яйцо, с носиком, изогнутым, как клюв у цыпленка, – такие лица бывают только у очень молодых людей; еще одну, высокую, в пелерине (в которой она выглядела бедной девушкой и которая до такой степени не соответствовала стройности ее стана, что объяснить этот разнобой можно было разве липы тем, что ее родителям, людям довольно знатным, не желавшим ради бальбекских купальщиков рядить своих детей, было совершенно все равно, что их дочь, гуляющая по набережной, на взгляд всякой мелюзги одета чересчур скромно); девушку с блестящими веселыми глазами, с полными матовыми щеками, в черной шапочке, надвинутой на лоб, – ведя велосипед, она гак разухабисто покачивала бедрами, употребляла такие площадные словечки (между прочим, я расслышал затасканное выражение «прожигать жизнь»), так громко их произносила, что, поравнявшись с ней, я отверг догадку, на какую меня навела пелерина ее подруги, и решил, что, вернее всего, это тот сорт девиц, который посещает велодромы, что это совсем еще юные любовницы велосипедистов-гонщиков. Во всяком случае, я не допускал мысли, что это девушки порядочные. Я сразу – по одному тому как они со смехом переглядывались, по пристальному взгляду девушки с матовыми щеками – понял, что они испорченны. Притом бабушка внушала мне слишком строгие понятия о нравственности. – вот почему то, чего делать не следует, представлялось мне чем-то единым, следовательно, – рассуждал я, – если девушки не уважают старость, значит, что же может вдруг заставить их удержаться от больших соблазнов, чем прыжок через восьмидесятилетнего старика? (с. 311-312).
Доказательство неотъемлемо присущего желанию противоречия – в том, что одна из девушек, которая, кажется, заметила существование Марселя, вскоре теряет в его глазах часть того престижа, которым продолжают пользоваться все остальные ее подружки, так как они не обращают на него ни малейшего внимания. Но у рассказчика сразу возникает идея, что он мог бы свести знакомство с более доступной из девушек и что она могла бы послужить ему посредницей в отношении остальных, менее доступных, которые на самом деле одни только и занимают его и которые, конечно, перестали бы его занимать, если бы он нашел к ним доступ:
И не потому ли меня радовал взгляд брюнетки (облегчавший, как мне думалось, знакомство с нею первой), что он подавал мне надежду на то, что брюнетка представит меня подругам: безжалостной, которая перепрыгнула через старика, жестокой, которая сказала: «Мне его жаль, бедный старикашка», – всем по очереди, всем этим девушкам, неразлучная дружба с которыми придавала ей особую прелесть? (с. 313).
Тут-то, в конце этого описания, и появляется религиозный мотив, сакрализация образца-препятствия, осуществляемая посредством некоей исторической и эстетической метафоры, которую поверхностный читатель мог бы счесть анекдотичной. В самом деле, тут невозможно ошибиться, ведь Пруст, как всегда, ничего не пишет без того чтобы объяснить нам. почему он это пишет, что он и делает, резюмируя в нескольких строчках общий смысл всего этого пассажа. Желание возникает из кажущейся абсолютной несовместимости желающего субъекта и желаемого объекта, который здесь, разумеется, вовсе и не объект – пет необходимости это подчеркивать, – а сам образец-препятствие. Собственно говоря, у прустовской гомосексуальности нет объекта; она всегда обращена на образец, а этот образец выбирается в качестве такового потому, что находится вне досягаемости, потому, что он – препятствие и соперник, по сути, еще до того, как стал образцом, пребывающий в некоей квазирелигиозной трансцендентности и кажущийся реальным лишь до тех пор, пока продолжает ускользать:
И все-таки мысль, что я вдруг да подружусь с одной из них, что чужой мне взгляд, который, рассеянно скользя по мне, как играет по стене солнечный зайчик, внезапно в меня вонзался, каким-нибудь алхимическим чудом возьмет да и пропустит сквозь несказанно прекрасные частицы их глаз понятие о моем существовании, что-то похожее на дружеское чувство ко мне, что и я когда-нибудь займу место среди них, приму участие в их шествовании по берегу моря, – эта мысль представлялась мне не менее нелепой, чем если бы, стоя перед фризом или фреской, изображающей шествие, я, зритель, счел бы возможным занять место, заслужив их любовь, среди божественных участниц процессии (с. 313-514).
Итак, мы обнаружили у Пруста все мегафоры текста о нарциссизме или их варианты: ребенок, животное, преступник, юморист. Пруст не только глубже объяснил эти метафоры, нежели Фрейд, но и знает (никогда не будет лишним повторить это), что самодостаточность, ореолом которой желание окружает стайку девушек, абсолютно не соответствует реальности: она не имеет ничего общего с какой-либо регрессией к безупречному нарциссизму в момент полового созревания. Пруст не вещает о том, что могло происходить в описываемый момент с половыми органами (Sexualorganeу Фрейда) всех этих девушек. Стоило бы ему познакомиться с этими девушками, как обнаружилась бы иллюзорность всей их трансцендентности и самодостаточности. Влечение к Альбертине вновь пробуждается лишь по мере того, как она кажется неверной и затрагивает у рассказчика струну патологической ревности посредством почти механического рефлекса, который совсем не предполагает настоящего преображения.
Ж.-М.У.: К счастью для своей книги «В поисках утраченного времени», Пруст не был заражен психоаналитическим тезисом о реальном нарциссизме. Если бы он верил в реальность нарциссизма, он остался бы жертвой иллюзий, порождаемых желанием, и не смог бы описать последнее столь исчерпывающе, как он это сделал. Он застыл бы на еще более низкой стадии, чем Фрейд, как я считаю, в своем эссе «Введение в нарциссизм».
Р. Ж.: Утверждать превосходство прустовского знания следует не ради парадоксальности и не для того, чтобы перещеголять литературных критиков. Просто все вот так, а не как-то иначе. Пруст идет намного дальше, чем Фрейд, в своем анализе желания; он никогда, например, не совершает такой ошибки, как предположение наряду с объектным желанием, которое вело бы к оскудению либидо, желания нарциссического, направленного скорее на себя самого, чем на абсолютно иное, и стремящегося к тому, что более всего походит на самого же нарциссического субъекта. Пруст отлично знает, что не существует желания, кроме желания абсолютного Различия, и что субъекту всегда абсолютно недостает именно этого Различия:
И, понятно, коль скоро привычки, – а также и мысли, – были у нас с ними разные, мне было особенно трудно сблизиться с ними, понравиться им Но, быть может именно в силу различий, благодаря сознанию, что ни в натуре, ни в поступках девушек нет решительно ничего знакомого или свойственного мне, чувство пресыщения уступило во мне место жажде, – похожей на ту, от которой изнывает сухая земля, -жажде той жизни, которая до сих пор не уделила моей душе ни единой капли и которую моя душа тем более жадно поглощала бы – не торопясь, всецело отдаваясь впитыванью (с. 313).
Ж.-М.У.: С классически фрейдистской точки зрения желание, с которым тут имеем дело, должно быть в высшей степени нарциссическим, коль скоро это желание – гомосексуальное. В гомосексуализме, как мы говорили уже позавчера, соблазнительность состоит, как и повсюду, в той видимости абсолютно иного, которую создает потенциальный партнер, а эта видимость происходит, разумеется, из того факта, что данный партнер находится в позиции скорее образца-соперпика, нежели объекта. Как вы сказали, так же обстоит дело и с гетеросексуальным соперничеством. Поэтому-то Пруст прав, когда без стеснений переменяет пол своих персонажей. Если поразмыслить о том типе описания, который он нам предлагает, то мы заметим, что небольшое неправдоподобие, в котором можно было бы его упрекнуть в то время, когда он писал свой роман, значительно уменьшилось, если не совсем исчезло, за годы, отделяющие нас от этого романа, вследствие все уменьшающегося различия между мужским и женским поведением. Это означает, среди прочего, что все больше и больше все в этом мире становится сообразным обезразличивающей логике миметического желания. Разумеется, это никак не мешает двойникам игнорировать данное обезразличивание и в случае надобности принимать себя самих за абсолютное Различие... Прустовское описание разоблачает мифический характер нарциссизма.
Р. Ж.: Этот-то мифический характер и позволил термину «нарциссизм» распространиться повсюду и очень быстро сделаться повседневным клише, подобно остальным понятиям психоанализа. И, на мой взгляд, неправильно обвинять простонародье в том, что оно уродует и упрощает одно за дру!им ьсе гениальные понятия, оставленные нам венским мэтром. Если понаблюдать за тем, как вокруг нас, особенно это верно в случае США, применяется слово «нарциссизм», то мы заметим, что и сам Фрейд понимает его точно так же в том тексте который, в конце концов невозможно упразднить, – в эссе «Введение в нарциссизм».
Г. Л.: Кто угодно всегда готов воспользоваться обвинением в нарциссизме, чтобы вдохнуть престиж в психоаналитическую диагностику расстройств, причиняемых нам безразличием других, и, быть может, того желания, «магнетизируемого» этим самым безразличием. Нарциссизм – это всегда нарциссизм Другого: действительно, никто не думает о себе: я – безупречный нарциссизм... Многие люди, конечно, говорят такое либо подразумевают, но это – часть миметической игры, этой вечной стратегии, которая в нашем мире характеризует интердивидуальные отношения и чьи требования мы лучше всего исполняем лишь в том случае, если сами немного этой игрой обмануты. Я, однако, думаю, что в этой сфере мы никогда не бываем обмануты полностью, по крайней мере если не сойдем с ума...
Р. Ж.: Мы охотно обвиняем в нарциссизме других, и особенно тех, кого мы желаем, чтобы ободрить самих себя, чтобы связать безразличие других не с тем ничтожным интересом, который мы представляем в их глазах, а то и вообще – назойливый страх, всегда маячащий на горизонте любого дикого психоанализа, а с некоей чуть ли не болезненностью, которой были бы удручены эти другие, с излишней и патологической сосредоточенностью их на себе самих, характерной для этих других, со своего рода недугом, которым они могут быть поражены больше, нежели мы сами, и который помешал бы им выйти, как им следовало бы, из своего чересчур лелеемого Я и пойти нам навстречу. В наше время обвинять желаемый объект в нарциссизме – то же самое, что обвинять женщину в эгоизме и кокетстве во времена Фрейда. Если Фрейд изменил наш словарь, то не тем, что он внес в эту сферу что-то действительно новое, а как раз наоборот. Он удовольствовался тем, чтобы освежить все ветхое, поднимаемое со дна души самим желанием, и бросить его в культурный поток, и в течение по крайней мере нескольких лет создавал у людей впечатление, будто он говорит и видит вещи так, их никто не видел прежде.
Сказанное нами выше относительно демистификаторской воли как желания неприменимо к желанию в понимании Пруста. Или, вернее, прустовское желание являет нам вариант того же самого желания, иную, противоположную, форму этого желания. Рассказчика здесь очаровывает не та стабильность, которую сообщает образцу его неразрывная связь с неведением о жертвенных механизмах, а совсем наоборот, рассказчик приписывает желаемому степень демистификации более радикальную, чем его собственная, наглый цинизм в отношении всех ценностей, которые сам он не перестает уважать, ловкая и невозмутимая манипуляция всеми чарами (prestiges) насилия. Прежде всего следует понять, что желание всегда стремится лишь к различию и ни к чему больше и что различие всегда его очаровывает, что желание обнаруживает различие, идя в том или в ином направлении, назад или вперед, к тому, что связано с прошлым, или к тому, что, как ему кажется, остается ниже него в миметическом распаде всех различий. Именно эта очарованность «низом», обезразличенностью -разумеется, вы улавливаете относительный характер этих символов – и управляет всей эволюцией, под каким бы углом зрения мы ее ни рассматривали.
Ж.-М.У.: Здесь очень важно понять, что Фрейд материализует и фиксирует положения, которые существуют лишь посредством друг друга, а в конечном счете – посредством миметизма препятствия. Если сегодня мы видим ложность этого предлагаемого нам в «Введении в нарциссизм» нарциссизма как такового, то это потому, что само по себе обострение миметизма вокруг нас делает определенные вещи очевидными.
То, что обедняет Я, есть в конечном счете само желание быть этим Я, желание-влечение к тому нарциссизму, которого никогда недостает в нас и чье сияние мы вечно усматриваем в этом Другом, рабами которого делаем себя. Похоже, именно этот фетишизм своего Я, или современный фетишизм Различия, заменивший первоначальное индивидуалистическое самоутверждение, провал которого стал слишком очевидным, и провоцирует все большее обезразличивание, все меньшее конкретное различие и продвигает нашу историю к ее неизбежному завершению.
Р. Ж.: Если вернуться напоследок к тем двум текстам – Фрейда и Пруста, – которые мы сопоставили, то мы увидим, что превосходство Пруста над Фрейдом есть результат большей проницательности Пруста в отношении того, что составляет его собственное желание, но эта проницательность несколько двусмысленна в той мере, в какой она не вполне отделима от продвижения самого миметического желания, от всего того, что постепенно сгущается в черный цвет в промежуток между венским шелестом «прекрасной эпохи» и атмосферой Первой мировой войны.