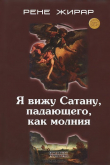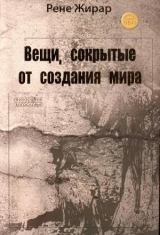
Текст книги "Вещи, сокрытые от создания мира"
Автор книги: Рене Жирар
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Тут не надо пасовать перед некоторым схематизмом. Сначала нужно представить ситуацию в ее универсальности. Убирая все преграды, мешающие «свободе» желания, современное общество конкретизирует эту универсальность; оно ставит все большее число индивидов с самого их младенческого возраста в ситуацию, наиболее благоприятную для миметического double bind. Откуда ребенку знать, если никто не сказал ему об этом ни слова, что всякая его адаптация основывается на двух противоположных и равным образом суровых требованиях, которые невозможно разграничить объективно и о которых нигде не упоминается! Об этом умалчивании свидетельствует тот факт, что проблема до сих пор не сформулирована даже на уровне высших психологических и педагогических инстанций.
Чтобы возник миметический double bind в полном смысле слова, нужен субъект, неспособный правильно истолковать тот двойной императив, который исходит от другого как образца («подражай мне») и как соперника («не подражай мне»).
Е. Double bind Грегори Бейтсона
Г. Л.: Вы часто прибегаете к выражению double bind, заимствованному из теории шизофрении, которую развил Грегори Бейтсон. Разумеется, это не означает, что ваша гипотеза могла бы вписаться в рамки теории коммуникации.
Р. Ж.: Бейтсон связывает шизофрению с противоречивым «двойным посланием», которое один из родителей (почти всегда мать в примерах, которые он нам предлагает) постоянно обращал к своему ребенку. Например, бывают матери, которые разговаривают на языке любви и абсолютной самоотверженности, множат обещания всего этого на уровне речи, но, всякий раз, как ребенок отвечает на эти обещания, бессознательно ведут себя отталкивающим его образом; они проявляют крайнюю холодность, возможно потому, что ребенок напоминает им о мужчине, об отце, который их бросил, либо почему-то еще. Ребенок, постоянно предоставленный этой противоречивой игре, этому чередованию тепла и холода, должен утратить всякое доверие к речи. Он может в конце концов закрыться от всех языковых посланий либо начать реагировать шизофренически[139]139
Gregory Bateson, «Toward a Theory of Schizophrenia», Steps to an LcoIoq of Mind. pp. 201-227. См. другие статьи об этой работе, особенно: «Minimal Requirements for a Theory of Schizophrenia», pp. 244-270, а также: «Double Bind.. 1969», pp. 271-278.
[Закрыть].
Мне кажется, в теории информации и особенно в double bind Бейтсона есть много элементов, представляющих интерес для наук о культуре. Первый – это то, что информационный порядок учреждается на основе беспорядка и всегда может вновь обратиться в беспорядок. Теория информации наделяет беспорядок значением, которым не в состоянии его наделить структурализм Леви-Стросса и его последователей в современной лингвистике. Эдгар Морен (Morin) во Франции вполне выявил это преимущество.
Второй пункт, еще более интересный, – это та роль, которую в этой теории играет принцип feedback[140]140
«Обратная связь» (англ.).
[Закрыть]. Кибернетическая цепь имеет не линейный, как в классическом детерминизме, а цикличный характер. Событие «а» вызывает событие «b», которое, возможно, вызовет и другие события, но последнее из них возвращается к «а» и оказывает на него воздействие. Кибернетическая цепь замкнута сама на себя. Обратная связь (feedback) отрицательна, если все отклонения происходят в направлении, обратном предшествующим отклонениям, тем самым исправляя их, чтобы система всегда сохранялась в равновесии. Напротив, обратная связь положительна, если отклонения происходят в том же направлении и не прекращают увеличиваться; тогда система стремится к «выходу из-под контроля» (runaway) или к лихорадочному нагнетанию, которое приводит к ее полному распаду и разрушению.
Эти понятия явно сходны с ритуальным равновесием в человеческих обществах, а миметический кризис представляет собой своего рода runaway.
В книге, которую Грегори Бейтсон посвятил обряду, называемому навен, он, как мне кажется, в терминах кибернетической лихорадки описывает то, что я назвал бы миметическим кризисом; он улавливает элемент соревнования и противопоставления двойников, что он определяет как «симметричный схизмогенез»[141]141
Naven, рр. 175-197.
[Закрыть]. Он видит, что эта тенденция резко прерывается и оборачивается завершающим пароксизмом, но он не видит той роли, которую, как я полагаю, играет в этом разрешении собственно элемент жертвоприношения.
Итак, для нашей точки зрения очень важно, что исследователи, на которых повлиял Грегори Бейтсон, особенно его теория психоза, когда решили разработать, разумеется, с постоянной опорой на «теорию информации» (information theory), «прагматику» человеческой коммуникации, Pragmatics of Human Communication[142]142
Paul Watzlawck et al.. Pragmatics of Human Communication, pp 73-250. Энтони Уайлден делает интересную попытку взаимной критики и примирения теории коммуникации и работ французской структуралистской школы, особенно Жака Лака на. Большая часть его Эссе собрана в System anti St ni mur.
[Закрыть], тотчас пришли к механизмам исключения через жертвоприношение.
Эти исследователи рассматривают только очень малые группы, главным образом нуклеарную семью; они считают, что любая тенденция таких систем к нарушению нормального функционирования сразу же (неким бессознательным, стремящимся восстановить равновесие усилием) переводится в нанесение ущерба одному индивиду данной группы, на которого ополчаются все остальные. Именно этот индивид, демонстрирующий психические расстройства, важен для всей группы, так как на эти расстройства она возлагает ответственность за все то, что мешает ей нормально функционировать. Значит, как раз на основе такого видения вещей, общего для всех здоровых элементов группы, и может установиться другой тип равновесия, вне сомнения непрочный, но пока работоспособный.
Авторы книги видят продолжение своего труда в художественной литературе; они пускаются в весьма интересное истолкование пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?» ( Who's afraid of Virginia Woolf?), в высшей степени связанной с темой жертвоприношения, но они не делают никаких намеков на тот необычайный религиозный и культурный контекст, в который должно было бы вписаться их исследование.
Ж.-М.У.: В исследованиях группы из Пало-Альто[143]143
Пало-Альто – город в штате Калифорния, где в 1953 г. начала свои исследования по коммуникации группа ученых во главе с Г. Бейтсоном.
[Закрыть] вы не должны видеть лишь положительные аспекты. У этих ученых имеются радикальные расхождения с вашим тезисом. Они никогда не улавливают истинного смысла механизма жертвоприношения и его, по существу, учредительного характера по отношению ко всем системам культурной коммуникации, основанным на символичности и языке.
Р. Ж.: Уловить этот смысл они не могут не только потому, что они ограничиваются изучением крайне малых групп в рамках современного общества; этому препятствует сама бейтсоновская концепция double bind и данные теории коммуникации (communication theory).
Г. Л.: Понятие коммуникации слишком узкое. Оно представляет значительные преимущества по сравнению с психоаналитическим понятием желания, которому не удается избавиться от некоторых иррациональных элементов. Также нельзя прийти к механизму жертвоприношения исходя только из поведения животных, пускай даже понимаемого с более широкой точки зрения современных этологов.
Р. Ж.; Все эти точки зрения необходимы, но все они недостаточны, а кроме того, остаются непримиримыми. Единственное средство их примирить и извлечь пользу из всех их частных достижений, не страдая от их ограниченности, – это миметическая теория, которая одна только и способна функционировать сразу и на животном, и на человеческом уровне, следовательно, одна только и способна устранить всякий метафизический разрыв между двумя сферами, а заодно и всякое незаконное смешение, поскольку миметическое станет функционировать в каждой из этих сфер в весьма несходном режиме. С другой стороны, миметическое уже вследствие того, что, не будучи непричастным к языку, оно ему предшествует и переполняет его со всех сторон, позволяет универсализировать принцип double bind, как мы это сделали с механизмом присвоения, и тем самым ввести принцип feedback и угрозу runaway во все индивидуальные отношения.
Эта универсализация запрещена в исследовании, пока мы не видим, как противодействовать ее слишком разрушительным потенциальным следствиям. Как раз в тот момент, когда мы больше не колеблемся противостать этой кажущейся невозможности, и открывается путь, ведущий к механизму жертвоприношения. Описывать проблему в терминах энтропии и негэнтропии – весьма соблазнительно для современных умов, всегда склонных брать для своих толкований метафоры, заимствуемые из научных дисциплин, но это лишь иной способ формулировать проблему. Секрет культурной «негэнтропии» – это механизм жертвоприношения и религиозные императивы, из него возникающие...
F. О соперничестве объекта с метафизическим желанием
Р. Ж.: Чтобы распугать паутину желания, необходимо и достаточно признать, что все начинается с соперничества за объект. Объект получает ранг оспариваемого объекта, и поэтому у обеих соперничающих сторон он вызывает притязания.
Г. Л.: Марксисты официально вас предупреждают, что этот тип эскалации изобретен капитализмом. Марксисты думают, что вы говорите здесь о проблемах, окончательно решенных Марксом. Так же как фрейдисты думают, что вы говорите о проблемах, окончательно решенных Фрейдом.
Р. Ж.: В таком случае истинные основатели капитализма как Эдипова комплекса – обезьяны. Капитализм, а вернее, либеральное общество, которое позволяет капитализму процветать, лишь обеспечивает самое свободное осуществление миметических феноменов и разводит их по каналам экономической и технологической деятельности. В силу сложных религиозных причин это общество способно устранять те преграды, которые архаическими обществами ставились против миметических соперничеств.
Вся ценность объекта возрастает по мере сопротивления, на которое наталкивается стремление его приобрести. Возрастает и значение образца. Одного не бывает без другого. Даже если образец не пользуется вначале особым авторитетом, даже если субъект сначала чужд всему тому, что вскоре подпадет под понятие «авторитета», или «престижа» (отpraestigia: призраки, обман, чары)[144]144
Фр. «prestige» восходит к лат. «praestigiae».
[Закрыть], все это возникнет из самого по себе соперничества.
Машинальный характер первоначального подражания предрасполагает субъекта не отдавать себе отчета в автоматическом характере соперничества, которое противопоставляет его образцу. Субъект спрашивает себя об этом противопоставлении и имеет тенденцию приписывать ему значения, которые тому не присущи. К этой тенденции следует отнести и все те объяснения, которые претендуют на научность, включая объяснения Фрейда. Отнюдь не пряча никакого секрета, как представлял себе Фрейд, этот треугольник соперничества скрывает лишь свой миметический характер.
Объект желания – это объект запрещенный, но не «законом», как думает Фрейд, а тем, кто делает его для нас желанным, желая его и сам. Один только не установленный законом запрет соперничества может на самом деле ранить и травмировать. Тут нечто иное, нежели какая-то статичная конфигурация. Элементы системы реагируют друг на друга; авторитет-престиж образца, сопротивление, которое он противопоставляет, значение-ценность объекта, сила внушаемого им желания – все это не перестает усиливаться в процессе положительной «обратной связи» (feedback). Тут только и становится объяснимым злое коварство всего того, что Фрейд называет «амбивалентностью», вредоносным динамизмом, который он прекрасно уловил, но который ему не удалось объяснить[145]145
Вот почему до сих пор прав Леви-Стросс, утверждавший, что научный подход в антропологии не принимал в расчет желания.
[Закрыть].
Запреты, устанавливаемые законом, адресуются всем людям или их отдельным категориям и, как правило, не внушают нам, что мы «худшие» среди индивидов. Напротив, запрет миметического соперничества всегда адресуется именно конкретному индивиду, который склонен его интерпретировать как противопоставленный ему лично.
Даже если он считает, что с ним обращаются несправедливо, жестоко его преследуют, субъект непременно спрашивает себя, имеются ли у образца законные основания для того, чтобы отказать ему в объекте; все более важная часть его самого продолжает подражать этому образцу и тем самым ратует за него, оправдывая то враждебное обхождение, объектом которого он полагает себя, обнаруживая в этом некое особое и, возможно, справедливое осуждение.
Субъект, как только он вступает в этот порочный круг, скоро начинает приписывать себе радикальную недостаточность, которую образец видит насквозь и которая оправдала бы отношение к нему образца. Тесно связанный с этим объектом, который он ревниво хранит при себе, образец, кажется, обладает самодостаточностью и всеведением, которыми субъект мечтает завладеть. Объект становится желанным как никогда. Раз образец упорно закрывает доступ к нему, то лишь обладание этим объектом должно создать различие между полнотой Другого и пустотой субъекта, между самодостаточностью и недостаточностью.
Это преображение, которое не соответствует ничему реальному, показывает, однако, преображенный объект как нечто самое что ни на есть реальное. Можно отнести это преображение к разряду онтологии или метафизики. Можно решить использовать слово «желание» лишь с того момента, как непонятый механизм миметического соперничества сообщит это онтологическое или метафизическое измерение тому, что прежде было всего лишь потребностью и нуждой. Мы вынуждены использовать тут философские термины. По отношению к первобытным освящениям насилия философия есть то же, что «метафизическое» желание по отношению к миметическому неистовству, которое производит богов насилия. Вот почему современный эротизм и посвященная ему литература с предельной интенсивностью обращаются вновь к языку священного. Все великие лирические метафоры прямо или косвенно относятся к священному, связанному с насилием, что литературная критика лишь констатирует и на чем, однако, не задерживается. Ее интересует не миметический генезис, а новизна «трепета», вызываемого этими метафорами.
Идея метафизического желания не означает, будто я поддаюсь какому-то метафизическому искушению, как раз наоборот. Чтобы ее понять, необходимо и достаточно увидеть родство между тем, о чем мы говорим в данный момент, и ролью, которую играют такие, в сущности, очень близкие друг другу понятия, как честь и престиж, в некоторых социально регламентированных соперничествах: дуэлях, спортивных соревнованиях и т.д. Это соперничество и порождает такие понятия; они не имеют осязаемой реальности, однако тот факт, что ради них состязаются, заставляет их казаться более реальными, чем любой реальный объект. Как только эти понятия выходят за свои всегда ритуальные рамки, которые сообщает им их кажущаяся ограниченность в мире, все еще фиксированном и стабилизируемом механизмами жертвоприношения, они ускользают от всякого ограничения и объективного контроля; именно в этот момент в примитивном мире все впадает в миметическое неистовство, в смертельную борьбу и опять же в механизм жертвоприношения. В нашем мире именно бесконечность желания приводит к тому, что я называю желанием онтологическим или метафизическим.
Метафизический «порог», или, если угодно, переход к желанию как таковому – это порог ирреального. Можно сделать его также порогом психопатологического; но прежде всего следует настаивать на его преемственности ко всему тому – даже на его тождественности со всем тем, – что считается совершенно нормальным, если только определять это в терминах, санкционированных обществом, как-то: стремление к риску, жажда бесконечного, туманность поэтичной души, безумная любовь и т.д.
Ж.-М.У.: Вы всегда говорите о субъекте, который никогда не одержит верх в борьбе со своим соперником. Но исход этой борьбы может оказаться и другим. Что произойдет, если субъекту удастся завладеть объектом?
Р. Ж.; Чтобы победа что-то изменила в судьбе субъекта, она должна быть одержана прежде, чем увеличится разрыв со всем тем, что может принести обладание в смысле удовлетворения, удовольствия, наслаждения и т.д., и все более и более метафизическими устремлениями, которые вызываются неведением о соперничестве.
Если разрыв слишком большой, то обладание будет настолько обманчивым, что субъект, конечно, возложит ответственность за это на объект, а также на образец, прямо к этому причастные, но никогда – на желание как таковое, никогда – на миметический характер этого желания. Объект и образец будут с презрением отвергнуты, но субъект пустится в поиск нового образца и нового объекта, которым не удастся обмануть его столь же легко. Это может означать лишь одно: отныне желание стремится лишь к неодолимому сопротивлению.
В сущности, победа только ускоряет движение к худшему. Продолжающееся поражение приобретает все больший опыт, становится, так сказать, все более умудренным, никогда не постигая себя как поражение.
Ж.-М.У.: В общем, достигает субъект успеха или терпит поражение, он всегда идет к поражению. Вместо того чтобы прийти к выводу, что само по себе желание – эго тупик, он всегда находит способ сделать вывод в пользу желания, приберечь для желания последний шанс. Он всегда готов осуждать уже завоеванные объекты, прошлые желания, вчерашних идолов, как только появится новый идол или новый объект. Это процесс моды, равно как и желания. Субъект моды всегда готов отказаться от всего и прежде всего – от самого себя, лишь бы не отречься от моды, сохранить будущее для желания.
Пока мы не преодолеем все препятствия, остается возможность, все уменьшающаяся, конечно, но никогда не сводящаяся к нулю, того, что за последним укреплением, защищаемым последним драконом, нас ожидает в конце-то концов то сокровище, которое мы повсюду искали.
Р. Ж.: Существует логика желания, и это-логика пари. На определенной ступени невезения злополучный игрок не сдается, но ставит все более крупные суммы при все меньшей вероятности выиграть. Субъект всегда в конечном итоге обнаружит непреодолимое препятствие, которым окажется, может быть, всего лишь чудовищное безразличие мира, и тщетно будет пытаться его преодолеть.
Ж.-М.У.: В сущности, о «пари Паскаля» всегда говорят так, словно в нем была лишь одна ставка. То, что сам Паскаль видит в своей теории «развлечения», есть как раз то, о чем вы сейчас говорите. Желание ведь тоже есть своего рода пари, но такое, которое никогда не выиграть. Ставить на Бога – значит ставить на другого Бога, нежели бог желания.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Желание без объекта
А. Двойники и интердивидуальность
Ж.-М.У.: Мне кажется, что та трудность, которая возникает у многих ваших читателей, связана с их непониманием того, что различие между субъектом и образцом проводится у вас лишь в первый момент, который может быть реальным и генетическим, но чаще всего является теоретическим и дидактическим.
Р. Ж.; В самом деле, миметизм – это заразительность в человеческих отношениях, которая, в принципе, не щадит никого. Если образец усиливает страсть к объекту, которого он предназначает субъекту, то это значит, что он сам поддается этой заразительности. Он, в сущности, подражает своему собственному желанию через посредство ученика. Если ученик служит образцом своему собственному образцу, то образец, в свою очередь, становится учеником своего собственного ученика. В результате между людьми (или, вернее, между их желаниями) не существует истинных различий; недостаточно также думать в терминах различий, которые меняются местами либо смещаются и отклоняются. Эти знаменитые различия суть всего лишь разрывы взаимности, которые ведут себя всегда отчасти произвольно, так как укоренены в механизмах жертвоприношения и в миметическом соперничестве, они исчезают в результате насилия, возвращающего все к чистой взаимности.
В соперничестве каждый занимает все позиции – сначала последовательно, потом одновременно, так что различных позиций уже не существует.
Все то, что в данный момент ощущает, о чем мыслит или на что воздействует один из партнеров насилия, должно рано или поздно обнаружиться и у другого. В результате, а результат – это все более ускоряющееся движение, больше нельзя говорить ни о ком в отдельности, можно говорить только обо всех. Уже нельзя отличить одних партнеров от других. Именно это я и называю отношением двойников.
Г. Л.: В отличие от всех тех, кто употреблял этот термин «двойники» до вас, вы обозначаете им реальных индивидов, охваченных взаимным насилием, о котором не знают они оба, но которое все больше и больше проявляется и довершается не только на этапах положительного подражания, о котором мы уже говорили, но и на этапах физического насилия. Термин «двойники» используется традиционно в ином смысле, в смысле слабого отражения, образа в зеркале, фантома; в этом смысле он употреблялся писателями-романтиками, такими, как Гофман, например, а также этому термину, в сущности, сохраняют верность психиатрия и психоанализ, когда в некоторых заболеваниях они опознают то, что называют «галлюцинацией двойника».
Р. Ж.: Думаю, можно отнести кажущуюся тайну галлюцинаторного двойника к двойникам реальным, о которых я как раз говорю. Речь, как всегда, идет об очень простой вещи. Насилие – это отношение совершенно миметичное, значит, совершенно взаимное. Каждый подражает насилию другого и возвращает его другому «с лихвой». Ничего нет обыкновеннее этого отношения, когда оно принимает форму физического насилия, и, разумеется, пока мы остаемся вне его, мы можем смотреть на него как чистые зрители. Чтобы это понять, достаточно привести отношения, на первый взгляд, совершенно надуманные, между Гиньолем и Жандармом[146]146
Персонажи французского ярмарочного театра.
[Закрыть], которые колотят друг дружку что есть силы.
Поскольку двойники остаются чистым зрелищем, они – основание всякого театрального действа, неважно комического или трагического.
Как только симметрия миметического отношения вступает в силу, от нее хотят избавиться. Иными словами, под влиянием взаимного насилия всякий образец трансформируется в антиобразец; теперь речь идет не о том, чтобы походить друг на друга, а том, чтобы различаться, но взаимность непрерывно продолжается, так как все одинаково стараются с нею покончить. Фактически это то же самое желание, но оно «больше не верит» в превосходство образца.
Ж.-М.У.: Мы находим это в огромнейших пространствах, равно как и в самых маленьких уголках современной жизни. Мода, например, торжествует полностью в интеллектуальной жизни – и это не случайно – только с того момента, как начинается шумиха по поводу различия. Все стараются отличаться одним и тем же образом, и, когда чуть позже все они одновременно обнаружат эффект тождества, отречение от моды будет таким же делом моды, как и ее принятие. Вот почему весь мир – против моды; весь мир всегда отказывается от царящей моды, чтобы вместе со всеми подражать неподражаемому. Если наши всевозможные духовные учителя царят все менее и менее долгое время, а потом винят в утрате своего влияния сущность всякой духовной жизни, то и мода функционирует по принципу эскалации, и с момента, когда весь мир все лучше и лучше вникает в ее механизм, мода ускоряет свой ритм, отказ от моды, больше не иллюзия; сама мода заканчивает «выходом из моды». В этой сфере парижская мода опережает философию. Она первая узнала, что больше не существует, как мне говорил один известный модельер из моих друзей.
Р. Ж.: Не только у прежних писателей, но и у современных, когда они становятся действительно великими, все основывается на двойниках. Это парадокс, но именно желание отличаться всегда приводит к сходству и единообразию.
У Пруста, например, можно найти тексты, в которых фундаментальное недоразумение желания переводится в комичную жестикуляцию в стиле Чарли Чаплина. А это та же самая вещь, что и самое лиричное желание, именно так оно и функционирует у всех персонажей, начиная с самого рассказчика. Там самое важное – вот эти тексты-«шарниры». Они ясно показывают, что мы всегда имеем дело с одной и той же структурой, иначе говоря, что желание не так интересно, как нас. пытаются в этом уверить.
Отнюдь не будучи бесконечными, его сюрпризы всегда одинаковы, они всегда предсказуемы и вычисляемы. Они «захватывают»[147]147
«Сюрприз» (отфр. surprendre – «захватывать») -букв.: «то, что захватывает».
[Закрыть] лишь само желание, которое всегда увлекается собственной игрой и всегда работает против себя самого. Никакая стратегия никогда не приносит ему того, чего оно ищет, но оно никогда не отказывается от стратегии. Если воля к поглощению другим и уподоблению ему никогда не побеждает различия с ним, то воля к этому различию, которая сводится к тому же самому, никогда не освобождает от тождественности и взаимности. Именно это и демонстрирует променад обывателей на курортной набережной в Бальбеке:
Все эти люди, ходившие по набережной, (...) желая показать, что им ни до кого нет дела, притворялись, будто не видят тех, кто шел рядом или навстречу, но украдкой все-таки поглядывали на них из боязни столкнуться и тем не менее натыкались и некоторое время не могли расцепиться, потому что ведь и они, в свою очередь, служили предметом тайного внимания, скрытого под наружным презреньем[148]148
Marcel Proust, «A l’ombre des jeunes filles en fleurs», A la recherche du temps perdu I, Gallimard, 2007, pp. 788-789. [См. рус. пер.: Марсель Пруст, Под сенью девушек в цвету. Пер. Н. Любимова, М., 1992. с. 808.]
[Закрыть].
Г. Л.: Если вы будете до конца верны своей точке зрения относительно двойников, то вам придется критиковать идею, принимаемую во всех видах психиатрии и психоанализа, согласно которой опыт двойника у тяжелых больных не имеет никакой устойчивости и не соответствует никакой реальности.
Р. Ж.: Не существует галлюцинации двойника. То, что за нее принимают, есть необъяснимое столкновение этих двух индивидов, которые взаимно стараются избегать друг друга, и постоянное повторение этого столкновения.
В сущности, двойники – это всегда лишь взаимность миметических отношений. Поскольку субъект не стремится ни к чему, кроме различия, поскольку он отказывается признавать взаимность, последняя как раз и торжествует, благодаря тем самым стратегиям, которые каждый обнаруживает и применяет в одно и то же мгновение, чтобы ее перехитрить. Итак, непрерывно отрицаемая взаимность начинает неотступно преследовать субъекта, истинный фантом истинной структуры, которую великий писатель улавливает без особого труда, но от которой большинству людей удается избавиться в той мере, в какой она затрагивает их самих. Поскольку она затрагивает других, то им некому и нечему завидовать в отношении проницательности. Эта самая действительная проницательность и вводит их всегда в заблуждение, заставляя их думать, что они-то выпутаются из той неприятной ситуации, в которой все остальные завязнут.
Галлюцинаторным является не двойник, а различие, которое и следует считать за сумасшествие. Галлюцинаторная интерпретация двойников – это последняя уловка желания, чтобы его не узнали в тождестве миметических партнеров, окончательный провал или, вернее, плачевный успех самого миметического желания. Если сумасшедший видит двойника, то это потому, что он слишком близок к истине. Так называемые «нормальные» еще могут функционировать в рамках мифа различия не потому, что различие истинно, а потому, что они не продвигают миметический процесс настолько далеко, чтобы вынудить его ложь проявиться в нагнетании и усилении той миметической игры, которая делает взаимность все более видимой. Все более стремительный обмен различительных позиций ведет к тому, что в рамках самого процесса больше не остается различаемых моментов. Как мы только что говорили, весь мир занимает все позиции одновременно, и там, где различие распространяется в форме чудовищных кошмаров, оно также стремится и к самоупразднению.
Больной просит своего врача подтвердить, что его сумасшествие состоит в отказе от различия ради тождества. Он требует, чтобы наука регистрировала чудовищ и двойников не в качестве помех мифическим различиям культуры, а потом и отмены последних, но в качестве дополнительных различий в рамках некоего опыта, который не может быть ничем, кроме как тканью различий, иначе говоря, текстом, а то и, возможно, некоей «интертекстуальностью», как сказали бы сегодня.
Желание в конечном счете первым дает своему субъекту знание о недопустимости его суждения. Он не способен включить двойников в свой различительный проект; он не может приспособить их к своей логике; он вынужден изгонять самого себя за пределы «разума» вместе со своими двойниками; вместо того чтобы отказаться от желания, он приносит ему в жертву свой опыт и свой разум. Он просит врача санкционировать это жертвоприношение и диагностировать сумасшествие, сообщив делу официальный характер.
Г. Л.: Медицина всегда повиновалась. В отличие от поэтов, она никогда не видела в двойниках ничего, кроме иллюзорных зеркальных игр или, возможно, странных «архаических» реминисценций. Сам Фрейд поддался этому. Все согласны в том, что двойники ничего не значат, однако в качестве симптомов очень серьезны.
Р. Ж.: В сущности, психоаналитическая точка зрения – это точка зрения самого желания, которой врач опасается противоречить. Сам больной первым объявляет себя сумасшедшим и ведет себя так, чтобы нас в этом убедить, и он, вероятно, знает, что именно происходит. Будучи современной философией, психоанализ основывается на различии и изгоняет тождество двойников. Все в нем покоится на наследии романтического индивидуализма, живого как никогда, несмотря на активную, хотя и поверхностную критику в его адрес.
Ж.-М.У.: Вы говорите: «желание побеждает...» или «желание отказывается...». Не думаете ли вы, что тем самым практически гипостазируете желание?
Р. Ж.: Нет, не думаю. Если желание одинаково для всех людей, если это всегда одно и то же желание, то нет оснований, чтобы не делать из него истинного «субъекта» структуры, субъекта, который при этом сводится к мимесису. Я избегаю говорить «желающий субъект», чтобы не создавать впечатления, будто я снова впадаю в психологию субъекта.
Подобно тому, как насекомое попадается в рассыпчатую ловушку, приготовленную ему его противником (песчинки, за которые оно цепляется, когда песок осыпается под его лапками), так и желание рассчитывает на различия, чтобы взобраться по склону вверх, но различия изглаживаются самим фактом его усилий, и желание всегда вновь сваливается обратно к двойникам.
Миметический характер действий желания проявляется все сильнее. Он становится уже столь явным, что даже наиболее решительные наблюдатели, ничего не видя, признают в конце концов его существование. Тогда они говорят о «театральном» стремлении привлечь к себе внимание, но как если бы тут шла речь о феномене без предшествующих факторов, без вразумительных связей с чем бы то ни было, прежде всего, естественно, с двойниками.
Г. Л.: В действительности, чем более утяжеляются симптомы, тем больше желание превращается в собственную карикатуру, чем более прозрачными становятся феномены, с которыми мы сталкиваемся, тем легче оказывается в их свете переосмыслить их траекторию в целом.
Р. Ж.: В сущности, именно само желание ответственно за свою собственную эволюцию. Оно само движется к своей собственной карикатуре или, если угодно, к обострению симптомов, ибо, вопреки тому, что думает Фрейд, а думает он всегда о «бессознательном», желание знает само себя лучше всякой психиатрии; оно все лучше и лучше познает себя, так как поэтапно наблюдает то, что с ним самим происходит, и его самоотчет в этом познании детерминирует обострение симптомов. Желание всегда использует для своих целей то знание, которое оно приобретает о себе самом; оно, в сущности, ставит истину на службу своей собственной лжи и все лучше вооружается против всего того, что от него отказывается, чтобы все мобилизовать у отдельных индивидов или в их сообществах во благо определяющего double bind, все больше заводя в намечаемый им самим тупик.