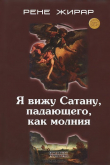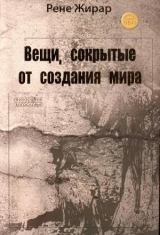
Текст книги "Вещи, сокрытые от создания мира"
Автор книги: Рене Жирар
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Р.Ж.: Ваше замечание справедливо в отношении некоторых мифов, но мне кажется возможным показать, что задолго до формирования современной концепции культурного сознания существовали формы сознания религиозного, которые уже стремились к стиранию следов линчевания точно так же, как авторитетные исследователи американского Юга. Вся эволюция культуры определяется фактом этого стирания.
Тем не менее верно и то, что многие мифы и обряды открыто говорят о линчевании. И чем больше они о нем говорят, тем больше наши заклятые враги-репрезентаторы настаивают на том, что этим следует пренебречь. Идея, что структурирующий механизм может быть репрезентирован в том тексте, который он структурирует, противоречит их представлению о бессознательном но Фрейду, Лакану и т.д. Они всегда говорят о «другой сцене», о «другом месте», в то время как здесь речь идет об одной и той же сцене. В этом есть для них что-то неподобающее, о чем не следует даже упоминать.
С. Демистификация преследования, монополия западного и современного мира
Ж.-М.У.: Почему повсеместно признанная интерпретация текстов о преследовании до сих пор не применяется в отношении текстов мифологического характера?
Р.Ж.: Для того чтобы придать исчерпывающую аргументацию моей гипотезе, следует объяснить это различие в подходах.
Ж.-М.У.: Между мифологией и тем примером преследования, который вы выбрали, существует, во-первых, такое лежащее на поверхности различие. Жертвами были евреи. В нашем мире до сих пор евреи бывают объектами всяческой дискриминации. Между современными преследованиями и теми, которые имели место в Средние века, существует преемственность, которая упрощает идентификацию жертвы как жертвы.
Р.Ж.: Принадлежность жертвы к этническому или расовом) меньшинству предопределяет ее к роли козла отпущения. Следовательно, в текстах о преследовании мы опознаем жертву по культурным знакам. Эти знаки никоим образом не означают, что эти жертвы были выбраны произвольно Они абсолютно произвольны с точки зрения тех обвинений, которые им предъявляются Однажды принятое решение сделать этих людей жертвами носит необратимый характер. Здравомыслящие наблюдатели не могут этого не заметить, и это делает антисемитский текст легко дешифруемым. Присутствие в тексте козла отпущения заставляет нас отнестись очень серьезно к любому намеку на коллективное насилие.
В мифологических текстах нет ничего похожего. В них нет культурных знаков. Возможно, в некоторых случаях они присутствуют, но мы не можем их распознать. У нас нет необходимого кода. Во многих случаях он попросту отсутствует. Большая часть сообществ, создающих мифологию, слишком немногочисленна и слишком однородна, чтобы осудить меньшинства, которые в случае более многочисленных сообществ бывают поставщиками коллективных жертв.
Г.Л.: Не забывайте о транскультурных знаках, таких, как болезнь или физическая ущербность мифического героя.
Р.Ж.: Разумеется. Я далек от мысли, что мифы не поддаются расшифровке, но меня интересует вопрос, почему их не так легко расшифровать, как тексты о преследованиях или, точнее, почему наши попытки расшифровать тексты о преследованиях начались с текстов нашего [западного] мира и до сих пор не распространились за эти пределы.
Ж.-М.У.: Но вы же не станете утверждать, что все тексты о преследованиях, которые уже были расшифрованы, принадлежат нашему западному миру?
Р.Ж.: Напротив. Разумеется, мы не можем охватить весь матери ал, но в этом и нет необходимости. Мы не можем привести ни одного текста о преследованиях, который не принадлежал бы к нашему культурному ареалу или к тем, с которыми нас связывает нить преемственности – греческому и еврейскому.
Ж.-М.У.: Один из первых и, как мне кажется, наиболее известный пример – это интерпретация Платоном смерти Сократа.
Р.Ж.: Мы вскоре увидим, что существуют и более древние, более значительные тексты, которые не принадлежат к греческому культурному ареалу. Но помимо нашего ареала и тех, которые прямо ему предшествуют, нет текстов о преследованиях в том смысле', который я здесь определил. Надо задаться вопросом, является ли причиной такого положения дел тот факт, что в этих ареалах не бывает преследований, что мы являемся монополистами этого поведения, или же отсутствие подобных текстов есть только видимость и нас вводит в заблуждение то обстоятельство, что в других культурных ареалах преследования никогда не совершаются так явно, как у нас. Либо они вовсе не фиксируются в каких либо текстах, либо фиксируются искаженно.
Г.Л.: Я понимаю, к чему вы клоните; сообщества, в которых имеются тексты о преследованиях, не производят мифов в чистом виде; те же сообщества, в которых есть мифы, не производят текстов о преследованиях. В примитивных обществах отсутствует само понятие преследования, понятие насилия всегда окружено священным ореолом. И все то, что рано или поздно до нас доходит, выражает факт преследования в еще непонятной для нас форме религиозного текста.
Р.Ж.: Современный неопримитивизм полностью основывается на нашем незнании об учредительном механизме. Оно выражается в словах: посмотрите на эти замечательные сообщества, в которых нет преследований и которые обильно производят эту спонтанную поэзию мифа, которая у нас полностью иссякла. Можно легко понять эту ностальгию, если учесть наше полное незнание того, что стоит за мифами. Вот почему она в наши дни становится все более острой по мере того, как усугубляются последствия демистификации, корни которой уходят далеко в прошлое, но которая все более и более прогрессирует.
Г.Л.: Если неопримитивизм в паши дни приобретает невероятную интенсивность, это, несомненно, связано с тем, что дни его сочтены; когда костер угасает, угли сверкают особенно ярким светом.
Р.Ж.: Все то, о чем мы говорим с самого начала, возможно только в контексте современного мира, в котором все более возрастает понимание насилия. В примитивном мире было бы немыслимо рассуждать подобным образом; даже если бы нашлись люди с такими мыслями, их бы никто не понял. Феномен преследования, о котором мы говорили, не дошел бы до нас в чистом виде, предстал бы перед нами только в непостижимой мифологической форме, пропущенной через фильтр освящения жертвы.
Наш дискурс последовательно вписывается в контекст интеллектуального движения, включающего этнографию в целом и мышление подозрения. Во всех науках о человеке, какими бы несовершенными они ни были, всегда кроется та проблема, которую мы пытаемся решить и которая сама вносит жизнь в поиски ее решения. Подозрение всегда уже направлено на механизм заместительной жертвы, даже если эти интеллектуальные формы никогда не достигают своей цели и превращаются в догматическую схему, тем саамы оказываясь неспособными по-настоящему отказаться от жертвоприношения.
Если наш подход представляет собой новый, более продвинутый этап в современных исследованиях, то сами эти исследования в своей совокупности должны быть частью намного более глобального процесса внутри общества, впервые оказавшегося способным описать в категориях насильственного произвола ту последовательность событий, которая во всех прежних человеческих сообществах и во всех других формах общественного устройства появлялась исключительно в мифологической форме.
Все наводит на мысль, что если в наши дни существует важный вопрос о человеке как таковом, то это лишь благодаря нашей все возрастающей способности расшифровывать феномен коллективного насилия и делать из него скорее тексты о преследованиях, нежели мифы. Вопросы о человеке и насилии как неведении приобретают свой истинный смысл друг через друга. Откровение учредительного механизма как механизма не только религии и культуры, но и гоминизации составляет ключевую фазу этого процесса. Тот факт, что эти три вопроса сегодня оказались прочно связанными друг с другом, был подготовлен не только развитием современной мысли и наук о человеке; все это вписывается в более широкий контекст общества, способного всюду, где распространяется его власть, то есть постепенно на всей нашей планете, веками притормаживать, а затем и совсем затруднить производство мифов и обрядов и сакрализацию феномена насилия.
Общество, производящее тексты о преследованиях, – это общество, идущее по пути десакрализации. Не мы первые констатируем, что все эти феномены связаны друг с другом, но мы первые поняли, что они таковы и почему они таковы.
Все то, о чем мы говорим в данный момент, может быть поводом для разговора о механизме жертвенного примирения, который проясняется все больше и больше. Чтобы лучше его понять и при этом не поддаваться иллюзии по поводу его реального значения, полезно обратиться к пространственной метафоре. Можно сказать, что за пределами нашего общества этот механизм по-прежнему остается невидимым, поскольку остается сокрытым от людей. В нашем иудео-западном обществе, напротив, он постепенно выходит наружу и делается все более заметным. Это обстоятельство имеет далекоидущие последствия, но мы сегодня подчеркнем только те из них, которые имеют отношение к религии и эпистемологии. По мере того как механизм жертвоприношения выходит на поверхность, такие концепции, как насилие и несправедливое преследование, становятся мыслимыми и начинают играть все более важную роль. Одновременно мифически-ритуальная продукция теряет свою силу и в конце концов полностью исчезает.
Хотя процесс откровения испытывает периоды резкого и скачкообразного роста, особенно в наше время, и охватывает все большее количество людей, нужно остерегаться таких формулировок, как «внезапное осознание» или привилегия определенной элиты. Нужно остерегаться чересчур «интеллектуальной» интерпретации этого процесса.
Нужно понять, например, что средневековые тексты о преследованиях, такие, как антисемитские тексты, реестры инквизиции или протоколы судов над ведьмами, даже если они все еще содержат некоторые элементы, близкие к мифологии, поскольку они оправдывают преследования обвинениями по-прежнему мифического характера и поскольку точку зрения, представляемую ими, по-прежнему можно определять типом непонимания, близким к непониманию мифов, все же принадлежат к некоей опосредующей зоне между мифологией в строгом смысле слова и самой радикальной демистификацией, на какую мы только способны. Если эти тексты расшифровать проще, чем мифы, то причина этого в том, что в них преображение, предметом которого делается жертва, намного менее мощное и полное, чем в мифах. Именно на это вы только что обратили мое внимание, заставив меня констатировать, что в уже истолкованных текстах о преследованиях жертва не освящается либо подвергается лишь слабо намеченному освящению. Это как раз и облегчает ее истолкование. Поэтому нужно думать, что дорога, ведущая к тому типу истолкования, к которому мы способны, вновь поднимается в гору и вполне совместима с практикой насилия, возможно даже, насилия значительно возрастающего и умножаемого в той самой мере, в какой все большая и большая осведомленность о нем уменьшает силу его «бессознательного» миметического сосредоточения на жертве и силу механизма примирения.
Это означает, что процесс, ведущий к раскрытию жертвенных механизмов, не может быть безобидным процессом. Теперь мы знаем достаточно о парадоксальном и насильственном характере культурных мер противодействия насилию, чтобы понять, что всякий прогресс в познании жертвенного механизма, все то, что выгоняет насилие из его логовища, несомненно, означает для людей, во всяком случае потенциально, колоссальный прогресс в интеллектуаль-ном и этическом отношении, но в реальности все это выразится в ужасном усилении этого самого насилия в истории в его самых отвратительных и жестоких формах, так как жертвенные механизмы становятся все менее и менее действенными и все менее и менее способными к своему обновлению. Можно себе представить, что люди, сталкиваясь с этим феноменом, часто поддаются искушению вернуть этому традиционному средству его прежнюю эффективность путем увеличения дозы насилия, истребления все большего количества людей в холокостах, все еще претендующих на роль ритуальных жертвоприношений, но все менее ими являющихся. Произвольное, но всегда реальное в культурном плане различие между законным и незаконным насилием все более стирается. Сила иллюзии ослабевает, и остаются только братья-враги, противоборствующие во имя этой иллюзии и притязающие на право быть ее воплощением, в то время как в действительности ее больше нет; она все меньше и меньше отличается от миметического кризиса, в который и впадает. Исчезает всякая законность.
Г.Л.: На этом примере хорошо видно, что вы настаиваете на жертвенном и насильственном характере культурных мер защиты от насилия вовсе не из-за того, что вменяется вам в вину некоторыми критиками, а именно не из-за признания факта существования обществ, основанных на жертвоприношении, и желания вернуться к ним. Те, кто так вас интерпретирует, видят только повторение, что было бы слишком банальным, теорий о катартическом характере обряда и культуры в целом. В жертвенном механизме они не улавливают, сколь важно для него неведение о нем и непонимание его – фактор, без которого этот механизм не стал бы учредительным и не создавал бы мифически-ритуальные формы.
Возможно, они остаются на уровне первой главы «Насилия и священного», а возможно, этот пункт остается самым решающим и одновременно самым уязвимым в вашей теории.
Р.Ж.; Главный интерес во всем нами до сих пор сказанном состоит, по моему мнению, в более точном определении этого механизма, в устранении или хотя бы смягчении его непонимания.
С момента, когда понимание этого механизма начало распространяться, обратного пути больше нет. Невозможно восстановить механизмы жертвоприношения в ходе их распада, поскольку сам этот распад как раз и вызван возрастающим пониманием этих механизмов; всякие попытки прервать или обратить вспять этот процесс могут совершаться только в ущерб тому знанию, которое в данный момент распространяется. Всегда будет идти речь о попытке заглушить это знание насилием; предпринимаются безуспешные попытки снова замкнуть человеческое общество в самом себе. Именно это предприятие характерно, по моему мнению, для всех тоталитарных систем, для всех безжалостных идеологий, которые, конкурируя между собой, сменяли одна другую в течение XX века и всегда основывались на принципах чудовищной рационализации механизма жертвоприношения и в результате оказывались несостоятельными. Целые категории людей выделялись из общей массы и обрекались на истребление: евреи, аристократы, буржуазия, последователи той или иной религии, инакомыслящие всех мастей. Условием для построения совершенного государства, получения доступа к земному раю всегда виделось уничтожение или принудительное обращение «виновных».
Ж.-М.У.: Иными словами, этот механизм можно проследить только там, где была выработана достаточно критичная позиция, которая препятствовала бы его работе. Произвольность выбора жертвы разоблачена, и примиряющего единодушия больше не существует. Мифо-ритуальные формы больше не могут свободно развиваться. Перед нами предстают только промежуточные и половинчатые феномены, которые нетрудно критиковать, рассматривая их как преследование.
Спонтанное коллективное насилие уже более не является учредительным и не играет ключевой роли в обществе; оно существует только в виде маргинальных феноменов внутри более отсталых групп. Именно в них наши современники могут их наблюдать, но в таких распадающихся формах, что невозможно осознать их подлинное значение. Вот почему некоторые критики могут упрекать вас в том, что вы строите всю свою антропологию на вторичных феноменах, которые не могут удержать на своих плечах то замечательное строение, которое вы на них водрузили.
Г.Л.: И наконец мы никогда не можем наблюдать процесс линчевания лицом к лицу. В этом есть нечто большее, чем просто случайное или непредвиденное затруднение. В этом есть прямая закономерность. Мы уже говорили, что истинные козлы отпущения – это люди, которых мы не можем распознать в этом качестве.
Р.Ж.: Чем больше мы понимаем суть этого механизма, тем меньше он этого стоит. Чем прочнее объект нашего исследования попадает в наши объятия, тем более он ускользает от нас, так что мы не понимаем его подлинного значения не только в данный момент, но и тогда, когда мы еще не пытались его уловить.
Ж.-М.У.: В этом есть нечто существенное для вашей теории и одновременно тонкое, поскольку современная мысль не предлагает нам ничего подобного. Если бы в современном мире не было ничего, аналогичного механизму жертвоприношения, ваша теория была бы более трудной для восприятия с определенной точки зрения, но более приемлемой для тех, кто был воспитан на теории Фрейда, для тех, кто считает все механизмы, сокрытые под оболочкой индивидуального или коллективного бессознательного как некую хорошо замаскированную реальность.
Р.Ж.: Учредительный механизм одновременно видим и невидим. Видим в том смысле, что мы находим аналогичные феномены в современном мире Невидим в том смысле, что непосредственно наблюдаемые феномены представляют собой лишь бледные намеки, выродившиеся остатки; и, даже если их эффекты остаются аналогичными тем, которые были раньше, они настолько ограниченны, что на их примере мы рискуем скорее быть обманутыми, нежели в чем-то удостовериться.
Ж.-М.У.: Наша нынешняя ситуация представляет собой промежуточное состояние между освящающим невежеством примитивного общества и тем видом понимания, который можно признать допустимым и на который ориентирована наша гипотеза. Эта промежуточная стадия характеризуется ограниченным признанием механизма жертвоприношения, которое никогда не выходит за рамки признания его учредительной роли для всей человеческой культуры.
Р.Ж.: Если эффективность этого механизма и богатство ритуальной продукции обратно пропорциональны способности общества распознать его действие, то бедность самого текста о преследовании, тот факт, что жертва никоим образом не освящена, отражает некоторую насущность учредительного механизма даже три том, что преследования продолжаются, и при том, что наш текст выражает точку зрения самих преследователей. Как бы ни были близки средневековые общества, преследовавшие евреев, к тем, которые в другие времена и в других местах примирялись вокруг жертв и производили великие мифологии – греческую, оджибве тикопиа, и все прочие религиозные формы человечества, они уже достаточно отдалены от них, чтобы не освящать своих жертв, поскольку не перестраиваются ради производства мифо-ритуальной продукции, которая была бы прямым результатом коллективного насилия.
Текст о преследованиях свидетельствует о невозможности произвести подлинный миф, характеризующий современное западное общество в целом. Но наша способность обличать и демистифицировать порой даже самые изысканные формы преследования, которые скрываются не только за весьма прозрачными примерами, которые мы приводили, но также и за на первый взгляд невинными текстами, не может не соответствовать более высокой стадии распада культурных механизмов, поскольку она обеспечивает истолкование этих форм.
D. Двойная семантическая нагрузка выражения «КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ»
Ж.-М.У. : Вы уже говорили о другом знаке этой более высокой стадии – об особенностях употребления термина «козел отпущения»...
Р.Ж.: Выражение «козел отпущения» восходит к caper emissarius Вульгаты, свободной интерпретации греческого термина аророт-paios: «тот, кто отгоняет бедствия». Этот последний термин, в свою очередь, появляется в греческой Библии, называемой Септуагинтой, как свободная интерпретация еврейского понятия, дословный перевод которого звучит как «предназначенный для Азазеля». Обычно считается, что Азазель – это имя древнего бога, обреченного жить в пустыне. В 16 й главе Книги Левита ритуальное действие по отношению к козлу отпущения описывается следующим образом:
И от общества сынов Израилевых пусть возьмет [Аарон] [...] двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицем Яхве у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребий: один жребий для Яхве, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Яхве, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Яхве, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую. (Лев 16: 5-10).
С XVIII века исследователи и интересующиеся проводят параллели между иудейским обрядом козла отпущения и другими обрядами, на которые он похож. Например, аббат Рейналь пишет в своем Histoire philosophique об индусах: «У них есть жертвенная лошадь, соответствующая козлу отпущения евреев»[76]76
Dictionnaire littré, статья “Émissaire”.
[Закрыть].
Ж.-М.У.: Насколько мне известно, только в языках тех обществ, которые участвуют в широком движении культурной дешифровки, а именно в западных языках начиная с конца Средневековья и в некоторых других в более позднее время, понятие «козел отпущения» приобрело то двойное значение ритуальной институции и бессознательного, спонтанного психосоциального механизма, и это значение до сих пор остается актуальным. Нужно отметить парадоксальность этой семантической связки. По общему убеждению, обряд и спонтанность являются антиподами. Как же это возможно, что они соединяются в выражении «козел отпущения»?
Р.Ж.: Эта связка интересна тем, что разоблачает некоторое широко распространенное убеждение, которое никогда не было официально признано ни этнографией, ни антропологией: существует связь между ритуальными формами и всеобщей тенденцией человека к перенесению своих страхов и конфликтов на произвольно выбранную жертву.
Этот семантический дуализм французского термина «козел отпущения» (houe émissaire) присутствует также в английском scapegoat, в немецком Sündenhock и во всех современных языках. Если вдуматься, мы не говорим ничего такого, что уже не присутствовало бы в двойном значении понятия «козел отпущения». Наша гипотеза не является нелепостью и не надает как снег на голову – она уже подспудно присутствует в народных языках с момента возникновения того, что мы называем рационализмом. Мы только пытаемся выявить «семантический курьез» этого двойного смысла.
Удивительно, что, насколько мне известно, до нас никто не интересовался этим «курьезом». Если посмотреть на историю этнологии, мы заметим, что эта наука предлагала бесчисленные теории религии. Но среди них есть только одна, которая не всегда была таковой и фигурирует в западных языках вот уже по крайней мере два или три века.
Когда этнология – а это с ней случается все более редко – подтверждает тот факт, который, начиная с Фрэзера, получил название обряда «козла отпущения», она чаще всего даже не пытается найти ему объяснение; она говорит о нем либо в терминах «хорошо известного феномена», который не нуждается в дефиниции, либо в терминах «аберраций», которые также не нужно определять, поскольку они лишены реального социологического значения. Как в одном, так и в другом случае речь идет о прекращении исследований, которые могут завести слишком далеко. Единственным этнологом, который действительно пытался найти этому определение, был Фрэзер, и его определение может быть принято нами, лингвистическими фанатиками, без малейших поправок: он не увидел в этом ничего кроме метафоры, которую не следует воспринимать слишком серьезно! «Грубые дикари», как он говорил, якобы исходили из понятия moral burden, «нравственного груза», и выводили из него абсурдную идею, что свои духовные тяготы они могут «перегрузить» на кого-нибудь другого, на жертву. Словом, все началось с проповеди Англиканской церкви, метафоричность которой эти невежды восприняли слишком дословно; из нее они вывели изобретательный метод совершать покаяние посредством козла отпущения[77]77
The Golden Bough, р. 625. Trad, franç. Le hour émissaire, p. 1.
[Закрыть].
Казалось бы, этнолог, твердо решивший не считаться с психосоциологическим смыслом выражения «козел отпущения», с тем, как через его призму выглядит спонтанный механизм, никогда бы не позволил себе ссылаться на это второе значение; можно было подумать, что дисциплина, претендующая на научность, воздержится от применения такого понятия, существование которого она полностью отрицает в теоретическом плане.
Но даже самый беглый обзор этнологической литературы XX века показывает, что это не так. Только в случае с категорией ритуала, которой, впрочем, не существует, равно как и всех других категорий, окрещенных ими как «ритуалы козла отпущения» (поскольку в них чрезвычайно подчеркиваются жесты, связанные с переносом зла), этнологи трезво ограничиваются «хорошо известным», «странной аберрацией» или символическими определениями в стиле фрэзеровской семиотики.
С тех пор как вопрос о козле отпущения официально больше не ставится, этнологи без всяких оговорок используют это выражение в смысле коллективного спонтанного катарсиса.
И у них непременно должно возникать желание при первом же случае – а таковых сегодня, впрочем, предоставляется все меньше и меньше – содействовать в еще проникновенном исполнении обряда или в том, что они так воспринимают в своих чисто интеллектуальных выкладках, тем грозным силам, которые пробуждаются великими ритуалами, хотя только лишь для того, чтобы восстановить мир и спроецировать эти силы на нейтральные или нейтрализуемые жертвы.
Выражение «козел отпущения» спонтанно высказывается этнологами в связи с некоторыми формами жертвоприношений, не подпадающими под категории Фрэзера. Это происходит всякий раз, когда устанавливается подлинный контакт, когда есть взаимопонимание между интерпретатором и той религиозной реальностью, которую он пытается определить. Для этого нужно, чтобы между коллективным спонтанным насилием и организованным насилием ритуалов, причем не только тех, которые мы считаем возможным называть «ритуалами козла отпущения», существовала связь настолько тесная и фундаментальная, чтобы она не могла навязать себя интуиции наблюдателя.
Но все это происходит подспудно; обращение ко второму значению термина сохраняет метафорический и литературный характер, поскольку у этого второго значения нет никакого официального статуса в теоретической этнологии.
В одном примечательном, даже выдающемся эссе японский этнограф Macao Ямагучи объединил все великие ритуальные институты японцев: императорство, гейш, театр, марионеток и т.д. – под общим принципом, который он назвал «козлом отпущения». В некоторых разновидностях бродячих театров главный герой, который, разумеется, играет роль козла отпущения, настолько «осквернен» в рамках репрезентации, что должен уйти из общества и прекратить общение с кем бы то ни было. Мы подмечаем в этом театре промежуточные формы между ритуальным изгнанием и драматическим искусством, которые чреваты для нас, если бы критики форм удосужились об этом подумать, прояснением смысла нашего собственного театра, его связи с обрядом и знаменитого аристотелевского катарсиса.
Однако на протяжении всей статьи Macao Ямагучи ни разу не задается вопросом о точном смысле выражения «козел отпущения», несмотря на ту решающую роль, которую он ему отводит[78]78
«Lа structure mythico-théatrale de la royauté japonaise», in Esprit, février 1973, pp. .315-342.
[Закрыть].
Ни этнологи, ни словарь не хотят рассуждать о двойной семантической нагрузке, ритуальной и спонтанной, термина «козел отпущения». О втором варианте словоупотребления словарь говорит нам, что, как и можно было ожидать, он носит фигуральный характер, в то время как в Книге Левита этот термин употреблен в своем собственном значении. Какой прогресс мысли!
Столь устоявшаяся наука, как этнология, вправе требовать объяснений от «новой» гипотезы, такой, как моя. Это оправданно, и мы этому подчиняемся. Но в известной степени справедливо и обратное. Гипотеза, уже в течение веков присутствующая в языке, имеет право потребовать объяснений у этнологии, которой достаточно было бы просто их сформулировать, чтобы избежать этих нелепых ритуальных категоризаций, которые вот уже пятьдесят лет практикуются и которые никто не осмеливается даже упоминать, так сильно они напоминают витрипу в лавке барахольщика, однако ничего лучшего пока никто не придумал.
Е. Историческое возникновение механизма жертвоприношения
Г.Л.: То, что вы только что сказали, нужно соотнести с вашими предыдущими утверждениями, касающимися современного западного мира в целом. Этот мир, как вы говорили, полностью определяется ослаблением силы жертвоприношения или, что то же самое, все более ясным пониманием механизма жертвоприношения. И в противоположность тому, что утверждали Ницше и Хайдеггер, а за ними и вся философская элита, невозможно отличить в этом широком движении то, что восходит к ученому мнению, от мнения народных масс. Часто, если судить подвойной семантической нагрузке термина «козел отпущения», народное знание обгоняет рефлексии ученых, которые в конечном счете делают все, чтобы избежать тех возможностей, которые язык повседневности буквально сует им под нос.
Несмотря на «сопротивление», вы говорите, что процесс неумолимо набирает обороты, и вводите определение двух его этапов: первого, когда весь мир производит тексты о преследованиях с точки зрения преследователей, который, увы, далек от завершения, и второго, следующего за первым, который заключается в универсальной дешифровке этих текстов, во все большем их прояснении.
Хотя этот второй этап представляет собой колоссальный прорыв, возникает новое и еще более ожесточенное сопротивление против всего того, что вы сейчас говорите. Означает ли это, что распространение на все мифы, на все религии и культуры планеты той интерпретации, которая уже всеми принята по отношению к текстам о преследованиях, соответствует новому этапу, новому разрыву, который многих пугает и, хотя все к нему ведет, по-прежнему оказывается для многих непреодолимым барьером?
Р.Ж.: Именно так я и думаю. Мне представляется, что мы переживаем небывалую мутацию, самую радикальную во всей истории человечества. Но это не означает тем не менее, что я питаю иллюзии по поводу важности роли интеллектуалов в целом и своей собственной в частности.
Эта мутация, о которой мы еще будем говорить, не зависит от того, какие книги мы написали или еще напишем. Она тесно связана с пугающей и замечательной историей нашего времени, которая воплощается как в наших текстах, так и за их пределами.