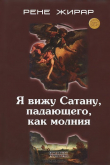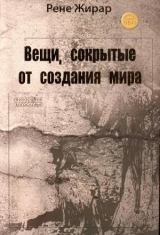
Текст книги "Вещи, сокрытые от создания мира"
Автор книги: Рене Жирар
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
Г. Л.: Действительно, что нужно делать, чтобы воспроизвести «Эдиповы» отношения? Как найти сразу и то, в чем Фрейд видит «замену матери», и то, в чем Фрейд видит «замену отца», соперника, который будет нас преследовать?
Р. Ж.: У этой важнейшей проблемы есть лишь одно мыслимое решение, а именно наше, миметическое. Есть лишь одно средство производить треугольники соперничества, но оно безошибочно и состоит в том, чтобы подражать ранее существовавшему желанию, желать только той женщины, которая намечена желанием другого. Всегда желать через посредничество образца – значит желать через посредничество соперника, значит предавать себя во власть соперника, значит неминуемо провоцировать наблюдавшийся Фрейдом тип амбивалентности! И в то же время это значит объяснить все то, что необходимо принять во внимание в «инстинкте смерти», как назвал его Фрейд.
Единственный способ решить проблему миметического воссоздания, следовательно, – это само миметическое желание, то есть в конечном счете наш мимесис присвоения, не имеющий ничего общего с Эдиповым комплексом и не являющийся даже преимущественно человеческим, коль скоро его находят уже у животных.
Но нельзя прибегнуть к этому единственному продуктивному решению, не отказавшись от архетипической системы Эдипа, о которой мы только что сказали, что она исключает такое решение. Нужно подражать желанию образца, чтобы обеспечить себе сразу необходимого соперника посредством совершенно автоматического механизма, запуска которого субъект, поглощенный своей миметической затеей, даже не сможет заметить; в действительности же механизм этот никогда и не запускается: он уже на своем месте, прежде чем все начнется, уже потому, что субъект паразитирует на уже сформированном желании, и потому, что он образует третью вершину треугольника, а не первую, как это себе представляет, и совершенно ошибочно, скрытый солипсизм архетипической концепции.
Проблема повторения разрешима лишь посредством миметического желания, которое по определению не может совпадать с комплексом Эдипа. Еще менее может оно совпадать с тем, что его производит в настоящем, а уже не в прошлом, – с принципом соперничества и конфликтности, намного более динамичным, нежели отцовское соперничество, представляемое психоанализом, и более приемлемым во всех отношениях. Он, этот принцип, чудесно объясняет не только повторение симптомов, но и их усиление, совершенно непонятное в рамках психоаналитической схемы.
Итак, либо мы признаем, что соперничество порождается миметическим желанием, и избавляемся от ложной гипотезы Эдипова комплекса, либо остаемся верны Эдиповой концепции и вновь оказываемся перед неразрешимой проблемой повторения. Эдиповы отношения безжизненны. Ни Фрейд, ни кто другой никогда не смогут осмыслить их так, чтобы реакции участников этих отношений друг на друга вызывали реальную «обратную связь» (feedback) и заводили субъекта во все более бедственное и тупиковое противостояние все более непобедимых и все более навязчивых соперников. Чтобы создался этот бедственный ту пик, нужно, чтобы соперники тщательно выбирались по принципу их непобедимости, то есть по силе их миметической привлекательности.
Вопреки общепринятому мнению, эта роль образца-соперника не является ролью отца. Следует без колебаний утверждать, что Эдип всего лишь запоздалая версия вечной мифологии и что в наше время он стал фундаментальным ресурсом общества, которое считает себя просвещенным, не будучи таковым в действительности, ибо оно проецирует на институции, пребывающие в стадии распада (как это всегда бывает при всяком кризисе, ведущем к жертвоприношению), те миметические трудности, которые вызваны самим этим распадом.
Если современная западная и даже предшествующая ей патриархальная семья становятся источником упомянутых трудностей, то лишь постольку, поскольку они, отнюдь не будучи столь подавляющими и сдерживающими, как принято думать, являются таковыми уже в гораздо меньшей степени, нежели большинство культурных институций человечества, а последние оказываются прямыми предшественниками все усиливающегося обезразличивания, характеризующего нашу нынешнюю ситуацию.
В объяснениях, которые всегда и все принимают на веру и которые в наши времена отвердели в догматизме, тем более беспощадном по отношению ко всякому истинно критическому уму, чем более тот воспринимает себя как конец всякого догматизма, не может все сводиться к простой инверсии причин и следствий, но эта инверсия действительно присутствует, и тут мы чувствуем, что следует вернуться к общему вопросу мимесиса и подражания, если хотим понять, что она такое.
С. Мимесис и репрезентация
Р. Ж.: У Фрейда, как и в нашей миметической схеме, Эдипов субъект сосредоточивает свое внимание на образце. Поскольку этот образец не есть желание, все попытки «укоренить» механизмы воспроизведения в недрах бессознательного всегда ведут к метафорам типографского воспроизведения; это, как правило, лишь истории с печатями, матрицами, оттисками, надписями, «вундер-блоками» (Wunderblocke)[170]170
Имеется в виду игрушка-«палимпсест», придуманная Фрейдом как средство проникновения в бессознательное.
[Закрыть] и т.д., которые доставляют радость всем фанатикам письма и, конечно, предполагают скрытую проблематику знака и репрезентации, но которые ничуть не означают, что эта проблематика необходима. Чтобы решить этот вопрос и по-настоящему избавиться от платоновской «метафизики», не нужно чураться платоновского понятия мимесиса, словно чумы. Наоборот, нужно взглянуть этой «чуме» в лицо.
Чего недостает Фрейду, того недостает и Платону, а именно понимания миметического как самого желания, а значит – как подлинного «бессознательного» (если допустить, что этот чересчур двусмысленный термин все еще может вызывать какой-то интерес). Нерепрезентативное миметическое – и только оно одно – вполне способно вызывать какие угодно треугольные соперничества, ведь оно-то и ведет к первому желанию, ибо мы склонны подражать непременно тому жесту присвоения, пример которого подаст нам соперник.
Взор субъекта сосредоточен на образце, но этот образец – не треугольник, не геометрическая фигура, не отец и мать, не какие-то «домочадцы», это – желание, в котором подражатель не нуждается и даже неспособен его себе представить.
Фрейд не может решить проблему воспроизведения, потому что не обнаружил миметического желания. Субъект располагаем лишь собой Он располагает лишь одной из вершин треугольника; он не властен над двумя остальными. Если он действительно ищет свою мать в объекте, а своего отца – в сопернике, то каким таким чудом ему всегда удается поставить вместе их замены в одной и той же структуре желания и соперничества?
Чтобы увидеть грубую ошибку Фрейда, следует констатировать, что:
Достоевский в своих произведениях решил проблему воспроизведения треугольника, и он дает нам увидеть это решение. Отец Карамазовых оказывается для двух своих сыновей миметическим образцом, но причина этого именно в том, что в нем больше нет ничего отцовского.
Если подражатель вынужден истолковывать миметические взаимодействия как направленные против него в пользу соперника, то мы без труда поймем и то, что субъект, всегда вовлекающий самого желанного объекта и самого престижного образца в самое неумолимое противостояние, способен желать теперь только в контексте «патологической ревности», «мазохизма» и «латентного гомосексуализма» и что этот же самый субъект непрестанно воспроизводит ту структуру, которая составляет все эти симптомы в том случае, если она придет к своему краху.
Ж.-М.У.: В самом деле, мы понимаем, что если субъекту случайно удастся восторжествовать, то объект, попавший к нему в руки и больше не оцениваемый волнующим желанием победившего соперника, тотчас теряет всякую ценность и несчастный немедленно пускается в поиск по-настоящему божественного образца, то есть такого образца, который не позволит завладеть объектом с той же легкостью, как в прошлый раз.
Р. Ж.: На стадии, описываемой Достоевским, оба – и объект, и образец – необходимы, но они обладают ценностью лишь один для другого. В итоге субъект желанен не женщине и не сопернику, а некоторым образом им обоим в качестве нары. Только эта пара, кажется, и осуществляет ту автономию, о которой грезит субъект: своего рода счастливый нарциссизм на двоих, из которого субъект чувствует себя исключенным. Таким же образом в «Федре» Расина желание героини возбуждается, когда она узнает, что у ее возлюбленного тоже есть возлюбленный, и кажется, что оба юноши взаимно желают друг друга. Конечно, такова же тема «Новой Элоизы».
Тогда нам легко объяснить тот момент, что в многочисленных произведениях раннего Достоевского субъект усердно старается соединить любимую женщину со своим соперником; он надеется, что они, узнав друг друга, выделят местечко и ему в качестве третьего в своей райской близости.
Эта тема у Достоевского выявляет неразрешимость ситуации, создаваемых миметическим соперничеством. Субъект не хочет полностью восторжествовать над соперником; он также не хочет и того, чтобы соперник полностью восторжествовал над ним. Действительно, в первом случае объект достается ему, но утрачивает всякую ценность; во втором объект приобретает бесконечную ценность, но он никогда не досягаем.
При всей своей болезненности треугольные отношения менее болезненны, чем любая попытка их разрешить. Вот почему треугольник имеет тенденцию увековечивать либо воспроизводить себя, если он вдруг расстроился, посредством подражания теперь всегда уже соперническому желанию еще прежде, чем оно станет образцом. Всю ату последовательность нужно мыслить исходя из образца, по также исходя из подражания.
Соперничество нетерпимо, но отсутствие соперничества нетерпимо еще больше; оно помещает субъекта перед небытием; поэтому-то субъект проявляет упорство и все начинает снова и снова, часто при темном соучастии партнеров, преследующих аналогичные цели.
Ж.-М.У.: Вот где настоящая амбивалентность – амбивалентность реальных двойников...
Р. Ж.: И как раз потому, что Фрейд сам остается платоником, все психоаналитические «ереси» оказываются ересями платоническими. С появлением Юнга происходит полное исключение этого соперничества, в котором психоанализ так никогда и не дал себе отчета, и остается лишь, как у Плотина, своего рода мистическое созерцание архетипов. Напротив, появление Мелани Кляйн вызывает конфликт, но, как раз по сути, конфликта больше не существует, коль скоро все полностью кристаллизовано и архетилизировано в бредовую концепцию первых связей с матерью. С Делезом и Гваттари нет уже и эдиповского текста, есть лишь текст о психоаналитической теории, текст о фрейдовском Эдипе, который, как предполагается, способен умножать посредством всеобщей симуляции, предмет которой он составляет, треугольники соперничества.
Все проблемы платонизма вновь всплывают в психоанализе. Поскольку невозможно запереть динамические процессы в системе архетипов, Фрейд вынужден умножать сущности в духе структурализма, который умножает синхронические «срезы», будучи тоже не в силах понять самый ничтожный собственно диахронический механизм.
Фрейд не только сохраняет сущности своих предшественников, такие, как мазохизм, садизм и даже ревность, зависть и т.д., но он вынужден безостановочно расщеплять те сущности, которые сам только что изобрел, такие, как комплекс Эдипа, в тщетном усилии приспособить незыблемую вечность своего психоаналитического неба к подвижной реальности земли.
D. Двойной Эдипов генезис
Г. Л.: В этом отношении нет ничего более занимательного, чем различие между Эдипом нормальным и Эдипом анормальным. Мне кажется, именно тут мы увидим лучше всего, что фрейдистское наблюдение как раз привязано к миметическому процессу, при том что эдиповская теория никогда не может дать себе отчета об этом наблюдении.
Р. Ж.: Фрейд, как мы видели, называет амбивалентностью те противоположные чувства, которые неминуемо вызывает образец, становясь соперником. Он относит негативную сторону этой амбивалентности, враждебность, к соперничеству с отцом, а позитивную сторону, восхищение к тому, что он называет «нормальной привязанностью», испытываемой сыном к своему отцу.
Эта «нормальная привязанность» кажется Фрейду достаточной для амбивалентностей, именуемых «нормальными», или обычными. Но, говорит нам Фрейд, существуют также и «анормальные», или необычные, амбивалентности, которые продвигают противоположные чувства намного дальше, с равным успехом и ненависть, и преклонение, и Фрейд относит эти анормальные амбивалентности к тому варианту Эдипа, который он называет Эдипом анормальным.
Эта анормальная амбивалентность, говорит он, происходит из того, что ребенку в пору Эдипова комплекса недостаточно испытывать к отцу уже сложные чувства соперника и «доброго сына», снабженного «нормальной привязанностью к этому отцу, который только что его породил» (и так далее). К этим, именуемым нормальными, чувствам у ребенка в Эдипову пору добавляется пассивное гомосексуальное желание, желание быть желанным для своего отца в качестве гомосексуального объекта! Со всей очевидностью, в обостренном соперничестве Фрейда поражает растущее восхищение соперником. Как мы видели, это растущее восхищение может и должно проистекать из самого миметизма, но, так как Фрейд этого не улавливает, он вынужден предположить, что имеет дело с неким новым, и собственно гомосексуальным, фактором, с гомосексуализмом обособленным, которого ничто еще не предвещало в более «нормальных» и «обычных» формах амбивалентности. Как всегда, конечно, он склонен гипостазировать гомосексуальность, делать из нее своего рода сущность, идущую от тела; поскольку ему нужно замкнуть все это в его эдиповский архетип, а соперник (это всегда отец) вынужден воображать эту чудовищную небылицу, ее (эту сущность) нужно признать, особенно в контексте «нормальной привязанности» (и т.п.), которая ей непосредственно предшествует, чем-то, однако, еще более чудовищным, чем все остальные нагромождения Во всей этой истории нельзя забывать об отцеубийстве, инцесте и либидо, обращенном к матери, – все эти элементы кажется, остаются более или менее на своем почетном месте.
Г. Л: Следует помнить, что это гомосексуальное желание сына никогда не основывается ни на каких наблюдениях, касающихся самих детей. Что же нам упрекать в этом Фрейда, если он полагал, что все развертывается из «бессознательного»?
Р. Ж.: Бессознательное все стерпит, но это желание со стороны сына к отцу – нечто вопиющее даже для бессознательного! Мы бы охотно простили Фрейду это желание, если бы он поставил его в один ряд с желаниями отцеубийства и кровосмешения, ибо тогда оно вполне изящно включилось бы в мелодраматический контекст Эдипова генезиса, но я немею от удивления, когда он норовит подменить этим желанием простую привязанность сына к отцу, безусловно нормальную в маленькой буржуазной венской среде на рубеже XX века...
Г. Л.: Это – солома, в конце концов ломающая хребет верблюду, слишком послушно принимающему любую ношу.
Р. Ж.: Или пятая лапа Эдипова барана. Эго жертвенное животное нуждается в четырех лапах в случае «нормальной» амбивалентности, и ему нужно пять лап, чтобы оправдать дополнение к амбивалентности в случаях с такими «больными», как Достоевский.
Фрейд прибегает к двум объяснениям одного-единственного процесса. И он сам предчувствует этот единый характер, поскольку не хочет отказываться от своей генетической модели и как раз там, где она все более явственно становится фантастической.
Ж.-М.У.: Короче говоря, стоит пренебречь процессом миметического соперничества – и нам придется снова впасть в архетипическую оптику, а стоит стать ее пленниками – и нам придется вникать в нечто, подобное Эдипову комплексу. Тут нет миметического feedback, благодаря которому стало бы понятным усиление амбивалентности, поэтому тут и видят одну только банальную гомосексуальность, а поскольку эта гомосексуальность есть часть того целого, которое мы вынуждены объяснять семейный архетипом, нужно и ее тоже встроить в этот самый архетип. Значит, нужно с самого начала сосредоточить ее на отце, ведь именно с отцом неизбежно связывают это соперничество. Исходя из этих предпосылок, легко увидеть, как строгость и ограниченность наблюдений заставляют Фрейда объяснять вещи так, как он это делает.
Р. Ж.: В конструкции Фрейда нет ничего, что не оправдывалось бы желанием истолковать те феномены, которые нам самим удается объяснить лишь посредством миметического принципа. То есть Фрейд пытается объяснить не только «все большую привязанность к сопернику», но и «все большую враждебность к тому же сопернику» Коль скоро в Эдиповой схеме два аспекта амбивалентности не могут реагировать друг на друга и взаимно друг друга раздражать, Фрейду приходится усложнить свою анекдотичную историю и предположить, что пассивно-гомосексуальное желание усиливает сыновний ужас быть кастрированным собственным отцом. Тут налицо все следствия обостренного миметического соперничества, но Фрейд обязан выдумать еще более невероятные истории, чтобы замкнуть в них обоих своих Эдипов, что, впрочем, ему так и не удается; даже если бы он выдумал третьего и четвертого Эдинов, чтобы уловить новые нюансы, он бы никогда не смог уловить их все, ведь он не может помыслить этот процесс как таковой. Этому противится его платонизм, и оба Эдиповых генезиса находятся в системе миметического feedback, то, что сообщает гибкость и ловкость рук и кистей обезьяне или человеку, омару дает лишь неуклюжие клешни. Как бы мы ни умножали суставы, нам никогда не получить ничего, кроме ракообразных.
Фрейд не видит, что система неподвижных позиций лишает его возможности по-настоящему продумать то, что он именует амбивалентностью, и прежде всего – понять амбивалентность возрастающую. Чтобы отрицательный аспект (враждебность) мог не только сосуществовать, но и расти вместе с аспектом положительным (преклонением), нужно, чтобы этот антагонизм питался миметизмом и, наоборот, чтобы он этим миметизмом все больше раздражался. Никакой отпечаток, оставляемый прошлым, никакая Эдипова матрица никогда не смогут объяснить такой процесс.
Е. Почему бисексуальность?
Р. Ж.: Наблюдатель, который не улавливает динамизма соперничества, вынужден понять гомосексуальность как «вещь-в-себе», чья непрозрачность замутняет и его собственный взор. Его ученики никогда в этом не признаются: они будут или украдкой замалчивать все то, что отныне начнет их смущать в мышлении Фрейда, или же, впадая в фанатизм, отстаивать все неправдоподобное с тем большим упрямством, чем более оно неправдоподобно. Они превратят это в критерий истинной веры и разделения на правоверных и еретиков. На такой почве никакая дискуссия невозможна: фрейдовская мысль стала в той же мере «священной», в какой запрещено пытаться реконструировать ее ход.
Однако если исходить из миметического принципа, то ход этой мысли восстановить легко. Эта реконструкция показала бы нам более гибкого и менее решительного Фрейда, нежели гот, к которому мы приучены поклонением, воздаваемым Фрейду психоаналитиками. Если изучить тексты, в которых формулируются и переформулируются Эдиповы генезисы, мы заметим, что некоторые понятия могут корениться лишь в том чувстве неудовлетворенности, которое испытывал сам Фрейд, пересматривая свои собственные исследования и смущаясь (а не смутиться этим было бы просто невозможно) их чрезмерной неподвижностью и негибкостью.
Ж.-М.У.: В некоторых поправках и уточнениях мы улавливаем попытки Фрейда выстроить заново в наблюдаемом процессе последовательность, неизбежно разрываемую самим типом того понятийного аппарата, чьим пленником он оставался.
Р. Ж.: То, что Фрейд называет основополагающей бисексуальностью человеческого существа, возникает, как правило, в тексте после ссылок на гомосексуальность и как бы с целью исправить ее слишком категоричное и внезапное появление, смягчить слишком резкое разделение между гетеросексуальностью и гомосексуальностью.
В конечном счете понятие бисексуальности существует лишь для того, чтобы ослабить чрезмерную абсолютность разрыва между гетеросексуальностью и гомосексуальностью. И если Фрейд хочет уменьшить этот разрыв, то не потому, что его озарила некая гениальная интуиция по поводу основополагающей бисексуальности жизни в целом, а потому, что он слишком хороший наблюдатель, чтобы не почувствовать единства этого процесса соперничества и не пожалеть втайне о непригодности Эдиповой схемы, даже раздвоенной на Эдипа нормального и Эдипа анормального с целью воздать должное этой последовательности.
Итак, он видит, что внезапное введение гомосексуальности, даже латентной, в непрерывный процесс не удовлетворяет его ум, так как он не хочет или не может вернуться к фундаментальным основаниям своей мысли, то есть ни к самой Эдиповой схеме, ни к пансексуализму, он пытается немного затуманить эго различие, слишком четкое на уровне инстинктов, прибегнув к бисексуальной схеме (Anlage). Он придумывает инстинкт одновременно гетеро– и гомосексуальный, чтобы исправить чересчур абсолютное разделение на двух Эдипов. В отличие от Леви-Стросса, для которого всякое мышление состоит в «переходе от непрерывного количества к дискретному количеству», и в отличие от Бергсона, для которого все наоборот, Фрейд пытается примирить два этих типа мышления, поскольку они нужны ему оба; ему нужны и синхроническая стабильность, и диахронический динамизм; он хотел бы одновременно и структуры, и становления структурой.
У него это не получается; это не может получиться ни у кого без понимания мимесиса и его движущей силы – механизма жертвы отпущения. Говорить о бисексуальности – значит растворять в обезразличенном то, что, напротив, следует подчеркнуть и выделить – обезразличивающие следствия соперничества, значит снова увиливать от миметического соперничества.
Вот почему апелляция к бисексуальности так же вошла в обычай у апологетов психоанализа, как и апелляция к латентной гомосексуальности, которую она всегда претендует «превосходить». Она всегда идет позади этой первой апелляции, так же как Тиресий появляется после Эдипа, чтобы исправить ее и объяснить ей ее роль в психоанализе. Зрелище всякого сексуального соперничества в нашем мире сопровождается всегда одними и теми же комментариями, следующими друг за другом в неизменном порядке. Сначала Бувар, глубокий наблюдатель, диагностирует латентную гомосексуальность, и тут же Пекюше, еще более глубокий, который возводит ее к фундаментальной бисексуальности.
Комическая сила Клэр Бретеше (Brétécher) в комиксе под названием «Разочарованные» (Frustrés) состоит в том, что она привлекает наше внимание к безошибочному характеру последовательности такого типа. Разочарование, фрустрация – это сама психоаналитическая мысль, которая всегда заставляет нас описывать одни и те же круги, замыкая нас в абсолютной идентичности и даже не обладая при этом объединительными и успокоительными ритуалами древних обществ.
Не надо думать, что наибольшие возможности психоанализа когда-либо сильно отличались от того, что мы как раз описываем. Меняется не содержание, а порождающий его ход мысли. У Фрейда – подвижное и живое мышление, которое никогда не прекращало искать во многих направлениях, тогда как сегодня обработка психоаналитических тем дошла до стадии карикатурной банальности и очевидного провала.
Г. Л.: Быть может, следовало бы уточнить, что критика фрейдистской «бисексуальности» не подразумевает никакой тыловой битвы за сексуальное различие. Читатель поймет, я думаю, в каком духе производится эта критика.
Р. Ж.. Я тоже на это надеюсь. Одни и те же люди наслаждаются то бисексуальностью, то сексуальным различием.
Ж.-М.У.: Итак, относительно Фрейда ваша позиция неоднозначна. Вы видите в нем первоклассного наблюдателя, но никогда не обнаруживаете в его трудах тех концептуальных результатов, которые заслуживали бы внимания, вы занялись подлинной «деконструкцией» Эдипова комплекса посредством миметического принципа, чего никогда прежде вы не делали. Следовательно, реальный интерес эдиповских тезисов заключается в том, что практикуемый вами тип анализа позволяет вам одновременно отвергать их в той форме, в какой психоанализ намерен их сохранять, и находить им относительное оправдание в определенных аспектах миметического процесса, который они отражают и даже частью которого являются, хотя и несовершенным образом и будучи искажены фундаментальными предрассудками, владеющими мыслью Фрейда. Безусловно, вы не первый, кто критикует пансексуализм Фрейда и его теорию инстинктов, но вы это делаете под углом зрения, весьма отличающимся от угла зрения мыслителей, называемых «экзистенциалистами», таких, как Сартр и Мерло-Понти.
Р. Жл В так называемой экзистенциалистской критике есть много интересных интуиций, которым не позволялось быть признанными в структуралистское десятилетие, возможно потому, что эти интуиции парадоксальным образом определили слишком многое в только что пережитых нами тиранических режимах. Теперь все это почти разложено по полочкам, но скоро наверняка появятся люди, которые взглянут на вещи с большей справедливостью и напишут интеллектуальную историю этого периода, не сводя ее начало к «открытию заново Фердинанда де Соссюра» и к первому году структуралистской революции.
F. Нарциссизм: желание Фрейда
Ж.-М.У.: У Фрейда есть еще одно понятие, связь которого с миметическим процессом нужно изучить, – это «нарциссизм». Должно быть очевидно, раз уж это не ускользнуло от самого Фрейда, что некоторые аспекты желания ускользают от эдиповской проблематики. Таковы, конечно, все фрейдовские понятия, которые следовало бы истолковывать в свете миметического принципа.
На это у нас нет времени. И все-таки мы не можем уклониться от понятия «нарциссизм», ибо Фрейд, несомненно, приписывает ему определенные эффекты, которые вы связываете с миметизмом.
Нарциссизм, пишет Фрейд, имеет место, когда субъект принимает себя самого за объект. А субъект до известной степени всегда принимает себя за объект. Это значит, что первичный и фундаментальный нарциссизм присущ всем индивидам.
Вот почему во фразе, нами уже процитированной, Фрейд утверждает, что у человека есть два первоначальных сексуальных объекта: он сам и га женщина, которая заботилась о нем в его детстве.
Следовательно, в желании два полюса: материнский объект и этот другой объект, которым я являюсь для самого себя.
Р. Ж.: Фрейдистский психоанализ радикально отличает от нашей «интердивидуальной психологии» то, что эти два полюса у Фрейда, хотя они всегда присутствуют вместе, сохраняют относительную автономию и один из них должен доминировать над другим. В миметическом процессе субъект именно по собственному почину и во благо всего того, что он хотел бы назвать своим Я, строго подчиняет себя образцу-препятствию и все больше делается рабом другого. Это значит, что если с миметической точки зрения есть два полюса, то они не могут быть, как у Фрейда, в отношении обратной пропорции. В миметическом процессе, по сути дела, нарциссизм и подчинение другому обостряют друг друга одновременно. Чем больше становишься нарциссичным, или эгоистом, тем больше становишься патологически объектным, или альтруистом. Я здесь всего лишь по-другому определяю основополагающий миметический парадокс нашей антропологии и нашей психологии.
Нарциссизм у Фрейда несовместим с выбором объекта, но чем больше нарциссизма, тем слабее выбор объекта. С другой стороны, он склонен ориентировать этот выбор на индивида, который «похож» на субъекта. Короче говоря, очень нарциссический индивид в действительности сосредоточен на себе самом. Преимущественный пример такого напряженного нарциссизма, по Фрейду, и ослабленного выбора объекта – женщина или, вернее, определенный тип женщины, рассматриваемый Фрейдом как самое чистое воплощение женского вообще – «самый частый, по-видимому, самый чистый и самый подлинный тип женщины» (bei dem häufigsten, wahrscheinlich reinsten und echtesten Typus des Weibes)[171]171
Gesammelte Werke X. S. 154.
[Закрыть].
Фрейд различает тем самым два типа желания: объектное желание, преимущественно мужское, сопровождается завышенной оценкой сексуального объекта и предполагает «истощение либидо» у субъекта (le Moi): eine Verarmung des Ichs an Libido·, нарциссическое желание, преимущественно женское, побочно допускает объекты, но не переоценивает их, ибо в реальности либидо изливается не на другого, а на Я , которое тем самым восстанавливает свою либидинозную энергию и не подвергается никакому «истощению».
Фрейд добавляет, и это очень важно, что такой тип нарциссизма обнаруживается чаще всего у хорошеньких женщин. Во время полового созревания, утверждает он, вместо частичного отказа от детского нарциссизма, что характерно для мужского типа, в тот момент, когда у женских половых органов прекращается латентный период, происходит обострение.
Фрейд многократно повторяет, что эти женщины красивы, но добавляет, что они вызывают у мужчин особенное очарование не только по эстетическим причинам, но и, пишет он, вследствие «интересных психологических констелляций» (infolge interessanter psychologischer Konstellationen). Дальнейший текст настолько необычен, что я прочту вам его полностью, сопроводив своим переводом:
Es erscheint nämlich deutlich erkennbar, dass der Narzissmus einer Person eine große Anziehung auf diejenigen anderen entfaltet, welche sich des vollen Ausmaßes ihres eigenen Narzissmus begeben haben und sich in der Werbung um die Objektliebe befinden; der Reiz des Kindes beruht zum guten Teil auf dessen Narzissmus, seiner Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit, ebenso der Reiz gewisser Tiere, die sich um uns nicht zu kümmern scheinen, wie der Katzen und großen Raubtiere, ja selbst der große Verbrecher und der Humorist zwingen in der poetischen Darstellung unser Interesse durch die narzisstische Konsequenz, mit welcher sie alles ihr Ich Verkleinernde von ihm fernzuhalten wissen. Es ist so, als beneideten wir sie um die Erhaltung eines seligen psychischen Zustandes, einer unangreifbaren Libidoposition, die wir selbst seither aufgegeben haben. Dem großen Reiz des narzisstischen Weibes fehlt aber die Kehrseite nicht; ein guter Teil der Unbefriedigung des verliebten Mannes, der Zweifel an der Liebe des Weibes, der Klagen über die Rätsel im Wesen desselben hat in dieser Inkongruenz der Objektwahltypen seine Wurzel[172]172
Gesammelte Werke X, S. 155-156.
[Закрыть].
(Легко заметить, что нарциссизм другого очень привлекателен для тех, кто частично отказался от собственного нарциссизма и пребывает в поиске объектной любви. Очарование ребенка сводится по большей части к его нарциссизму, к его самодостаточности, к его недоступности; таково и очарование некоторых животных, которым, кажется, нет никакого дела до нас, – кошек и крупных хищников. Также и в литературе опасный преступник и юморист вызывают наш интерес посредством разбухания нарциссизма, которому удается устранять все, что могло бы умалить их Я. Все происходит так, как будто блаженное психологическое состояние и неприступная позиция их либидо, которые они сохранили и от которых мы сами отказались, вызывают в нас зависть. [Сильное очарование нарциссической женщины не лишено и обратной стороны; значительная часть неудовлетворенности влюбленного мужчины, его сомнений в любви данной женщины, его сетований на ее загадочность уходит корнями в что несоответствие типа выбора объекта.][173]173
В квадратных скобках мы дали перевод конца фрейдовского фрагмента, отсутствующего в переводе Р. Жирара.
[Закрыть])