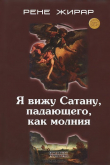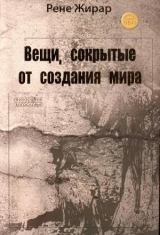
Текст книги "Вещи, сокрытые от создания мира"
Автор книги: Рене Жирар
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Следовательно, мы должны фундаментально и структурно разграничить, с одной стороны, психоз, а с другой – гипноз и одержимость другим.
Это подводит меня к первому замечанию: на психологическом плане следует утверждать, что миметический и миметогонический процессы ведут к изменениям состояния сознания. Пока что я хотел бы подчеркнуть, что, когда кризис, разрешаемый через жертвоприношение, доходит до своего предела, состояние сознания его участников, должно быть, «деструктурируется», расстраивается. Убивать жертву – «козла отпущения» – и быть при этом в ясном сознании мне представляется немыслимым. Это, впрочем, подтверждается ритуалами, которые пытаются воспроизвести изменения состояния сознания, чтобы вылиться в единодушное насилие. Больше того, эта мысль укрепляет наш тезис, поскольку убийство жертвы приносит мир и покой, распутывает отношения двойников, восстанавливает сознание и ясность и основывает -или переосновывает культуру. Жертва своей смертью учреждает различие, выводит убивших ее людей из психотической структуры и тем самым реструктурирует их сознание.
Р. Ж.: Но все наблюдатели отмечают значительные изменения сознания в культах одержимости...
Ж.-М.У.: Безусловно. Тем не менее нужно подчеркнуть: что, с одной стороны, одержимые не всегда психотики, а с другой – феномены одержимости всегда были связаны с гипнотическим трансом, а это не может не иметь значения.
Поэтому я думаю, что следует решительно помещать состояния ритуальной одержимости во «время» после жертвоприношений, в структуру различий. Тем не менее эти состояния одержимости сопровождаются изменениями состояния сознания, из чего ясно, что они порождаются миметическими механизмами: с одной стороны, субъекта подготавливают к одержимости посредством плясок и громких ритмов, монотонных и бесконечно повторяемых. Это, конечно, наводит на мысль о вводе в гипнотический транс. Но что меня поражает, так это повторение одного и того же в музыке и в жестах с целью изменить состояние сознания. С другой стороны, для ритуальной одержимости характерно, что одержимый начинает в совершенстве подражать своему образцу, будь то образец божественный или архетипический, культурный, будь то в иных случаях образец живой, которого находят, например, для африканского пехотинца-аборигена среди французских командиров.
Итак, на этой стадии можно утверждать, что обострение мимесиса присвоения и конфликтной миметогонии, с одной стороны, а с другой – усиление миролюбивого мимесиса, который касается «появления» образца, никогда не встречающего препятствий, и который не порождает никакой миметогонии, – и то и другое может изменять состояние сознания. Нам, психиатрам и психологам, это кажется главным моментом: миметические механизмы, которые вы описываете, поддаются экспериментальной проверке, наблюдению и способны изменять структуру психического или психосоматического аппарата (если такое понятие уместно).
Р. Ж.: Вы говорите о ритуальной одержимости. Но бывают одержимости совсем иного порядка, например те, которыми занимаются экзорцисты.
Ж.-М.У.: Конечно. И один из наиболее показательных случаев подобной одержимости – это «луденские бесы», о которых замечательно рассказал Олдос Хаксли[154]154
The Devils of Loudun.
[Закрыть]. Что касается меня, то я думаю, что ритуальная, или культовая, одержимость и одержимость, именуемая «демонической», суть два разных явления. Не имея возможности сегодня углубляться в эти проблемы, я хотел бы лишь подчеркнуть, (1) что в культах одержимости мы часто видим выступления мужчин или женщин, которые могли бы казаться одержимыми. Жрецы культа сразу же определяют таких людей и рассматривают их как истериков. Об этом я узнал от моего друга, доктора Шарля Пиду, который много лет наблюдал этого рода случаи одержимости непосредственно и знает об этих вещах как никто другой[155]155
Среди многочисленных публикаций Шарля Пиду особого внимания заслуживает работа «Les États de possession rituelle chez les mélano-africains», l’Évolution psychiatrique, 1955, 11, pp. 271-283
[Закрыть] (2) что в случаях «демонической» одержимости и особенно в случае с одержимыми из Лудена мы всегда говорили, и, вероятно, это правильно, хотя я и опасаюсь этого слова, о диагностике истерии. Р. Ж.: В каком смысле вы употребляете слово «истерия»?
Ж.-М.У.: Термином «истерия» много злоупотребляли Им столь часто пользовались, что он может не означать ничего и означать все. Мы охотно говорим о «коллективной истерии» применительно к феноменам ритуальной одержимости, но я думаю, что таким способом мы ничего в ней не поймем.
В случаях одержимости «патологической», именуемой в нашей культуре одержимостью «бесами», «демонами», по-моему, мы имеем дело с истерическими феноменами. Истерия здесь находится посередине между психозом и ритуальной одержимостью: с ритуальной одержимостью ее роднит тот факт, что она никогда не теряет из виду различия между одержимым субъектом и существом, которым тот одержим. Истерички Лудена действительно никогда не теряли из виду различия между собой и Урбеном Грандье.
Напротив, ту истерию, о которой мы тут говорим, роднит с психозом враждебное восприятие миметического образца. Он и в самом деле воспринимается как враг, как что-то нехорошее, как потенциальный насильник и т.д.
Я считаю, что здесь можно видеть, как преувеличение в агрессивном и враждебном смысле может вести к формам психоза, когда, например, экзорцисту не удается изгнать беса, или к формам превращения Другого в жертву, как в случае с Урбеном Грандье. Вероятно, здесь мы можем понять и то, как истерическая структура, когда она по культурным причинам, например, не может привести ни к той, ни к другой крайности, пытается разрешить кризис изгнанием или превращением в жертву отпущения одного из органов или членов (феномен конверсии, истерического превращения).
Наконец, легко понять, почему все авторы, занимающиеся явлением истерии, настаивают на катарсисе как на главном терапевтическом средстве при истерических неврозах.
Р. Ж.: Истерия очень долго связывалась с гипнозом. Вы и сами много изучали эту проблему. Как вам видятся отношения между гипнозом и тем, о чем мы только что говорили?
Ж.-М.У.: Тесные и вместе с тем несколько таинственные связи между гипнозом, истерией и одержимостью не ускользнули ни от одного из тех авторов, которые испокон века занимаются этими феноменами[156]156
Можно извлечь пользу из замечательного труда ГенрП Ф. Элленбергера: Henri F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious. New York : Basic Books, 1970; а также из интересной работы Доминика Баррюкана: Dominique Barrucand, Histoire de Vhурnose en France, PILE, 1967.
[Закрыть].
Однако мне кажется, что до настоящего времени акцент всегда делался либо на изменениях состояния сознания и связях между сном и парагипногическими состояниями, либо на критических и сенсационных феноменах, встречающихся в каждом из этих состояний.
Мне кажется возможным с помощью того нового подхода, который вы внесли в психологию, осознать наконец, что все нейрофизиологические феномены вторичны по отношению к интердивидуальным психологическим и обостренным миметическим процессам.
Гипноз кажется мне карикатурой на интердивидуальные психологические механизмы. Как всякая карикатура, он может нам раскрыть некоторые существенные черты образца.
В самом деле, при введении в гипноз тот, кого вы называете посредником, или образцом, находится прямо здесь, перед лицом субъекта. И он ему без обиняков указывает, чего он от него хочет, какого действия он от него ожидает: он предъявляет ему свое желание прямо, твердо и недвусмысленно. Это категоричное предъявление образцом своего желания есть то, что Бернхейм называет суггестией.
Так что если су&ъект сообразуется с этим желанием, он попросту вступает в миролюбивый мимесис, в мимесис без всякого соперничества, потому что образец приглашает его копировать свое собственное желание; это желание не касается никакого объекта, принадлежащего образцу Чаще всего оно касается банального и естественного поведения – сна. И Бернхейм обнаружил, что, когда суггестия направлена на сон, субъект засыпает!
Итак, в первом приближении гипноз, я полагаю, можно определить как осадок миметического желания. Слово «осадок» я беру здесь в смысле химического термина, и понятно, что интердивидуальный процесс «осаждается» в физиологическом смысле. По-моему, нужно показать, что гипноз – это конкретно-опытный случай «оседания» миметического желания и что этот феномен ведет к физиологическим изменениям (ЭЭГ) также, как и к психологическим (состояние сознания), и его появление экспериментально демонстрирует в известной степени реальность миметических процессов.
Только что сказанное мной о гипнозе позволяет, как мне кажется, прежде чем идти дальше, выявить существенное различие между вашей точкой зрения и точкой зрения Гегеля, для Гегеля в действительности речь идет о желании желания Другого, о желании признания Тут нетрудно увидеть, что это гегелевское желание не есть особый случай (я бы сказал «осложнение» в медицинском смысле слова) интердивидуального миметического желания, которое вы определяете как желание по желанию Другого. Очевидно, что гипноз – это экспериментальная проверка вашей точки зрения.
Впрочем, «осложнение», подмеченное Гегелем, не так уж и далеко отсюда. Пьер Жане назвал главу XXI своего труда «Неврозы и неподвижные идеи»[157]157
Pierre Janet. Névroses et Idées fixes, pp. 427-429.
[Закрыть] так: Сомнамбулическое влияние и потребность в управлении. Потребность в управлении – это желание по желанию Другого, это возможность и даже необходимость для субъекта войти в состояние гипноза. Напротив, сомнамбулическая увлеченность – это игра соперничества, постепенно проникающая в интердивидуальную связь между гипнотизером и гипнотизируемым. В действительности Жане обнаружил, что, чем дальше мы от гипнотического транса, тем больше ситуация стремится к перемене. Мимесис соперничества опять же подтачивает все структуры; начинается игра между моделью-образцом и препятствием; желание субъекта отрывается от желания, выражаемого образцом, от позволенного желания, от того, что я, пожалуй, назвал бы волей образца, с тем чтобы устремиться к самому образцу, к его «имению», а вскоре, когда имение уже онтологизировано, и к его «бытию». «Рессантимент» возникает в то же самое время, что и «сомнамбулическая увлеченность» Жане, а некоторые авторы говорят, что в этом случае субъект «одержим» своим гипнотизером!
Р. Ж.: Гипнотические феномены были в центре всех ученых препирательств в конце XIX и в начале XX веков.
Ж.-М.У.: Безусловно, И сегодня ваша теория, как мне кажется, способна примирить Шарко, Бернхейма, Жане и Фрейда.
Шарко говорил о гипнозе, что это феномен патологический, свойственный истерикам, а значит, выходящий из ряда вон. Бернхейм считал, что речь идет, напротив, о нормальном и общем процессе, что, мол, никакою гипноза нет, а есть лишь суггестия, феномен внушения. Наконец, Фрейд рассматривал гипноз как феномен патологический, невротический и общий: так он объединил в своем собственном методе методы обоих своих учителей[158]158
Об этом читайте великолепную работу Клода М. Прево: Claude М. Prévost, Janet, Freud et la Psychologie clinique, Payot, 1973.
[Закрыть].
В самом деле, каждый из них, мне кажется, видел миметическое желание в действии, но каждый воспринимал его в разные моменты его развития.
Р. Ж.: Теперь я лучше понимаю то, что вы подразумеваете под «осадком». Действительно, все феномены миметического желания присутствуют здесь в карикатурной форме. Это сразу может показать, почему гипноз никогда ничего по-настоящему не исцеляет и почему приходится прибегать к нему вновь и вновь.
Ж.-М.У.: Конечно. Не будучи таким пессимистом, как вы, в отношении результатов гипноза, можно, однако, наблюдать, что, как мастерски доказал Анри Фор гипноз бесконечно более действенен в терапевтическом плане у ребенка, чем у взрослого. Способность ребенка к хорошему мимесису, к мимесису мирному при образце, который не был бы препятствием, может, мне кажется, объяснить этот феномен. Все то, что вы скоро скажете о skandalon, пойдет, полагаю, в том же направлении[159]159
Первые работы Анри Фора на ату тему подытожены в его книге Henri Faure, Cure de sommeil collective et psychothérapie de groupe, Masson, 1958. С тех пор проведено много исследований под его руководством в отделении детской и подростковой психиатрии в Бониевале, результаты которых еще не обнародованы.
[Закрыть].
Взрослый, я повторяю, неустойчивый субъект, чье желание колеблется, который уже не знает, какой образец ему принять, может извлечь пользу из связи с привилегированным посредником, гипнотизером, который каким-то способом, посредством какой-то хитрой техники заставляет его признать себя в качестве образца. Это может вести как к хорошим результатам, так и к дурным «перевоплощениям».
Р. Ж.: Эта гипнотическая техника, о которой вы говорите, чаще всего состоит в том, чтобы привлечь внимание субъекта к какому-то яркому объекту и заставить его на нем сконцентрироваться.
Ж.-М.У.: Безусловно. Это кажется мне особенно поучительным. В самом деле, все авторы, и особенно Пьер Жане, прекрасно видели, что гипноз сопровождается «сужением поля сознания» и что суггестия может подействовать лишь на внимательного субъекта.
Мы обнаруживаем здесь, как из-под пера многих авторов выходят такие термины, как «гипнотическое очарование» (fascination) или «захват контроля». Это, видимо, ассоциируется с тем влиянием, которое образец оказывает на субъекта. Все гипнотические техники всего лишь пытаются воспроизвести с наивозможной точностью условия фиксации субъекта на образце, условия, которые позволят желанию субъекта сообразовать себя с желанием Другого.
Вот почему гипноз можно практиковать с тем же успехом и на сцене, наглядно и экспериментально демонстрируя миметическую игру той публике, которой театр Шекспира, например, предлагает посмотреть на мимесис в действии через призму более разработанных ситуаций.
Впрочем, в гипнозе можно вновь обнаружить все парадоксы священного: если он может смешить в театре, как всякая карикатура, то равным образом он может быть и весьма опасным, когда им орудуют злодеи, а может быть полезным и целительным, если применяется в медицине.
Р. Ж.: То, что вы сказали о театре и, в частности, о Шекспире, меня чрезвычайно интересует, можете не сомневаться.
Ж.-М.У.: В самом деле, вы без особого труда покажете, я думаю, в случае с театром Шекспира, как и во всех остальных случаях, как функционирует мимесис и какие антраша выписывает миметическое желание.
Существует, в частности, феномен, очень часто фигурирующий в театре и довольно близкий к гипнозу: это любовная страсть. В самом деле, по мере ее развития поле сознания сужается и концентрирует на объекте желания все внимание субъекта. Театр начинается именно тут, в миг появления объекта. Гипнотическое очарование сосредоточено уже не на образце, а на объекте желания. Тут уже возникает треугольник, уже могут представить себя соперники, и рождается театр как преображенное и символическое выражение миметического желания, за пределами тех спонтанных и карикатурных выражений, которые мы видим в одержимости и в гипнозе.
Следует подчеркнуть это сходство. Мне кажется, впрочем, что в некоторых культурах появляются формы-посредники между театром и одержимостью, только подчеркивающие преемственность этих феноменов: юноша влюбляется в девушку, и уже говорят, что он ею одержим...[160]160
I. М. Lewis, Ecstatic Religion, рр. 73-75. Michel Leiris. la Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar. Следует также прочесть главу VIII (Psychologie collective et analyse du moi) о связях между любовной страстью и гипнозом: «Verliebtheit und Hypnose», Gesammelte Werke ХIII, S. 122-128. Первые тексты Фрейда о гипнозе собраны в первом томе Standard Edition.
[Закрыть]
В любовной страсти – на этом нужно настаивать – поле сознания сужается до одного объекта и других уже не видит...
Ж.-М.У Если гипноз, как мы говорили выше, есть карикатура, одновременно самое простое и самое сильное выражение миметического желания, если, стало быть, гипнотическое отношение содержит в потенции все возможности интердивидуальных отношений, если речь здесь идет об исключительном «сгустке» всех возможностей мимесиса, то ясно, что гипноз станет источником почти всех психологических и психопатологических интуиций и что каждый исследователь этого феномена, обнаруживая в нем определенные стороны, будет их эксплуатировать за счет других сторон.
Именно так Фрейд открывает, что под гипнозом можно выявлять бессознательные процессы. Он посвящает себя изучению этих последних и разрабатывает психоанализ. Однако в самом существе его теории лежит перенос, который, как всем известно, есть то же самое, что и флюид магнетизеров – от Месмера и Пюисегюра до самых современных шарлатанов. Этот «флюид» и этот «перенос», в свою очередь, то же самое, что мимесис и миметическое желание.
Шульц нам говорит, что индивид в состоянии гипноза испытывает различные физиологические изменения: он ощущает тяжесть, тепло и т.и., попадая в условия аутотренинга. Бернхейм говорит, что, так как индивид в состоянии гипноза более восприимчив к суггестии, можно облегчить, а то и устранить тревожащие его симптомы. Шарко говорит, что индивид в состоянии гипноза переживает вновь прошлые травмы и что налицо, следовательно, усиление функции памяти. Но Жане говорит нам, что с помощью гипноза можно запрограммировать индивида так же, как компьютер, то есть дать ему иод гипнозом какую-нибудь команду, которую он должен будет выполнить чуть позже, так что он не будет помнить об этой команде, пока она не проявится вновь на уровне сознания.
Гипноз, таким образом, вводит проблематику времени, поскольку гипнотизируемый выходит из времени, доказательство этому – отсутствие памяти о времени гипноза и частичная амнезия: Жане определял сомнамбулизм как поведение в беспамятстве. Конечно, из всего этого, на мой взгляд, следует, что как для Жане, так и для Фрейда понятие бессознательного возникает из гипноза и, стало быть, из миметических и интердивидуальных отношений.
Поэтому я думаю, что, отправляясь от гипноза, мы имеем два направления исследований: с одной стороны – направление «шаманское», психосоматическое, хирургическое и медицинское, и, следовательно, применение ваших теорий к механизму исцеления; с другой стороны – применение интердивидуальной психологии к самому гипнозу, к суггестии, к одержимости, а также к проблеме времени и амнезии, то есть ко всем процессам, относящимся к памяти. В самом деле, память, эта гигантская машина для повторения во времени, должна была бы предложить мимесису весь диапазон иллюстраций.
Мы зут рисуем слишком широкую, но явно поспешную и схематичную картину, которую нужно было бы развить и проиллюстрировать текстами и клиническими примерами.
Р. Ж.: Однако интересен и богат следствиями тот факт, что вы отводите гипнозу центральное место среди психологических и психопатологических процессов.
Ж.-М.У.: Явления гипноза и одержимости, по-моему, наглядно иллюстрируют гипотезу о мимесисе и о священном, а особенно те парадоксы, которые вы постоянно выявляете, – парадоксы насилия, священного, мимесиса, желания. Этот аспект парадоксальности, благодаря которому одно и то же психологическое и психопатологическое движение может иметь обратные и диаметрально противоположные следствия, не ускользнул от присущей мифам мудрости: тут вы снова привлекли мое внимание к тому, что Эзоп говорил о языке.
Проблема ежеминутного выбора между двумя противоположными возможностями порождает на интердивидуальном уровне все психологические и психопатологические проблемы. На уровне философском этот выбор оказывается лишь тем же самым, что и проблема свободы, но это уже другая история...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Мимесис и сексуальность
А. То, что называют «мазохизмом»
Г. Л.: Тем, как вы определяете метафизическое желание, желание в собственном смысле слова, уже предполагается некое измерение, которое психиатрия всегда рассматривала как патологию, симптомы которой изучала. Вы показываете, например, что никогда не бывает прямого стремления к неудаче; субъект по опыту знает, что позади препятствий, которые позволяют слишком легко себя преодолеть, его ожидает обман. Следовательно, он ищет непреодолимого препятствия, непобедимого соперника, недостижимый объект. Желание как никогда стремится к успеху. Но легких успехов нечего и достигать; так, Ницше интересуют лишь заведомо гиблые и бесперспективные дела.
Р. Ж.: Для наблюдателя, который не видит контекста, это стремление неизбежно совпадает с тем, что называют поведением при неудаче. Такой ярлык, как мазохизм, подразумевает прямое нацеливание на то, что с самого начала является лишь следствием желания, возможно фатальным, но таким, к какому ни за что не станешь стремиться. Значит, нужно отказаться от этого ярлыка.
Нужно отказаться от ярлыка «мазохизм», лишь затемняющего предельную прозрачность данного феномена. Говорить о мазохизме, как я сам это когда-то делал, – значит не видеть, что задолго до появления психиатров желание спрашивает себя о себе самом и предлагает ответы. Единственная гипотеза, которую оно, к несчастью, отвергает, да еще и с упорством, достойным лучшего дела, – это гипотеза миметическая, самая простая и единственно достоверная. Если перед нами поминутно возникают соперники и препятствия, то это потому, что мы подражаем желанию других. Поскольку оно отказывается от этой банальной и неинтересной истины, которая на каждом этапе вынуждала бы его признать свою собственную абсурдность и выйти из игры, а если уж оно в нее ввязалось, то должно пускаться в интерпретации, никогда не противоречащие логике, но все более тонкие и изысканные.
Желание не понимает, почему образец превращается в препятствие, но оно хорошо видит, что это превращение всегда имеет место. Нужно ведь учитывать столь постоянный феномен. Вместо того чтобы учитывать только то, что учитывать было бы разумно, желание безрассудно бросается в единственную оставшуюся для него лазейку. Исходя из ложного резона, но руководствуясь безупречной логикой, оно, как мы сказали выше, делает ставку на самую малую вероятность. Вместо того чтобы распространить результаты своих былых неудач на все мыслимые и вообразимые желания, оно решает ограничить их диапазон только уже имеющимся у него опытом, то есть наиболее доступными объектами, наименее неуступчивыми противниками, всем тем, что может сделать жизнь легкой и приятной, всем тем, что позволяет еще «функционировать», как точно выражаются в наше время. Оно, следовательно, решает, что лишь те объекты достойны быть желанными, которые не дают собой завладеть; лишь те соперники заслуживают того, чтобы вести нас в выборе наших желаний, которые объявляют себя непобедимыми, непримиримыми врагами.
Превратив образцы в препятствия, миметическое желание в итоге превращает препятствия в образцы. Поскольку оно наблюдает за собой, оно замечает это превращение и, не желая извлекать из того, чему оно только что научилось, той единственной пользы, которая ему навязывается, оно извлекает из него единственную другую возможную пользу: то, что сначала было хотя и неизбежным, но неожиданным результатом былых желаний, оно превращает в предварительное условие всякого будущего желания.
Отныне желание то и дело бросается со всех ног на самые острые, ранящие подводные камни, на самые неприступные редуты. Как наблюдателям не верить в то, что они называют словом мазохизм? И все же, веря в это, они ошибаются. Желание стремится к неслыханным удовольствиям и к блистательным триумфам. Вот почему оно не надеется найти их в обычном опыте и в отношениях, которые позволяют овладеть объектом. Только в унижениях, которым его подвергают, и в презрении, которым его могут покрыть, оно мало-помалу прочитает знаки абсолютного превосходства образца, мету счастливой самодостаточности, неизбежно непроницаемой для его собственной недостаточности.
Ж.-М.У.: Если я верно вас понимаю, то по мере того, как субъект погрязает в неудаче и обесценивается в собственных глазах, окружающий его мир делается загадочным. Желание хорошо понимает, что не может доверяться внешней видимости. Оно живет всегда больше в мире знаков и указаний. Неудача не относится к нему самому, а означает совсем другое: успех Другого, разумеется, и только этот Другой меня и занимает, коль скоро я могу взять его за образец; я могу поступить к нему в обучение и в конце концов вырвать у него секрет этого успеха, всегда от меня ускользающий. Но нужно, чтобы Другой обладал этим секретом, коль скоро он так умело заставляет меня терпеть неудачу, сводить меня к ничтожеству, показывать мне мою тщетность при соприкосновении с его нерушимым бытием.
Когда путник, изнемогая от жажды, медленно пересекает пустыню, внезапное появление животных, даже неприятных и опасных, вызывает в его сердце радость. Он видит в них знак того, что вода недалеко; быть может, вскоре ему удастся утолить жажду.
Было бы нелепостью заключить отсюда, будто несчастному понравились бы укусы змей и насекомых, будто его «болезненный мазохизм» извлек бы из этого наслаждения, непостижимые для нормальных существ, то есть для таких, как мы...
Однако именно так и поступает тот, кто верит в мазохизм и кто наклеивает этот затемняющий ярлык на поведение, легко объяснимое в свете миметической гипотезы.
В. Театральный «садомазохизм»
Г. Л.. Все, что вы только сказали о псевдомазохистской структуре миметического желания, кажется, опровергается существованием мазохизма в большей степени показного и даже театрального, исходя из которого, конечно же, и возводят здание теории мазохизма. Тут мне представляется мазохистская мизансцена в духе Захер-Мазоха. Мазохисты такого рода требуют от своих сексуальных партнеров, чтобы те подвергали их всевозможному жестокому обращению или унижению, используя бичи, плети и т.п., с целью доставить сексуальное наслаждение.
Р. Ж.: Тут как раз и проявляется противоречие. Чтобы его понять, необходимо и достаточно признать то, что мы уже признали, а именно что желание, в точности как и психиатрия, но задолго до нее, наблюдает за тем, что с ним происходит без правильной интерпретации; его ложные выводы станут основанием дальнейших желаний. Совсем не будучи «бессознательным» во фрейдовском смысле и возникал отнюдь не только в наших снах, желание не только наблюдает, но и никогда не перестает размышлять о направлении своих наблюдений; желание – это всегда сначала размышление о желании; как раз начиная с этого размышления оно себя определяет и модифицирует время от времени свои собственные структуры. Желание – стратег, и оно исправляет ошибки, отважусь так выразиться, посредством того, что оно узнало о себе самом. Эти непрерывные модификации всегда проходят в направлении к обострению симптомов, поскольку, как я уже сказал, знание, добытое прежними желаниями, всегда работает на последующие желания. Учитывая изначальную ошибку желания, его неспособность признать свой учредительный double bind, желание, наоборот, ничего не выигрывает, познавая себя все лучше и лучше. Чем больше это познание расширяется и углубляется, тем больше возрастает способность субъекта приносить себе самому несчастье, чем дальше он уходит от следствий основного противоречия, тем сильней он упрочивает double bind.
Желание всегда уже предваряет психиатрию в тех ловушках, в которые, по его примеру, она попадает. Эта наука сама себе создает обязательство попадаться в такие ловушки, для нее это то же самое, что давать очень точное и очень разумное описание, которое не хочет искать невозможного и остерегается истолковывать что бы то ни было в ином направлении, чем само желание. Психиатрия не понимает того скрытого размышления, которое побуждает желание эволюционировать, она не опознает в нем то, что должна опознавать: некую стратегию, которая определяет себя каждый раз начиная с последних наблюдений, которая всегда принимает одни и те же решения в связи с одними и теми же данными, которые вновь появляются в одном и том же порядке. Она не видит динамичного течения этой стратегии, ей кажется, что она видит четко различающиеся симптомы, словно объекты, положенные друг возле друга на плоской поверхности.
Желание разделяет все ошибки, в которые впадает размышление, и на их основе возводит свою ошибочность в принцип. Все смутно ощущают эту ошибочность, но никто до сих пор не распознал по-настоящему отвлекающей внимание простоты, свойственной ее первоначальной движущей силе. С того момента, как эта сила вступает в действие, сомнения уже невозможны; непрерывность и связная последовательность данного процесса не могут быть лишь эффектом риторики или результатом какой-то фабрикации. Мы увидим, что, без труда интегрируясь в этот процесс, все симптомы, которые, как правило, сводятся к статическим, неподвижным описаниям, оживут при соприкосновении друг с другом. Все признают весьма театральный характер того, что называют мазохистской эротикой. Речь идет о мизансценах. Субъект старается воспроизвести в своей сексуальной жизни некий тип отношений, который приносит ему определенное наслаждение. Субъект знает или думает, что знает, этот тип отношений. Это отношения насилия и преследования; они не обязательно ассоциируются с сексуальным удовольствием. Почему же они фигурируют здесь?
Чтобы понять это, нужно отойти от непрозрачности собственно мазохистских инстинктов и импульсов и вернуться к ранее нами предложенному соображению, прозрачная действенность которого, по справедливости, обязывает нас отказаться от иллюзии знания, внушаемого нам этим ярлыком, от самого этого слова «мазохизм», к которому уже все вокруг привыкли и повторяют его так, словно речь идет о чем-то само собой разумеющемся, о бесспорной очевидности и о понятии, которое адекватно описывает эту очевидность.
То, что желает воспроизвести субъект, именуемый мазохистом, есть отношение неполноценности, презрения и преследования, которым он связан (или думает, что связан) со своим миметическим образцом. Поэтому нужно, чтобы данный субъект дошел до той фазы, в которой образец его интересовал бы лишь в качестве соперника, или чтобы противостояние и насилие со стороны этого соперника оказались на первом плане. Противостояние и насилие присутствуют здесь не сами по себе, повторим это, а с целью объявить (либо сделать вид, что они объявляют) о себе подражателю этого образца. Этот подражатель стремится не к страданию и подчиненности, а к якобы божественной суверенности, жестокость которой внушается ему близостью образца.
Единственное различие, которое театральный мазохизм вносит в эту структуру, связано с самим сексуальным удовольствием, до сих пор сосредоточенным на инстинктивно избранном объекте; именно поэтому мы еще не говорили о нем. И вот теперь сексуальное удовольствие отделяется от объекта частично или полностью, чтобы сосредоточиться на том самом насилии, которому образец-соперник подвергает или делает вид, что подвергает, субъекта.
Это движение не содержит в себе ничего непостижимого. Если ценность объекта соразмеряется с тем сопротивлением, которое образец оказывает субъекту, с соперническими усилиями присвоить себе объект, то понятно, что желание стремится придавать все большее значение насилию как таковому, фетишизировать его и в конце концов сделать из него необходимую «приправу» ко всем удовольствиям, которые оно может еще заполучить от объекта, а то и на более продвинутой стадии от самого образца, становящегося возлюбленным мучителем. Когда структура миметического соперничества начинает оказывать влияние на сексуальный фактор, больше нет резона останавливаться на полдороге, и эротическое наслаждение может теперь полностью отделиться от объекта, чтобы присоединиться к одному лишь сопернику.