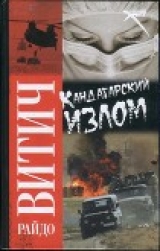
Текст книги "Кандагарский излом"
Автор книги: Райдо Витич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Догадливость друга меня и радовала, и пугала, но еще больше восхищала и удивляла: откуда он мог знать, что я высматриваю? И дошло…
Я склонилась над ухом сержанта и смущенно спросила:
– Саш, я дурой выгляжу, да?
Он озадаченно покосился на меня, потом на старлея, опять на меня и неопределенно пожал плечами. Подумал и качнулся к моему уху:
– Нет, ты выглядишь полной дурой.
– В смысле? – Я задумалась: а не обидеться ли…
– Дети. Здесь минута за год идет, день за десятилетие, а вы все играетесь, как школьники. Он с первого дня все глаза об тебя промозолил, а ты только заметила.
– Ерунду не говори! – дернулась я, внутренне ликуя, и все же надулась. На всякий случай. А то начнет тему развивать – от стыда сгорю.
Саша фыркнул, Ягода усмехнулся и поспешил отвернуться.
Остаток пути мы ехали молча.
Мы благополучно добрались до пункта назначения. Я передала пакет и удостоилась удивленного взгляда. Правда, не поняла, кому больше удивлялись – мне или донесению.
Сашка не отходил от меня ни на шаг, Ягода менялся с Тузом, Чижом. Ребята сопровождали меня, взглядами отпугивая ретивых вояк Володина. И все-таки они умудрялись пробивать заслон. Офицеры наперебой приглашали посидеть вечерком, а то и перевестись служить к ним в часть. Я вежливо отказывалась и высматривала Павлика. И находила! Он смотрел на меня, держал в зоне видимости!
Я была довольна поездкой и благодарна полковнику Свиридову за возложенную на меня обязанность, за доверие. А еще за Павла. И вообще – за воздух, за свет, за жару и пыль, за бурчание Ришата на правом борте. О, его ворчание – песня!.. Мы ехали обратно, и я слушала его бубнеж на татарском языке, в который он искусно вплетал изысканные русские ругательства.
– А что он говорит? – поинтересовалась у Саши.
– Ришат?! Переведи для сестренки, что загнул! – крикнул тот.
– A-а! С-собаки душманские! – и опять начал ворчать по-своему.
Я рассмеялась:
– Доходчиво. Саш, тебе сколько до дембеля осталось?
– Восемьдесят четыре дня.
– А мне девяносто восемь, – вздохнул справа от меня Чиж. – Домой хочу, блин, пешком бы пошел!
– К мамке? – хохотнул Туз.
– К невесте, – решил Ягода.
– Ну к маме, ну к невесте, и что? А то вы не хотите. Эх… Слушай, сестренка, а приезжай ко мне в гости потом, а? Я мамке о тебе писал и Танюхе, они рады будут. У меня мать, знаешь, какие кулебяки стряпает? О!
– Я и сама стряпать умею. Могу и здесь соорудить, найти бы нужное.
Разговор о еде был ритуальным. Сашка подобрался и деловито спросил:
– А что надо?
– Муку, дрожжи, яйца, а начинка… Тушенка вон, картошка подойдут.
– Слышали, славяне?! Найдем?!
– Ну, насчет яиц…
– Рот закрой, продует!
Парни заржали и, сообразив, смолкли, покосившись на меня.
– Короче, будет, – подвел итог Сашка и тут неожиданно шарахнуло.
– «Духи»!! С брони!!
Я не успела ничего сообразить, как оказалась на земле. Перед носом под руками – мелкий камень, слева Чиж, справа Ягода. Сашка почти на мне. Крик, мат, визг пуль, рокот минометов.
– В кювет!! В кювет!! – перекрывая грохот, орал Шлыков, указывая Чендрякову и мне на овражек у дороги. Сашка понял. Схватил меня и, рывком подняв, потащил туда, скинул вниз:
– Лежи!! – и полез обратно.
Каска сползла на глаза, закрывая мне обзор, бронежилет давил и, казалось, весил тонну. Я стянула каску, отбросила в сторону и, спеша, избавилась от броника. Выглянула и увидела ребят, которых крошили, убивали, прижимая к земле. Они огрызались, как могли, но их давили огнем, не давая поднять голову. Слева горел БТР, у траков залегли бойцы. Раненые, убитые, кровь, кровь, кровь… Я не видела ее, меня словно подменили, а может, сыграл добрую шутку шок. Я видела лишь мальчиков, с которыми еще минуту назад разговаривала о доме, а сейчас они умирали. Милые мои, дорогие мальчишки, братья!
Ришат уже не ругался, он лежал на спине и смотрел в мою сторону, а изо рта текла кровь, и грудь…
Я зажала уши и закричала: а-а-а!!
А потом, не думая, вылезла и рванула к раненому Тузу.
– Куда?!!
Я не слышала. Я видела умирающих мальчишек. И знала лишь одно – я должна им помочь.
– Уходи, – прохрипел Туз, увидев меня. Я молча схватила его за тельняшку и потащила в кювет. Он помогал, отталкиваясь больше от меня, чем от земли, и я даже не поняла – тяжелый он или нет. Мы кубарем покатились вниз.
– Дура, – прохрипел парень. И попытался удержать, когда я вновь начала карабкаться вверх. Но куда там… У него было прострелено легкое.
– Рану зажми! – бросила через плечо и рванула к БТР, возле которого царапал пальцами коричневую землю Чиж. Его не спасти, поняла я, как только увидела, как, пульсируя, вытекает кровь из шейной артерии. Попытка зажать ее ни к чему не привела. Парень посмотрел на меня и, прошептав «мама», умер. Мне хотелось завыть, закричать… но я лишь сморщилась, заплакав, поцеловала милого Чижа в лоб – никогда ему больше не попробовать маминых кулебяк.
Перебежками я направилась к другому бойцу – еще живому.
Я не помню, что там было, не знаю, как смогла перетащить в кювет раненых, сколько?
Я лишь помнила о цели и видела ее – ребята, я с вами, слышите, я с вами, ребята! Сквозь слезы, которых уже не чувствовала, не стеснялась, сквозь крики и назло свисту и грохоту. Я не думала о смерти – мне было некогда. Я лишь проклинала ее, натыкаясь на остекленевший взгляд бойца, и откладывала его имя в память, спеша к следующему в слепой надежде успеть, хоть его отобрать у душманской пули, у злой бабки смерти.
Витька, Шут, Мороз…
А этот жив! Значит, будет жить! И в кювет его, к остальным.
Меня пытались удержать, не пуская обратно под пули, но я не чувствовала силы рук братьев, потому что была сильнее. И вновь возвращалась, хватала первого попавшегося и тащила к товарищам.
Меня пытались перехватить у БТР, прижимали к земле, прикрывая собой. Я отпихивала, не соображая, что делаю. Я видела, что рядом истекает кровью мальчишка, тот, кто вчера приносил мне цветы, а позавчера сидел за одной партой. И мне было страшно, что я не успею вытащить его из-под огня и увижу мертвые глаза. И я ненавидела тех, кто меня удерживал, отбирая жизнь у товарища, а значит, и у меня. Кажется, я ругалась на зависть погибшему Ришату. Это срабатывало, а может, что другое? Не знаю…
Сколько шел бой?
Мне казалось, век и миг. Как провал во времени, в который ушли и навеки остались в нем мои дорогие мальчики, милые мои братья. Провал закончился, высосав нужную ему дозу жизней, и наступила оглушающая тишина. Я не верила в нее и ни черта не понимала. Полулежала на насыпи в кювете и смотрела в глаза Ягоды.
– Все, сестренка, – выдавил он улыбку, а рука зажимала рану в боку. И тут я увидела кровь под его ладонью, словно не заметила ее во время боя. Меня затошнило. Я села и попыталась сдержать рвоту, зажав рот ладонью, но мои руки были тоже в крови.
– Ты как? – прошелестело над ухом. Я вскинула взгляд: Павлик. По щеке красная полоса крови…
Я, оттолкнув его, рванула в сторону, к камням. Меня стошнило. Господи, как мне было плохо! Я не знала, куда деться от стыда, что меня видят такой отвратительной, слабой, готовой упасть в обморок, как кисейная барышня! И видят все! Ребята… Павлик! И эта мерзкая тошнота, звон в ушах от головокружения, слюни, что не утрешь, потому что руки в крови.
– Возьми, – подал мне бинт Шлыков.
– Не смотри, уйди! – заплакала я, представляя, как же он презирает меня сейчас. А он словно специально, чтоб поиздеваться, не только не ушел, но еще и поднял меня, прижал к груди, заставляя посмотреть ему в глаза:
– В небо смотри и дыши глубоко. Ну, Леся? Давай, девочка, давай!
И я разревелась: он со мной как с маленькой! Как с дурой!
– Старлей, нашатырь, на.
– Что с ней?..
– Да шок у девчонки…
– Ну, чего уставились?
– Отгоняй БТР!!..
– Связь, вашу маму!!..
– «Вертушки» на подходе!..
– Собирай раненых, быстро!!
– Уходим!!
– Товарищ старший лейтенант, дайте ей пить…
– У меня спирт есть…
Икая, всхлипывая и вздрагивая, я слушала разговоры и жалела, что не могу провалиться сквозь землю от стыда, и ненавидела себя за то, что так глупо устроена, за то, что реву, как последняя истеричка, и никак не могу остановиться. Я боялась смотреть по сторонам, чтобы не упасть в обморок от вида крови, не порадовать бойцов повтором рвоты.
Опять что-то жахнуло – «вертушки» пускали дымовые ракеты. Как хорошо, что нас не зажали в ущелье, а обстреляли почти на равнине…
Что-то сломалось во мне в том бою.
Внутренний мир надломился, треснул, как зеркало. И в этом изломе больше не было целостной картины, лишь два фрагмента – я вчерашняя и я сегодняшняя.
Я мылась, не соображая, что делаю, а сама видела погибших ребят, кровь и подлость смерти. Вика сидела на табурете и смотрела на меня с сочувствием, а я боялась смотреть на нее – ее любимого ранили, и сейчас он лежал в палате, под присмотром Рапсодии, а Виктория бросила его и побежала ко мне.
– Иди к нему.
Она мотнула головой.
– Иди, я все равно спать лягу.
– Тебе к нам надо.
– Зачем, я не ранена.
– Ты контужена. Посмотри на себя, ты лет на пять постарела…
Я б и на десять постарела, если б тем самым смогла вернуть погибших ребят.
– Как твой?..
– Нормально. Буянит, что зря упекли в постель. Тяжелых уже в полевой госпиталь отправили.
И вздохнула:
– Чего тебя понесло с колонной?
– Приказ.
– Головянкин?..
– Почему? Свиридов.
– Ясно. Из Кабула начальство приезжало, утром только улетели. Ох, погуляли – Галке прибыль.
– А что ты про Головянкина вдруг спросила? – Я села на постель, закончив наконец полоскаться. Надо бы воду вылить, да сил нет…
– Да Ягода-то у нас. Сашка твой прибегал, ну и парой фраз насторожил.
– Откуда Саше знать?
– А он слепой? Или я? Да все видят, что этот старый пень залезть на тебя мечтает. Идея фикс ты у него.
Я легла на постель, обняла подушку, еле сдерживая слезы, – мне не было дела до глупых чаяний какого-то Головянкина. Он казался далеким и невсамделишным.
– Ты поплачь, Олеся, легче станет.
– Нет, знаешь, как мне стыдно?
– Вот тебе раз! Это чего ж тебе стыдно?
– Меня стошнило, представляешь, при всех! Я вела себя как последняя идиотка! Ревела…
– Ага, поэтому Соловушкин рапорт на представление тебя к награде подал, да?
Я зарылась лицом в подушку: какой рапорт, какая награда?! Она что, не слышала, о чем я?
А ребята? Она что, не понимает, что они погибли?! Что Чижа больше нет!! Нет Темраза, Ришата, Дао. Нет! Их не-е-ет!!.
Господи, Господи, Господи!!
Куда ты смотришь и видишь ли вообще?!
Мне дали два дня выходных.
Богатство.
Приз.
Но что с ним делать?
Я лежала и глядела в потолок, а за стенкой слышалось изрядно надоевшее мне за два месяца службы монотонное скрипение кровати. Галка зарабатывала себе на жизнь в Союзе, без выходных. Еще бы, через месяц ее контракт закончится, а в месяце всего тридцать дней. Нет, на счастье Галки, в августе тридцать один день.
У каждого свое счастье.
Я отвернулась к стене и с головой укрылась простынею.
В комнату постучали, скрипнула дверь. Я хотела сказать посетителю все, что думаю, не стесняясь в выражениях, но увидела Пашу. Он в нерешительности застыл у входа, обнимая какие-то банки, фляжку.
– Ты?
– Я, – заверил. Сгрузил провиант на стол и подошел ко мне. – Гостинцы принес.
– Вижу, спасибо.
– Мелочь, – поморщился он и присел напротив меня, пододвинув табурет. Минута, десять – а он молчит и только смотрит. Потом взял мою руку и давай ладонь изучать, пальцем водить. Я не отдернула. Павел осмелел и поцеловал ее нежно, чуть касаясь, потом каждый пальчик и улыбнулся мне смущенно, как мальчишка. У меня слезы на глаза навернулись.
– Не плачь, Олеся, – отер слезу и вздохнул. – Олеся… У тебя даже имя теплое, как солнышко.
– Кандагара?
Павел опустил взгляд:
– Война, Олеся. Она всех перемалывает, мужчин, женщин, детей, стариков. Мы на ней звереем, вы…
– Опускаемся?
Он мотнул головой:
– Ломаетесь.
– Я не сломалась.
– Не ты. Но если о тебе говорить, то… лучше б ты уехала, Олеся.
– За этим и пришел?
– Нет, конечно, нет, – мотнул головой. – Наши братьев поминать собрались. Тебя приглашают. Пойдем?
Я зажмурилась:
– Нет. Не могу, извини.
– Плохо?
Я прислонилась лбом к его груди и вздохнула:
– Не то слово. Реву и реву.
Ему мне было не страшно признаться, я отчего-то верила – он правильно поймет. И он понял. Погладил по голове, еле касаясь, и прошептал:
– Ты женщина. Хорошо, что еще можешь плакать, а мы… Душа высыхает, Леся, вот что страшно.
– Это пройдет?
Он долго молчал, видно подбирал слова или лояльные фразы, а выдал:
– Не знаю.
Я закрыла глаза, найдя покой у его груди, и слушала, как бьется сердце Павлика. Мне было спокойно от его чуть учащенных, но мирных тактов. Теплые губы накрыли мои. Жаркий и в то же время нежный поцелуй был мимолетен в своей бесконечности. Впрочем, я понимала, что нельзя прожить жизнь в объятиях Павла, паря в невесомости его поцелуя. Но именно это и вызывало сожаление.
Возможно, если б он пожелал большего, я бы не воспротивилась, но так же возможно, что потом о том пожалела. Но Павел, видимо, почувствовал это и ушел, оставив в памяти лишь вкус его поцелуя.
На войне все становятся провидцами.
Шли дни. Боль от потерь, страх, осознание грязной сути войны и твое бессилие перед ней осели мутным осадком на душе и от каждой следующей потери лишь все больше превращались в камень. Все, что мучило меня, не отболело и не ушло, оно срослось со мной, изменяя подспудно и меня, и мои взгляды, и мир вокруг. Он уже не цвел, как орхидеи, не дарил тепло и яркость красок одним своим существованием, но еще и не отталкивал циничной правдой. Я любила и, наверное, это меня спасало, а то, что я любила благородного, честного и сильного человека, еще и защищало от ошибок и боли обид.
Меж нами по-прежнему ничего не было и только очень пристальный, внимательный взгляд мог приметить что-то особенное, что связывало нас. Может, оттого, что мы не спешили и продолжали вести себя как друзья, не больше, наша любовь оставалась чистой и светлой. Она, как тайна, связывала нас, окутывая туманом взгляды. Мы видели друг друга издалека, слышали, находясь в разных концах части.
Я не провожала его на боевые задания, потому что всегда была рядом, и он это знал. Во всяком случае, я очень в это верила.
Саша загадочно улыбался и щурился, как наглый ведун, следя за нашими переглядами. Павел проходил мимо, чуть замедляя шаг, я во все глаза следила за ним. Павел разговаривал с товарищами офицерами или отдавал команды солдатам – я видела его, а он видел меня. Мы шли параллельно, видя лишь друг друга, и не замечали пристального внимания к нам окружающих.
Я хотела определенности в наших отношениях и боялась ее. И дело было не в страхе, что любовь завянет, нет, о том я и не думала, но я боялась за Павлика.
Головянкин после моей поездки притих. Может, в благодарность за то, что я промолчала о его неблаговидном, порочащем честь офицера поступке, может, из-за опасения, что еще могу передумать и написать рапорт, а может, немного осел, сообразив, что я не настолько глупа, доступна и беззащитна. Я не знаю, да и все равно мне было, что он думает сейчас. Я знала, что он не тот человек, чтоб успокоиться – если паранойя есть, то не стоит радоваться ремиссии, потому что рано или поздно наступает обострение. Но одно дело разбираться нам с ним, другое – вмешивать в это Павла. Головянкин – тип мстительный и, судя по взглядам, которые он бросает, когда я с кем-то разговариваю, патологически ревнив. И ладно бы на словах или во взглядах – на деле. Как-то солдат из новобранцев драил полы в штабе и все косился на меня, открыв рот. Мы разговорились, но, на несчастье парнишки, черт принес Сергея Николаевича. На следующий день парня отправили на дальнюю заставу, где каждый камень был пристрелян душманами. Он не прослужил там и трех дней…
Мстительность замкомбрига вообще была притчей во языцех. Не раз я слышала от Рапсодии о том, что случалось не то что с солдатами – с офицерами, которые вставали поперек замкомбрига либо как-то задевали его. Она рассказывала ужасные вещи, в которые я бы не поверила, не зная Головянкина лично, не встречаясь с ним каждый день. Нет, я не хотела Павлу их участи. Я хотела, чтоб он жил долго и, желательно, счастливо, и даже была согласна, чтоб не со мной, но главное – чтоб жил.
Вика единственная знала, что я думаю и чувствую. Мы по-прежнему оставались с ней близки, и хоть она жила с Голубкиным, считалась его женой, смена ее статуса не повлияла на наши с ней отношения.
Галина же несколько изменилась, а может, что-то изменилось во мне? Взгляд, например. Не знаю, возможно. Но Галя перестала меня третировать, стала относиться ровнее и спокойнее, а я в ответ уже не сатанела, слыша скрип кровати, видя коробки, которыми был уставлен даже коридор. Я по-прежнему не понимала ее, но приняла как факт наше с ней существование на разных полюсах морали, и просто отодвинулась. Нет, не боясь запачкаться, а скорей пугаясь того, что когда-нибудь эти полюса могут смениться, и я стану черствой, бездушной и все-таки пойму ее.
Я менялась так стремительно, насколько это возможно в боевых условиях. Я примирилась с мыслью, что война – время жатвы для всех, но каждый пожинает свои плоды, и я ничего с этим сделать не могу. Я не изменю Галину, как не изменю Головянкина. И мне не остановить жуткий маховик смерти, которая заполонила весь Афган от края и до края.
Я стала настолько черствой, что мне не было жаль афганцев, кто бы они ни были – пуштуны, «духи», активисты Гаюра, простые декхане, раббанисты, моджахеды. Все они были равны в моем сознании – «не наши». Меня больше не интересовала политика, я сторонилась ее, как чумы, как дополнительного источника неприятных мыслей.
Меня подбрасывало от слова «перемирие», которое объявили по войскам. О, это фальшивое перемирие, когда нас убивают, а мы не можем ответить, потому что нет приказа, вернее, он есть – не открывать огонь… Будь оно неладно! И будь проклят тот, кто его объявил, подписав похоронки пацанам, которые с верой в светлые идеалы и своих отцов-командиров ложились сначала под пулю, нож духа, а потом в цинковый гроб…
Смерть. Что бы ни говорили, как бы ни объясняли, чем бы ни прикрывали – она оставалась смертью, и никак иначе. Она вылезала в рапортах, приказах, сводках. Сидела в скалах, лежала под ногами. Она жила с нами. Она жила в Нас.
Я тупела от нее и умнела, злилась до удовлетворения и веселилась до злости. Я стала похожа на кардиологическую кривую, где острые зубья моей жизни сплетались с жизнями других, приходящих и уходящих – кто вниз, кто вверх.
Ребята гибли и тем убивали меня – но и возрождали, возвращаясь живыми.
Саша убеждал меня, что когда-нибудь, рано или поздно, я привыкну к чужой смерти, но я не верила ему, потому что именно это и было самым страшным для меня – привыкнуть к чужой смерти.
Тогда я точно буду мертвой…
Август плавил воздух жарой.
Я спасалась в вотчине кондиционеров – штабе и мечтала о ночи, что накроет холодом часть. К вечеру пришла «вертушка» с почтой. Бригада ожила в ожидании вестей, и я, как остальные, ждала, когда разберут почту, раздадут конверты ротным, дежурным, и, возможно, тогда какой-нибудь добрый человек одарит и меня конвертиком с вестями из дома.
Первой повезло Виктории. Она получила письмо вместе с остальными жителями медпункта. Мне конверт принес Головянкин. Молча положил на стол и пошел дальше. В его руке осталась еще пара конвертов – значит, комбрига и других фортуна не обошла, выдала приз.
Я взяла письмо и с удивлением отметила, что оно не от мамы, не от подруги, а от незнакомой Татьяны Ивановны Веселкиной. Адрес отправителя незнакомый. Нет, я знаю, что в нашем городе есть такая улица, но так же точно знала, что живущих на ней знакомых у меня нет.
Размышляя о странном послании, я распечатала конверт и вытащила исписанный ровным, мелким почерком листочек:
«Милая моя, дорогая моя доченька Олесенька! Пишет тебе тетка Таня из 18-й квартиры. Ты, наверное, и не помнишь меня, а вот пса моего окаянного, что вечно пугал тебя, может, и упомнишь – Сенька его кликали. Так вот, я хозяйка его, тетя Таня, да уж баба Таня скорее для тебя».
Я вспомнила и выгнула бровь от удивления: дородная седая женщина вечно шугала детвору, и мне от нее доставалось, бывало. Но больше всего я боялась ее пучеглазую, тонконогую собачку размером с кошку. Эта тяфкалка производила обманчивое впечатление невинно-трогательного создания и очень любила сладкое. Как-то, увидев, как он выпрашивает у меня конфету, поджимая то одну ножку, то другую, тетя Таня сказала:
– Дай ему, если не жалко.
Мне было не жалко, я дала. Но Сенька не рассчитал размер конфеты и своей пасти и сомкнул челюсти на моих пальцах.
Воспоминание утвердилось маленьким, еле заметным шрамиком на пальце. С тех пор Сеньку я боялась, тетю Таню ассоциировала с хозяйкой людоеда и не жаловала, впрочем, насколько помню, и она меня тоже.
Странно, что это ей вздумалось мне писать?
Сердце отчего-то тревожно забилось.
«Может, и не права я, старая, но как подумаю где ты, да как, и ничего не знаешь, так сердце кровью обливается. И вот решилась тебе написать…»
Я расстегнула ворот кофты: почему же так душно?
«Крепись, доченька, мамка твоя и отец, царствие им небесное…»
Нет!!
Я откинула письмо. По спине мурашками холод, и ничего не хочется, кроме одного – повернуть время вспять хотя бы на пять минут и не получать, не видеть этого письма!
Я потерла висок, не спуская взгляда с листка бумаги. Пальцы дрожали, и в горле стало сухо.
И все-таки я протянула руку и взяла лист: что же там старая маразматичка выдумала?
«… дом наш в аккурат по вашей квартире разлом дал и осел, только по краям по подъезду и осталось. Кому повезло – выскочить успели либо дома вовсе не было, а твои…»
Бред, чушь.
Неправда. Какой дом? Как осел?
«Говорят, какие-то воды фундамент размыли или чего там, я уж не поняла, только все уж едино усопшим-то»…
Я скомкала лист, словно именно он был причиной беды, а потом встала и пошла, не зная куда, лишь бы сбежать от этих дурных вестей, и не замечала, что продолжаю сжимать письмо в кулаке.
Вышла на улицу и взглядом обвела модули, БТРы, камни, скалы: что я здесь делаю? Где деревья? Липы, березы, тополя? Где мой дом? Мама?.. Где мама?.. Отец?..
Я шагала, не зная куда, и не видела растерянных, озабоченных взглядов парней, Ягоду, застывшего с папиросой на полпути ко рту. Я искала родителей, до крика, до воя не желая верить, что не найду, что их уже нет. Я не плакала, лишь кривилась, ненавидя туман перед глазами, эту коричневую землю, горы, модули. Мне хотелось сбежать, вырваться за укрепзону, посты – в горы. В итоге наткнулась на БТР и стояла, тупо разглядывая машину. Сота, рядовой Сотников, выглянул из-за другого борта, силясь понять, что я изучаю.
– Эй, сестренка, – помахал рукой перед глазами. – Очнись. Ты чего? Заболела?
Сколько участия в голосе, будь оно неладно!
Меня развернули чьи-то руки: Сашка.
– Лесь, мы картошку достали.
– Картошку?
Он издевается? Какая картошка? Где? И почему он смотрит на меня с сочувствием?!
Меня заколотило. Я замахнулась кулаком, в котором намертво был зажат проклятущий листок, но не могла же я ударить своего брата, пусть он и кощунствовал, говоря о какой-то картошке, когда моя мама…
Мою руку перехватили, крепко сжав у запястья, забрали письмо, и я поняла, что меня отвлекали. Это разозлило, воспринялось как предательство, и слезы сами собой брызнули из глаз:
– Как вы можете? – прошептала я и поняла, что сейчас закричу.
Сота читал письмо. Рядом стоял Ягода, заглядывая ему через плечо. Как они могут читать чужие письма? Я качнулась к ним, желая забрать его, но Сашка прижал меня к брони:
– Тихо, сестренка.
Предатели! Я оттолкнула его и побежала прочь, захлебываясь слезами. Запнулась о камень и шлепнулась на коричневую землю. Больно, почему же так больно…
– Мама?! – прошептала, с трудом поднимаясь. – Мамочка, папочка, мама…
Чьи-то руки бережно подняли меня:
– Оставьте меня в покое, оставьте меня, – хрипела я, не понимая, что передо мной Павлик. Он молчал, не успокаивал, не сожалел, с каменным лицом смотрел перед собой и нес меня куда-то.
– Олеся! – всхлипнула Вика. Рапсодия лишь вздохнула.
– Помогите ей, – приказал Шлыков, опуская меня на скамейку, и ушел.
Рапсодия умеет успокаивать. Ее мягкий голос проникает в каждый уголок сознания, как шприц, глубоко в вену.
– Я не буду спать…
– Нет, конечно, нет…
– Почему так? За что?
– Олеся, – всхлипнула Виктория.
– Люди умирают, – со вздохом заметила Рапсодия. – И мы когда-нибудь тоже умрем…
Мысль показалась мне возмутительной, но своевременной.
– А ты будешь жить долго и счастливо.
– Но без отца и матери…
– Они будут с тобой, всегда будут с тобой.
Я посмотрела на Барсукова. Он, как обычно, курил, держа пинцетом сигарету, и щурился от дыма. В его глазах тлело сочувствие и несогласие со словами Рапсодии:
– Не морочьте голову девочке, Вера Ивановна.
– Виктор Федорович, идите курить на улицу.
– У нее больше никого нет, – тихо прошептала Вика, с несчастным видом глядя на меня.
– А вот это неправда, греза моя. У нее есть ты, мы.
Я переводила взгляд с подруги на врача, с врача на Рапсодию, с Рапсодии на Вику и силилась понять, почему они говорят обо мне, не замечая меня, как могут говорить о том, чего не знают, о тех, кого не видели в глаза – моих родителей. Но я не встревала в разговор, я сживалась с горем. К камню, что лег на душу после обстрела колонны, прибавился еще один, и она отяжелела, не могла больше парить над этим миром, отдаваться иллюзиям.
К ночи я покинула медпункт. Шла к модулю, надеясь увидеть Павла, но его нигде не было. Зато я заметила группу ребят: Сашка, Федул, Ягода и Ригель с незнакомым мне парнишкой сидели и курили. Я подошла и нависла над ними.
– Исчезни, – буркнул Сашка пацану. Тот послушно скрылся в темноте, уступая мне место на камне.
– Дай сигарету, – попросила я у Чендрякова. Тот моргнул, испытывающе глядя на меня, и кивнул товарищу:
– Ригель, дай.
– Последний косяк.
– Ей нужнее.
– Завтра Батон еще достанет, – заверил Ягода.
Я закурила и поперхнулась первой же затяжкой.
– Не торопись, Леся, не отберем, – заверил Федул.
– Очень смешно, да?
Парень растерялся. А мне стало вдруг смешно и легко, и только злость вопреки внешнему веселью сильнее сжимала горло. Мне больше не была страшна смерть, потому что я вдруг поняла – я мертва. Человек жив лишь тогда, когда ему есть ради чего жить, он идет, если есть куда идти, он думает, пока есть о чем. Мои мысли были горькими и крутились вокруг одной очень болезненной темы, поэтому я предпочитала не думать, культивируя тишину и пустоту внутри себя. Мне некуда было идти – модуль не в счет. Все, что у меня осталось – братство вояк с такой же обожженной душой, как у меня.
– Не грузись, сестренка, перемелется, – бросил Ригель.
– Рот закрой, – буркнул Сашка, глянув на него как на идиота.
Чендряков понимал меня лучше всех и чувствовал мою боль, как свою. И мне было безумно жаль, что он – не Павел.
Только подумала, как увидела его. Он навис над нами, обводя недобрым взглядом солдат, и те, почуяв неладное, поспешили подняться, вытянулись.
Я хихикнула, углядев в их позах нелепость и комичность.
Шлыкова мой смешок отчего-то разозлил. Он отобрал у меня окурок, откинул в сторону и уставился на Сашу.
– Еще раз увижу, узнаю – порву.
– Мы ж как лучше хотели, товарищ старший лейтенант… – протянул Федул. Сашка пихнул его в бок и заверил Шлыкова:
– Больше не повторится, товарищ старший лейтенант.
«А чего это Павел раскомандовался?» – озадачилась я, поднимаясь. Меня качнуло.
– Между прочим… – начала и смолкла, встретившись взглядом с глазами Павла. В них было все: боль, понимание, злость от бессилия, укор и мольба. Еще вчера я бы смутилась и отвернулась, а сейчас разозлилась: он понимал все, кроме самого главного – насколько сильно он нужен мне именно сейчас, в этот момент, что я больше не хочу и не могу играть в любовь, я хочу ее знать. Потому что это единственное, что мне осталось, ради чего еще можно и нужно жить. И пусть это всего лишь соломинка, но порой она оказывается надежней корабля…
Мне стало обидно до слез, что он не понимает элементарного. Мои слезы подействовали на всю компанию странным образом. Ребята смущенно переглянулись и испарились в темноте, словно их и не было. Павел шагнул ко мне и обнял, отер влагу с лица, убирая заодно непослушные прядки со щеки:
– Я с тобой, я всегда с тобой, только не плачь, никогда больше не плачь.
В глухом голосе было столько боли и печали, нежности и любви, что я не сдержалась и обвила шею Павла руками, крепко прижавшись к его груди:
– Так будь со мной, пожалуйста, будь.
– Олеся… – и вдруг пропел шепотом: «Олеся, Олеся, Олеся – так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье, Олеся. Останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня»…
Я не знала нежности большей, чем подарил мне Павел. Он не ласкал – он упивался, он не брал – он дарил. Все неприятности, обиды, горе, страхи исчезли за завесой его любви, растворились, как звезды в небе. Он возродил меня, наполнив жизнь новым смыслом. Он, только он – его глаза, губы, руки, тело властвовали надо мной, всецело поглотив и растворив в себе. Так соединяются любя, так любят, соединяясь, сплетаются не только телом, но душой.
– Давай поженимся, – предложил Павел утром.
– Так вроде уже… – улыбнулась я, поглаживая родимое пятнышко на его груди.
– Я серьезно, Олеся. Подадим рапорт и официально распишемся.
Я была не против, наоборот, очень даже за, но по наивной глупости своей хотела сначала услышать страстное признание в любви. Я еще не понимала, что оно уже было.
– Не хочешь?
– Мне кажется, мы торопимся.
– Боишься стать вдовой?
Меня подкинуло, и лицо исказила судорога:
– Не смей! Никогда не смей даже думать об этом! – Я ударила его по груди кулачком, он прижал его ладонью и рывком подтянул меня к себе:
– Прости, пожалуйста. Я не хотел волновать тебя… Я всего лишь хотел сказать, что не погибну, никогда не оставлю тебя…
Я плакала, слушая его неуклюжие объяснения, крепко сжимая его в объятиях:
– Ты у меня один. Все, что у меня осталось, это ты.
– Но замуж за меня не хочешь, – напомнил он.
Я опять стукнула его кулачком по груди: упрямец.
Он рассмеялся:
– Женский бокс? Давай, я научу тебя паре приемов? Они могут пригодиться, Олеся.
– Хочу, – вытерла слезы. – В следующий раз, если заикнешься о плохом, я тебя быстро в порядок приведу.
Павел нежно погладил меня по волосам. Ему ничего не надо было говорить – за него говорили его глаза.
Я от души потянулась, стоя у умывальника. В моих глазах еще жила нега прошедшей ночи, лицо, смягченное безмерным счастьем, украшала довольная и чуть лукавая улыбка.








