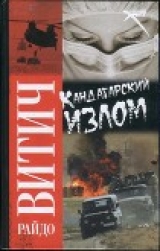
Текст книги "Кандагарский излом"
Автор книги: Райдо Витич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Так точно, товарищ старший лейтенант, – ухмыльнулся тот. Поняли они друг друга с Левитиным:
– Свободен.
Чендряков развернулся и потопал, руки в брюки:
– Разгильдяй! – отчего-то разозлился Павел.
Весь вечер он шатался по комнате. Он уже жалел, что не пошел с Голубкиным и Левитиным, но опять же, что там делать? Бухать? Здесь напиться не проблема. На новеньких девчонок смотреть? Так синеглазая до сих пор перед глазами маячит. И тлеет в сердце огонек надежды, что чистая она и глубокая, как глаза ее. И ошибиться так не хочется, потому и идти на пирушку, смотреть, как окручивают дурочек пацаны, а те верят той пурге, что Женька метет, и млеют, сдаются. А потом по стопам Галки, лишь бы у желающих шмоток да денег хватило.
Нет, не будет он ни вторым, ни десятым в очереди.
Павел пнул табурет и лег на кровать, прикрыл рукой глаза.
Какого ляда она сюда приехала? В дерьмо, грязь, кровь, смерть. Под пули или под начальство? За подвигами, мужем, великой идеей, стопкой чеков и афганок? Кому она на радость достанется? Как долго продержится чистота в синих глазах, наивность и трогательное детское любопытство?
Да ему-то какая разница?! Заняться нечем?!
Как ни ругал он себя за глупость, в голову втемяшившуюся, а справиться с собой не мог. Понесли его ноги к женскому модулю, да не вовремя – синеглазка-то с Чендряковым сидела, о любви да дружбе разговаривала. Павел развернулся, к себе ушел. Всю ночь промучился, пытаясь заснуть, да без толку – маяло его, как будто лихорадку подцепил.
А с утра Чендрякова за шиворот словил, оглядел припухшую губу с засохшей точкой крови и, усмехнувшись, пошел к Женьке. Отлегло с души.
– …Галка не вовремя приперлась. Обломала круто. А Голубкин, похоже, втрескался в комсомолочку, повезло Михе, – разглагольствовал Женька, пуская дым в потолок. Папироса тлела, наполняя запахом табака и без того прокуренное помещение.
Павел молчал, внимательно слушая. Знал, прерви дружка, и тот уйдет в сторону, переключится на опостылевший пейзаж, «духов», начальство, гребаных салабонов и батю своего, что мечтал сына в офицерском мундире увидеть.
– Барышню Викой зовут. Хохотушка. А формы… ножки стройные, грудь высокая, глазки хитрые. Газель. Вторая, конечно, лучше. Параметры, закачаешься: стройняшечка, гибкая, талия, грудь… блин, конфетка! Но, похоже, облом, Иваныч. Но временный!. Ничего, потихоньку, полегоньку можно и приручить. Плохо, блин, не пьет. Ха! Чендрякову губу прокусила, слышал? Целоваться полез. Во, выдала девка?! Ты как думаешь, долго ломаться будет?
Павел, довольный услышанным, прищурился в потолок, разлегшись на койке Голубкина:
– Посмотрим.
– Ты смотри, Паш, я первый, – предупредил, приподнявшись.
– Посмотрим.
– Ну, ты!.. – качнул головой, возмутившись, и тут же передумал обижаться, рукой махнул. – А хрен с тобой, знаю тебя, упертого, не свернешь. Только смотри, я подвинуть могу.
– Угу. Зовут-то как недотрогу?
– О-о, – раздвинул губы в улыбке Левитин и почти пропел, смакуя имя. – О-оле-еся.
– Олеся, – повторил Шлыков. Почему-то он так и думал, что имя у девушки особенное, как и она сама. – «Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на опушке»…
День, два, десять… Не выходит из ума Олеся. Павел уже и так и сяк, а она никуда – и глаза ее сами ищут, и ноги в ту сторону, где она может быть, несут. И на боевых – Леся, и в столовке – Леся, и на дегустации нового сорта самогона – Леся. И, как ни уверял себя, что она быстренько роман с кем-нибудь закрутит – ничего подобного. Пацаны ее «сестрой» величают, а это многое значит. Выходит, правильная девочка. Но такой защита нужна крепкая. Чендряков с компанией своей за нее горой. Снесло голову сержанту напрочь. Только слово о ней похабное услышит – в зубы без разговоров. Парни притихли, шуточки свои при себе оставили и только глаза о девчонку мозолят. И Шлыков с ними. Дурак дураком – смотрит на нее и дышать боиться, и только вздыхает. И все думает, как бы он ее обнял, прикрыл от чужих глаз, в Союз увез. Женился! И какая же она хрупкая, и какая же она маленькая, девочка глупенькая, ребенок совсем… Разве место таким на войне, в грубом обществе осатаневших от боли и грязи мужиков? Ведь обидеть могут и не желая и не думая – изломают, погасят искорки в глазах. И как помочь, как уберечь?
«Паранойя», – решил Шлыков. И сдался. Познакомиться? Страшно. Слухи ходят – бойкая она, идеалистка наивная. И как он к ней подойдет? Что скажет? Что ни придумает – все глупым кажется. Обрежет его Фея на первом же слове и пошлет, как остальных, в дальний путь, причем так, что и сам не поймешь, а уже пойдешь…
Месяц маялся, ждал, смотрел, не решаясь приблизиться. За сомнения еще цеплялся – может, не та она, что ему показалась? Но как ни посмотри, кого ни послушай – даже коричневый песок под ее ногами – золото.
Минометный обстрел все решил. Кто-то сдуру бросил: Фею зацепило. Павел рванул в медчасть, не чуя ног. Распахнул дверь, и Олеся ему на руки и рухнула. В первую минуту Шлыков думал, что умрет вместе с ней, а потом дошло – не ранена она. И он чуть не засмеялся, сообразив, что девочка крови боится. А как она стыдилась этого… Глупенькая, глупенькая… Всю жизнь бы он с ней просидел рядом, за руку держал, да в глаза смотрел. В глазах ее утонуть можно, а рука махонькая, хрупкая…
Сутки Павел, о ней вспоминая, вздыхал и сжимал свою, словно до сих пор Олесина ладонь в ней. И понял в тот миг – влюбился. И славно, потому что стоит Олесенька и любви, и счастья, и жизни. И еще одно понял: не отдаст ее никому, костьми ляжет, а сохранит вот такой чистой, глупенькой девочкой и живой, живой во что бы то ни стало. Теперь ему было понятно, отчего Свир бухает и Кузнецов. И страшно стало от мысли, что погибнет Олеся вот так же, как их любимые, от шальной пули.
Слух о том, что Головянкин чуть сестренку не снасильничал, быстро облетел бригаду. Шлыков случайно услышал и, если б не Левитин, убил бы замкомбрига прямо тогда. Но ему мозги быстро вправили. Женька знал, на что давить. Павел всю ночь Олесю сторожил, а утром, выходя на боевое, понял, что зря друга послушал и не прибил замкомбрига. Этот подонок удумал девчонку с ними на боевое кинуть, отомстил, сука.
Павла колотило от ярости. Ему казалось, он поседеет за тот поход. И убить не знал кого – то ли Головянкина, то ли Олесю, которая от большого ума принялась под пулями метаться, вытаскивать ребят… Павел бил «духов» и все боялся опоздать.
Тот бой все и решил. Женька говорил: не лезь, узнает Головянкин о ваших отношениях – лететь тебе в Союз «грузом двести» и ей рядом. Сгноит обоих. А пока вроде некого и не за что. Если ничья, то зацепить ее нечем и беситься особо не с чего – притихнет. Но Павел понимал: притихнет замкомбрига ненадолго. И хотя друга послушал, боясь навредить Лесе, был настороже. Нарезал круги рядом с ней, посматривал, слушал и прикидывал, как убрать Головянкина. Не даст эта гнида жизни Олесе, сломает – любому уже было ясно. А она доверчивая, наивная да импульсивная – думать страшно, что приключится.
Павел с ума сходил от желания, но, боясь навредить Олесе, не подходил, не лез, контролировал ситуацию со стороны, а уходя на боевые, оставлял за ней кого-нибудь приглядывать. Впрочем, пацаны и сами все понимали и в особых инструкциях не нуждались.
В тот день Паша только с «вертушки» спрыгнул, вернувшись с боевого, как об Олесином горе услышал. Понятия не имея, как она переживет, как выкарабкается, искал Олесю по всему городку, а нашел и понял – не отойдет от нее больше ни на шаг. Поженятся, чтоб Головянкин губу закатал, и в Союз Лесю, в Союз, к матери. Она присмотрит, она сохранит…
Не успел, побоялся давить на Олесю, да и не мог – мягкий стал в ее руках, как воск перетопчивый. Только запах ее волос, только глаза, лукавый смех и нежность – как от такого откажешься? Чего ради этого не сделаешь? Какой Головянкин? Какая война?..
Сколько раз он потом клял себя за эгоизм! Сколько раз мечтал вернуть все хоть на минуту, хоть на миг…
Задание дали, но сами-то понимали, что выполнить его невозможно. Вечером в пасть к «духам», туда, где каждый камень им знаком, пристрелян, а бойцы в темноте будут вгрызаться в скалы и гибнуть, кляня всех и вся…
Шлыков молча выслушал приказ и, сообразив, что их как пушечное мясо бросают на верную смерть, не стал даже прощаться с Олесей, чтоб она чего-нибудь не заподозрила. Хватит любимой переживаний, и так никого не осталось – только он.
Он ушел, мысленно пообещав: не знаю как, но выживу и вернусь.
«Вертушки» взмыли в небо. Шлыков долго смотрел на городок, надеясь еще увидеть его и жалея о том, что не успел. А потом посмотрел в небо, как это любит делать его Леся, и прошептал: «Олеся… так птицы кричат в поднебесье – Олеся, Олеся, Олеся. Останься со мною, Олеся»…
Сколько раз он читал, что любовь способна спасти человека. Но разве верил?
… «Духи» лезли со скал, с камней, из каждой щели. Ребят гнуло и косило, размазывая о скалы. В небе догорала ракета. И не было надежды, и не было выхода из тупика, в который закинули пацанов. Вспышки, грохот и вой…
Малыш, салабон из новеньких, вжался в валун и, зажав уши, выл в небо. Левитин только выглянул из-за камня – лег с дыркой во лбу. Снайпер снял. Не бой – бойня.
Куда пробиваться, куда отходить? И зачем их вообще сюда кинули?
Боекомплект израсходован, больше половины бойцов убито. И хоть зубы сотри от бессилия, хоть гранит грызи – ничего не изменить. «Духи» зажали в кольцо, и подмоги не будет.
– Сдохнем здесь все, – зло бросил Лазарев, сплевывая кровь наполовину с песком.
– Значит, так надо, – ответил Шлыков, сильнее сжимая АКМ. А что еще ответишь?
Может, конечно, и не любовь Олеси его спасла, а матери. Поставила та вовремя свечку да помолилась от души. Но умирал Шлыков, не о матери думая, не о Родине или возвращении в часть – о пацанах, что гибли один за другим. И еще одно не давало покоя – злость на «духов», на козла Головянкина, который так бездарно угробил ребят, смешивалась с яростью на себя, бессильного что-либо изменить, спасти хоть кого-то. И опять вставала перед глазами Олеся.
Он упал, прикрывая Чендрякова, решившего геройски погибнуть. Граната и выстрел остановили Павла. Пуля попала в челюсть и, раздробив кость, вышла через щеку. Осколки впились в лицо и грудь. Шлыков рухнул лицом вниз на камни.
С ними случилось самое страшное, что могло случиться, – они попали в плен.
Чендрякова с простреленной рукой и Шлыкова с кровавой маской вместо лица и изрытой осколками грудью «духи» тащили в Пакистан. Павел не понимал, почему его не пристрелят. А Чендряков зло щурился, то и дело вполголоса ругаясь, помогал ему переставлять ноги:
– Держись, старлей, выкарабкаемся.
Павел так не думал, но вида не показывал, а говорить не мог совсем. Кожа клочьями свисала с лица, вызывая смех у душманов. Они с удовольствием тушили папиросы в ранах старлея и смеялись. Под «косяк» оно самое то, забава…
Сашка стирал зубы до корней от злобы и бессилия и, разжевывая хлеб, что иногда им давали, засовывал в рот Шлыкова.
– Держись, выкарабкаемся, – шипел на ухо.
Павел прикрывал веки, соглашаясь: обязательно. И думал: вот только б раны на груди поджили, а лицо?.. Неужели бросит его Леся, увидев таким? Нет, не из тех она, чтоб отвернуться, пройти мимо, сделав вид, что не заметила. Но сердце все равно леденело от одной этой мысли…
В холоде, голоде, под постоянными пытками и издевательствами они не сникли, не умерли. Чем сильней их пинали, тем больше они хотели жить и держались вопреки всему и всем – на одной лишь злобе, на одном желании отомстить.
Раны Павла на груди поджили, он мог уже двигаться, и больше не был обузой Сашке, а тот, наоборот, стал сдавать, слабеть. Рука перестала чувствовать и висела плетью. «Левая, – щерясь, посмеивался Чендряков, – значит, стрелять смогу!»
В ноябре произошло то, что обычно называют чудом, – отряд душманов взял в кольцо «Каскад». Павел и Сашка не стали ждать, решив, что это тот самый единственный шанс, когда либо грудь в крестах, либо голова в кустах, и устроили бой внутри. Они смогли завладеть оружием благодаря тому, что «духам» было не до них, да и не ожидали они, что эти двое, больше похожие на тени, чем на людей, способны взбунтоваться. Их попытались прирезать, а в итоге сами легли на камни.
Когда все закончилось, Павел сидел в обнимку с автоматом и улыбался. Сашка качнул головой:
– Не улыбайся, а, старлей? Очень тебя прошу – смотреть жутко. Прямо брат Франкенштейна…
Павел хрюкнул, прикинув, как вытянутся сейчас лица пацанов, что уже виднеются за камнями.
Потом была «вертушка», госпиталь, допросы особистов, дружеское похлопывание по ладони:
– В рубашке родились.
И скептицизм врачей, жалостливые вздохи сестричек – на Павла без содрогания смотреть было нельзя. Да он сам, увидев свою физиономию в зеркале, содрогнулся – сам себя не узнал, куда матери или Олесе. Да и зачем красавице такой ужас рядом?
Пошутил Сашка насчет Франкенштейна – у того личико было всяко симпатичнее.
Чендрякову ампутировали кисть и готовили к комиссованию. Шлыкова решили отправить в Москву, отдать в руки светилам лицевой хирургии. Нужно было что-то решать с Олесей, но Павел боялся, да и говорил с трудом, невнятно, противно гнусавя – носовые хрящи неправильно срослись и мешали нормально дышать, не то что говорить.
В метаниях меж «хочу», «надо» и «лучше пусть считает погибшим» прошло две недели. За это время он написал Олесе двадцать писем и… ни одно не отправил. Сашка только вздыхал и смотрел на него, то ли сочувствуя, то ли скорбя. И хоть пытался подбодрить, но слова выходили фальшивые, неубедительные, еще больше опускающие в пучину депрессии.
«Зачем я ей такой? Одним видом напугаю», – убеждал себя Павел, а сердце ныло: Олесенька, Олеся… Хоть бы на миг увидеть, хоть вскользь. Голос услышать, ощутить запах ее волос, за руку подержать…
Ни разу, ни на секунду у него не возникало мысли, что с ней могло что-то случиться. Ведь он жив, выжил ради нее, благодаря ей – значит, и с ней не может случиться беды.
Сашка и Павел курили на крыльце, когда привезли раненых. Каждый раз Шлыков в таких случаях стремился к приемнику, надеясь увидеть своих, нет, не раненых, а живых, здоровых сопровождающих: Вику, Веру Ивановну. И вот наконец повезло – они увидели Рапсодию.
Павел выжидательно покосился на Чендрякова, тот все понял и, спрыгнув через перила, пошел к медичке. Шлыков остался ждать, не желая показываться на глаза женщине в таком виде, и выкурил пачку «примы», в тоске и волнении ожидая вестей.
Прошел час, пошел второй. Рапсодия уехала, раненых разместили, оперировали уже, а Сашки все не было. Именно тогда в голову Павла и закрались страшные подозрения, но он подумал, что Леся, наверное, сошлась с кем-то или вышла замуж, поэтому Сашки нет. Он не знает, как это сказать старлею, который давно уже не начальник для него, а друг. Другу такие вести трудно принести – офицеру-то куда ни шло…
Шлыков выкурил последнюю папиросу из пачки и пошел искать Чендрякова. Тяни не тяни, а все к одному, и быстрее бы… Невыносимо плутать в дебрях переживаний, метаться от отчаяния к мечте. Он хотел ясности, пусть самой плохой, но четкой, чтобы знать – что дальше, чтобы решить наконец для себя – рискнуть проявиться или так и остаться для Леси погибшим. Хотя наверняка уже знает, что он жив… и не появилась. Вот и еще одно доказательство, что не нужен он ей, забыла. Олеся? Нет, она не могла, она не такая, как все, она любила искренне, честно, чисто…
Шлыков нашел Чендрякова на заднем дворе, тот курил и глотал слезы, вжавшись в стену, прячась от всех. Серое лицо, больной взгляд и трясущиеся руки можно было худо-бедно объяснить, но слезы? Павел без сил опустился рядом, ему показалось, что он оглох и потерялся. Ему было невыносимо страшно, что Чендряков сейчас откроет рот и озвучит то, что еще можно не знать, оставить в догадках, версиях.
Сашка молча вытер слезы и достал из-за спины бутылку водки, пустую наполовину:
– На, – протянул не глядя.
Павел взял, ничего не соображая и еще пытаясь поймать взгляд парня, уловить в нем не скорбь и боль, а презрение, злость.
– Помяни Лесю… светлая была девчонка…
Павла качнуло. Он сполз по стене и закрыл глаза: нет, пожалуйста, нет! Ее-то за что? Ее-то как? Нет, да вы что, братцы?
– Я говорить не хотел… один бы помянул… Какого рожна ты, старлей, приперся?!
Нет, Павел не упал, не завыл, он молча выпил водку, почувствовав лишь противный привкус теплого спирта, и уставился перед собой, слушая отрывистый рассказ Чендрякова:
– Застрелилась она… Нас в горы тащили, а она в это время… Головянкин, сука, надо было его положить, шмальнуть в спину, и по хрену на дисбат. Суки все. Кузнецов слышал, как Головянкин ее тобой шантажирует, мол, либо под меня, либо твой в горы. А мы уже там… И ведь, сука, Кузнецов, хоть бы заступился! Головянкин ее, падла… А она еще и о тебе узнала, что убили и… Ягода, гад тоже, пистолет ей дал. Она Головянкина застрелила, а потом в себя. Барсук ее прооперировал, шанс был выкарабкаться, а «вертушки» накрыли: одну – туда, другую – обратно. Нет теперь подружек – ни Вики, ни Олеси. Крындец, старлей… Свира на… Сейчас Батурин за комбрига, а Соловушкин замкомбрига. Кузнецова тоже на… и Зарубину по самое не хочу влетело. А какая, на хрен, разница?
У Чендрякова были одни маты. Злость и боль раздирали Сашку, а Павел словно перестал что-то чувствовать, заледенел – ни мыслей, ни слов. Тишина, пустота. И слез нет. Сердце как сжалось в комок, так и осталось камнем, и в нем, внутри, закрытая от всех Олеся смотрела в небо, смеялась над его прихотью купить ей красную кофту, доверчиво прижималась к нему, ища спасения от той грязи и боли, в которую окунулась с головой. Там она осталась живой, его.
Новый год он встретил в Союзе. Ему сделали нос и челюсть, сляпав кое-как из раздробленных, неправильно сросшихся костей, но вид от этого лучше не стал. Мать плакала, а Павлу было все равно. Ему вообще было все равно. Он жил по инерции, потому что надо, а зачем – даже не хотел задумываться. Год реабилитации был для него самым тяжелым. И не потому, что на него косились, шарахались как от чумного – плевать ему было на это, а вот на бардак, что творится кругом, вторя бардаку в его душе, – нет. Он не понимал, зачем воевал, за что их убивали. Он то пил, то душил сам себя виной за то, что не уберег Олесю, и хотя понимал – не мог, не смог бы, легче не становилось. Он то злился на нее за то, что она такая чистая, что не смогла пережить насилие, и все-таки с подобными взглядами на жизнь записалась служить в Афган. То плакал, грызя зубами подушку, кляня себя за то, что не отправил ее в Союз, не смог настоять и сохранить ее хотя бы для нее самой.
Вскоре он понял, что сходит с ума и сводит с ума мать и сестру, что рано или поздно либо удавится от тоски и грызущей его ярости на всех и вся, либо сопьется иди пойдет к браткам. И выбрал возвращение в строй, решив подучить честную пулю, а не трусливую удавку на шею.
Афган закончился, но закончилась ли война? Десять лет она шла там, а потом пришла в Союз, словно прилетела с последним раненым, словно вошла на Родину вместе с последним подразделением сороковой-роковой армии.
Кто-то из «афганцев», как называли теперь воинов-интернационалистов, честно пытался жить, как все, но контуженные в горах и степях Афганистана с трудом воспринимали действительность – их не понимали, их не принимали, а они хотели всего лишь справедливости. Но ее не было на просторах Родины, как не было в горах Кандагара, Джелалабаде и Кабуле. Кто-то от безысходности, кто-то не представляя себя иначе, как с оружием в руке, кто-то в надежде не получить, так взять силой, кто-то с желанием хоть что-то изменить, начали жить по своим, привычным им законам войны.
Шлыков, глядя на развал в стране и армии, видя, как мать пытается накопить деньги ему на пластическую операцию, пошел к своим. Поговорил с друзьями и братьями и встал в строй, освободив мать от иллюзий и пустых трат, а себя – от бездарной траты жизни. Руки, ноги, органы у него были целы, а что лицо страшное, так войне все равно…
Его миновало сокращение, благодаря тому же Зарубину и другим хорошим знакомым. Его ценили и не спешили убрать из армии.
Десять лет по всем «горячим точкам» в поисках пули ни к чему не привели – он жил, он жив. Да, он получил звание подполковника, смог сделать пластическую операцию, нашел свое место в ФСБ и даже перетянул к себе на службу своих братьев, но чем дальше шел, чем выше поднимался, тем меньше понимал, зачем шагает вообще.
Олеся…
Сколько было Лен, Кать, Оль, утех для тела, напоминаний самому себе – ты еще живой и рано или поздно очнешься, забудешь синеглазую Лесю, сможешь начать все сначала. Но ничего не случалось – память не отпускала, боль не притуплялась, и камень в груди оставался камнем, хранящим самую чистую и светлую любовь, что Павел испытал в своей жизни.
Может, женщины ему не те попадались, может, сам был скроен иначе, но ни разу за шестнадцать лет не дрогнуло в груди, не позвало, не потянуло навстречу. И он уже не надеялся, как в принципе и не хотел ничего – просто жил: вставал, работал, ел, ложился спать. День, ночь – сутки прочь. А там год, второй… Жил, но оглянись – и вроде не жил. Только задания, пули, смерти, игры с чужими жизнями во имя Родины, то ли во имя вышестоящих власть имущих. И получалось, что от сорока лет его жизни есть только те четыре месяца службы под Кандагаром, жаркое солнце, злые горы, кишащие душманами, коричневый песок и Олеся.
И думалось все чаще – а зачем продолжать ход, если главное уже позади? И повтора не будет, на какой бы виток спирали ни пошли события, и все пустота, суета, называй ее, как хочешь: долг, обязанность, служба Родине.
Страшно об этом думать, но еще страшнее понимать, что и долг, и Родина – это не герб, не флаг, не красивые речи, а погибшая Олеся, и мать, что умерла в августе. И зачем ты живешь – неясно, и зачем что-то делаешь – непонятно. По инерции, по привычке доживал отмерянное. Бессмысленное, как его ни называй. Он был словно дерево, подточенное изнутри жуком-древоточцем – снаружи крепкое и даже зеленеет, а внутри давно превратилось в труху, и очень удивляешься, почему еще стоит, ради чего держится, с какой радости зеленеет?..
Он спешил на похороны матери по телеграмме сестры и случайно, по привычке внимательно осматриваться, выцепил в толпе знакомое лицо. Уже на выходе память, сопоставив прошлое и настоящее, выдала портрет. Шлыков остановился и рванул обратно, еще не веря, что не ошибся, и очень надеясь, что его не посетила галлюцинация. Да и подумать – бред! Все эти годы, так или иначе, он возвращался к теме гибели Олеси. Судьба сталкивала его с людьми, помнившими то время, события, лица, и все они подтверждали – погибла.
Лет пять назад он обстоятельно беседовал с Барсуковым, который теперь заведовал отделением пластической хирургии и сделал Павлу новое лицо, приятное, молодое, но что за радость, если лицо вернули, а Олесю – нет.
Барсуков подтвердил то, что Шлыков уже знал, до мелочей изучив факты, – Леся вряд ли бы выжила, даже если б не грохнулась «вертушка». А вот Вика погибла странно – не вместе с подругой, а с «вертушкой», уже возвращающейся в бригаду, на глазах Голубкина. Это Павел тоже уже знал и даже виделся с Михаилом, который уволился из армии, стал депутатом городской думы. Он женился, растил двух сыновей и очень удивлялся, что Павел при своей должности и профессии не завел жену с детьми.
– Заводятся обычно тараканы или блохи, – бросил тогда Шлыков.
Вот так, вроде и служили вместе, и любили в одно время, а жизнь сложилась по-разному. Впрочем, Павел даже немного позавидовал Михаилу, который смог забыть, вновь полюбить, наладить жизнь.
И если б не та встреча в аэропорту, Павел, наверное, поддался бы уговорам сестры познакомить его с очень умной, доброй, хозяйственной женщиной. Но голова была забита другим. Та незнакомка так и стояла перед глазами, и он готов был поклясться чем угодно – это была Олеся. Уставшая, с потухшими глазами, блекло одетая – и все-таки живая, на удивление не постаревшая, стройная, синеглазая.
Он поднял все рейсы, но не нашел знакомой фамилии, имя же – Олеся – встретилось три раза. Одна оказалась дородной украинкой, вылетевшей в Москву с баулами больше нее самой, другая девочкой пятнадцати лет, третья двадцатипятилетней женщиной с ребенком. На всякий случай он скопировал списки пассажиров на рейсы Москва – Новосибирск и начал потихоньку проверять, не столько надеясь обнаружить Олесю, сколько успокоить самого себя и расшалившееся в пустой надежде сердце.
В ноябре дела службы свели его со старым другом Гариком Полонским, с которым еще в Кабуле лежали в одной палате на соседних койках. Вечером Гарик пригласил его к себе, познакомил с женой – красивой, обаятельной женщиной. Они пили коньяк, вспоминали прошлое, говорили о будущем. Гарик принялся показывать фотографии, рассказывая о своих армейских друзьях, потом переключился на сегодняшних знакомых, а Павел листал альбомы, внимательно разглядывая счастливые лица молодоженов, хронику чужой жизни в поездках на пикники, дачу, празднование дня рождения и Нового года. И вдруг – Леся!
Шлыков долго рассматривал снимок, на котором Олеся, какая-то озорная рыженькая девчонка и Маруся Полонская обнимались перед объективом у новогодней елки.
– Кто это? – ткнув в лицо Олеси пальцем, спросил Павел у Гарика.
– A-а, Изабелла, подружка Марусина. Понравилась? Хочешь, женим? Она холостая, одна девчонку поднимает. Баба хорошая, отвечаю…
– Подробнее можно?
– Действительно заинтересовала? – прищурилась Маруся на гостя.
– Очень. Красивая. Но хотелось бы знать подробности, прежде чем знакомиться. Мало ли…
– Понимаю, – закивала женщина. – Но бояться нечего, не знакомится она ни с кем. Я уже пыталась ее свести с мужчиной, но безрезультатно, пару раз встретилась и больше желания не проявляет.
– Может, не с тем знакомили?
– Да нет, положительный мужчина, добрый, умный, массажистом работает у нас, кандидатскую защищать собирается. Андрей Самохин. Помнишь, Гарик? Зинка у негр жена, взбалмошная такая, крикливая? A-а, – махнула рукой, увидев недоуменный взгляд мужа. На гостя переключилась. – Не в нем дело – в ней. Бэлла, как отца дочери похоронила, так одна и живет. Любит, видать, до сих пор. Она даже сюда уехала, чтоб о нем ничего не напоминало.
– Откуда уехала?
– Из Санкт-Петербурга. Тетка у нее там осталась.
– А, скажите, Маруся, в августе Изабелла в Питер ездила?
– Да, – немного удивилась вопросу хозяйка. – Дочь устраивала в институт, в августе домой вернулась. Девочка теперь там, она здесь, – и вздохнула непонятно отчего.
Павел задумался: как бы выпытать осторожно, не вызывая лишних вопросов у Полонских. Ведь не мог он ошибиться, не мог, но как же такое возможно? Двойник?
– Девочке-то сколько лет?
– Восемнадцать. Девятнадцатый пошел.
У Олеси был ребенок, и он того не знал? Ерунда. Она неопытна была в постели, девственница. Да и Барсуков сказал, что детей у Олеси не могло быть после операции – пришлось удалить поврежденные органы слева. А тот, что был, родиться не мог, по той же причине – удалили.
Тогда как же нарос ребенок?
Значит, не она?..
– Скажите, Маруся, а шрамов у Изабеллы нет? Слева на животе?
Женщина внимательно посмотрела на него:
– Странный вопрос.
– Понимаю, и все-таки прошу: ответьте, это очень важно для меня.
– Есть шрам. Послеоперационный рубец, как раз слева, – бросила и отвернулась. Видно, тема эта была ей неприятна, а Павел от ответа сам себя потерял. Плеснул полный бокал коньяка и выпил залпом под обалдевший взгляд Гарика.
Как же ты могла, как же ты, Леся… Глупая… милая…
– Что с вами, Павел? Разволновались… Знакомая?
– Нет, – бросил, играя желваками и еще не зная, чего хочет больше: пойти прямо сейчас к ней и сказать все, что думает, накричать, обвинить, выплеснуть все, что пережил, передумал за эти годы, а потом обнять и больше не отпускать. Или справиться с собой, сдержаться – познакомиться, как посторонний, и посмотреть на любимую, как она себя поведет, а потом признаться, кто он.
«Водевиль!» – тряхнул челкой и потер затылок.
– Расскажите о ней все, что знаете. – Он не просил, он приказал. Маруся выгнула бровь, оскорбленная и растерянная таким тоном. Гарик крякнул, переглянувшись с супругой:
– Ну ты, старичок…
– Извини, – сообразил Шлыков. – Но мне очень важно знать про нее все, только чтоб она не знала…
– Она что, в розыске? Опасная преступница? – не скрыла сарказма Маруся.
– Нет, обещайте, что не скажете ей, и я скажу, кто она.
– Но…
– Только так и не иначе.
– Будь по-твоему, – тут же согласился заинтригованный Гарик. Полонская же с минуту сверлила взглядом гостя, видимо, соображая, а не послать бы его по холодку в ночь и неопределенность? И все ж любопытство победило.
– Хорошо.
– Вам можно верить?
– Мне можно, и ей, если я сказал, – заверил Полонский.
– Я не настолько глупа, чтоб идти поперек спецорганов, – начала злиться бестактности Шлыкова женщина.
– Извините, Маруся, но может получиться путаница, которая приведет к волнениям, абсолютно не нужным в данном деле. Насколько я понимаю, она ваша подруга?
– Да.
– Давно дружите?
– Очень. Ляля, дочь Бэллы, девочка болезненная, я тогда педиатром на их участке работала, встречались чуть не каждый месяц, а то и неделю. Так и подружились. Шестнадцать… нет, пятнадцать лет уже, как они переехали к нам.
– Из Питера?
– Не-ет, – задумалась женщина, видимо, раньше об этом она не думала. А тут в свете интереса федерала приняла за странность. – Из Надыма, кажется.
– А девочке, сколько лет было?
– Три. Роды нормальные, в срок, – протянула задумчиво.
– Отец кто?
– Понятия не имею. Бэлла эту тему всегда обходила. Знаю, погиб до рождения девочки.
– Где?
– Не знаю.
– Фамилия?
– Да не знаю! У девочки и матери одна фамилия: Томас, девичья, Изабеллы. Не регистрировалась Бэлла с отцом ребенка.
– Но хоть как звали его знаете?
– Павел. Ляля «Павловна» по отчеству.
Шлыков забыл, о чем спрашивал. Он уставился на фото, пытаясь найти хоть малейшее сходство девушки с собой. Ноль. Это что получается: у него есть дочь, а он не в курсе?
Выходит, либо он ошибся, и никакая Изабелла не Олеся, и у него обман зрения, либо Олеся родила ребенка и записала на него.
– Ерунда какая-то, – нахмурился. – Она служила?
– Кто? – в унисон воскликнули Полонские.
– Томас.
– Где? – начала раздражаться Маруся.
– В Афганистане.
– Да вы что?! Нигде она не служила!
Гарик же не разделил мнения супруги. Взял в рот кусочек лимона, прожевал, задумчиво поглядывая на тарелки, и выдал:








