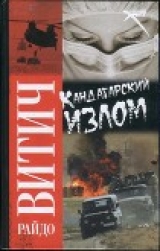
Текст книги "Кандагарский излом"
Автор книги: Райдо Витич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Ишь, кошка сытая, – хохотнула появившаяся с полотенцем Галка. – Поздравить, что ли?
– Поздравь, – неожиданно мурлыкнула я.
– Ну-у… удачи, – пожала та плечами, слегка озадачившись.
– Чего светишься? – полюбопытствовала Вика.
– Па-аша-а, – протянула я и, подперев подбородок кулаком, с блаженной улыбкой уставилась на подругу. Та нахмурилась:
– Кто еще знает?
– А что? – Я даже немного обиделась, что она не разделяет моей радости.
– Головянкин узнает, он твоего Пашку сгноит.
– Да шел бы он! Какое он имеет право вмешиваться? – посерьезнела я и напряглась, понимая, что с него действительно станется.
– Ох, Олеська, – ткнулась мне в плечо подруга. – Что ж ты невезучая такая?
– Я везучая! – процедила, внутренне холодея. – У меня есть Павел. И пока он жив, жива я. Пока жива я – жив он. Я отмолю его у смерти, заберу, слышишь?! И не смей думать плохое, говорить мне. Не зови смерть и беду раньше времени!
– Конечно-конечно, прости, Олесенька. – Подруга погладила меня по руке. – Мы вместе. Один за всех и все за одного.
– Да, и не иначе.
Вечером Павел притащил мне кассетник, поставил очень красивую мелодию:
– Ребята достали запись Криса де Бурга. «Женщина в красном». Говорят, он посвятил эту песню своей жене, единственной любимой женщине в своей жизни. Слышала?
– Нет.
– Про тебя.
– У меня даже красной кофты нет, не то что платья, – рассмеялась я, довольная близостью любимого. Его объятия – все, что мне было нужно. Они превращали мимолетность нашего счастья, зыбкость отношений в нечто реальное, монументальное. Он рядом, его руки обнимают по-настоящему, я чувствую, как бьется его сердце, чувствую запах, исходящий от кителя, вижу глаза Павлика. И прочь все страхи, навеянные Викой.
– Я куплю. Шикарную красную кофту.
– Где?
– В «Березке». На чеки.
– Зачем? – рассмеялась я над прихотью любимого.
– Не знаю, – пожал тот плечами. – Разве тебе не хочется?
– Хочется… тебя.
– Как оно? – щурясь на солнце, спросил Саша.
– Что оно?
– Жизнь, – улыбнулся.
– Замечательно, Сашенька. – Я чмокнула его в щеку.
– Не надо, – дернулся он и достал сигареты.
– Ты что? – Меня озадачил его хмурый вид.
– А сама не знаешь? – Он затянулся, прислонившись к брони. – Ты была когда-нибудь в Сатке?
– Нет.
– Приедешь, если приглашу?
– Не знаю, – призналась честно.
– Ладно… А сама куда поедешь после того, как все закончится?
Я нахмурилась и, встав рядом, посмотрела на новоприбывших, которых Головянкин распределял по взводам.
– Что молчишь?
– Саш, что тебе надо? Сам знаешь, ехать мне некуда, в Курган не хочу, больно. А если намекаешь на то, что Павлик бросит меня…
– Нет, Шлыков скорее гранату в штаб бросит, чем тебя.
– Ну, ты сказал, – хмыкнула я, скрывая радость.
– Я больше скажу. Головянкина видишь? Не знаешь, чего он вторую неделю лютует?
– Намекаешь, что наша бригада – большая деревня?
– Маленькое село. Будь осторожна, Леся, замкомбрига мужик гнилой.
– Что вы меня пугаете? Чем?
– Старлей мужик умный, правильный. Думаешь, он зря тебя приемам рукопашного боя обучает?
– И это знаешь?!
– Я все знаю, сестренка. Даже то, что Шлыков свихнулся на тебе, кофту красную заказал, кучу чеков собрал, чтоб оплатить доставку товара. А еще знаю, что Головянкин зуб на него точит активно. И хочет сплавить на заставу. Слюной брызжет, рапорты на него катая.
Кажется, я побледнела:
– Перестань, пожалуйста. Специально пугаешь?
– А ты еще не пуганая? Эх, Леська, все мне в тебе понятно, кроме одного: откуда в тебе столько наивности? Жизнь цинична, понимаешь, сестренка? Планируешь одно, а она такой фортель выкидывает, что-либо под дых, либо сразу в аут, что одно… одинаково. Запасные аэродромы надо иметь, чтоб точно сесть, а не упасть.
– А этот запасной аэродром ты?
– Чем плох? – наконец посмотрел мне прямо в глаза Чендряков.
– Всем хорош, Саша, да люблю я не тебя, – призналась. – В моем случае нет и не может быть запасных вариантов. Либо Павлик, либо никого, потому что и меня не будет.
– Чешешь? Это ты сейчас говоришь, а случись…
– Это ты говоришь, что понял, а, выходит, ни черта ты, Саша, не понял. По своей невесте чужих невест не меряй. И не смей хоронить Павлика. Он жив и будет жить, понял?! – разозлилась я. – А еще раз услышу – в зубы дам, понял?
– Ты? – удивился искренне.
– Я. И только на себя обижайся потом.
– Ну-ну. Как же таких делают?
– С любовью!
– Расскажешь?
– Нет, ты точно сегодня по лицу схлопотать хочешь…
– Я в смысле про любовь, пошлячка, – криво усмехнулся он. – Каждый думает в меру своей испорченности.
– Ты сегодня не в духе, – заключила я.
– «Духи», они и есть «духи», увидел – убей.
– Ну тебя… – махнула я рукой и потопала в штаб.
Наших отправили на боевое. Мы проводили их украдкой и словно ушли в анабиоз в ожидании. Вика сутки вздыхала, а потом заявила мне:
– Я точно знаю, с Мишей все будет хорошо. У меня… кажется, будет ребенок. Значит, Миша будет отцом, а отцов нельзя убивать, неправильно это.
– Убивать вообще неправильно.
– Да знаю я, – отмахнулась Вика. – Не мешай мне верить в то, что говорю. Мне волноваться нельзя.
– Мне, может, тоже.
– Может?..
– Не знаю еще точно.
Подруга испытывающе посмотрела на меня:
– Что делать будешь?
– То же, что и ты. Ждать. Потом рожать и воспитывать.
– Пашке сказала?
– Да рано. Непонятно еще.
– Вернулись бы…
Они вернулись. Михаил, Павел и все остальные.
Я, не стесняясь, бросилась на шею Шлыкову:
– Я знала, что ты вернешься.
– К тебе и с того света вернусь, – заверил он.
– Леся, я сегодня письмо домой отправил.
– Подвиг, – улыбнулась, искоса поглядывая на любимого. Хорошо, что у него широкая грудь: хоть так ляг, хоть эдак – все равно лицо Павлика увидеть легко.
– Я о тебе им написал, женой назвал.
– «Им»?..
– Маме и сестренке.
– Думаешь, порадуются?
– Уверен. И ждать тебя будут.
– Мне еще до конца срока…
– Расторгни контракт.
– Зачем? Не-ет…
– Олеся, здесь война, сама видишь, что творится.
– Вижу и одного тебя не оставлю. И потом, неустойку платить – разориться можно, – схитрила я.
– Моих чеков мало?
– Конечно, – врать так врать. – У меня большие запросы.
– Скажи, что надо, я достану.
Я начала загибать пальцы, изображая работу мысли:
– Кроссовки, джинсы, орден или медаль, золото очень люблю…
Он схватил меня и перевернул на спину, нависнув надо мной:
– Врушка.
– Откуда знаешь? – улыбнулась лукаво.
– Я все о тебе знаю.
– О, знакомые слова. Говоришь людям правду, а они не верят, еще и обзываются… Вот наглость!
– Тогда где тот золотой браслетик, что я тебе подарил?
– В сумке, чтоб не потерялся.
– Ага? А сумка – Галкино запястье?
– Чего вдруг? – попыталась отвернуться, а заодно отодвинуться.
– А то, – остановил меня Павел, прижимая крепче. – Представь, как я обрадовался, увидев мой тебе подарок у Галки. Зашел в дукан и… Зачем тебе распашонки?
– Не мне, Вике, – пришлось признаться.
– Угу?
– Не веришь? – почти оскорбилась я.
– А можно?
– Пашенька, ну не обижайся, пожалуйста. Галка ведь через три дня ту-ту, а кто на ее место приедет? Вдруг мымра какая-нибудь? Вот я и подсуетилась. Вике пригодится…
– Или тебе?
– Вике!
– Ждет ребенка?
– Это секрет, Павлик, рано говорить, пока только подозрения. Она только со мной поделилась…
– А Голубкин случайно услышал и потому ходит надутый от гордости, как индюк, – кивнул Павел, соглашаясь. Я прыснула от смеха. – В следующий раз, если подарок подруге сделать захочешь, мне скажи, я тебя этими распашонками завалю… Или ее, потому как Голубкин не может.
– Ладно, он – от себя, я – от нас с тобой, – обрадовалась, что все так хорошо закончилось. Но совесть глодала и заставила выдавить извинения: – Прости, что твой подарок обменяла, но ведь Вике нужнее, правда?
Павел качнул головой, не скрывая насмешки и умиления.
– Правда, – согласился нехотя. – Я тебе новый куплю. А одежду для новорожденных ты когда подруге отдать планируешь?
– В смысле? Я уже отдала.
– Ага? Все?
– Э-э-э…
Я мысленно соображала, как и что мог узнать любимый – выходило никак.
– Все, – заверила.
– Значит коробка, что чудится мне в углу, набита газетами?
– А?.. Ты… Она оставила пока здесь…
– У них в комнату не входит?
– Паша! Почему ты такой вредный? – чуть не заплакала я. Вот хотела сделать подарок, но пока вроде рано о чем-то говорить, хоть и хочется очень о самом хорошем думать. Ладно, придется схитрить. – Просто мы еще не рассортировали, кому что. Я себе пару хочу оставить, на всякий случай. Может, и у нас малыш будет. А ты обрадуешься?
– Обрадуюсь, – заверил, не спуская с меня проницательного взгляда. – И с не меньшей радостью посажу тебя на борт до Кабула и отправлю прямым рейсом в Союз.
– Уже избавиться хочешь?
– Олесенька, уезжай! Я боюсь за тебя. Никогда ничего не боялся, ни за кого, а за тебя боюсь. Уезжай, пожалуйста. Мама встретит тебя, поживешь у нас, а там я приеду. Скоро уже. Перемирие объявили…
– Какое перемирие, Павлик? За кого ты меня считаешь? Я что, слепая, глухая, не вижу, какое перемирие здесь, в горах?! Да меня уже колотит от отчетов и сводках о раненых, убитых. Об активизации отрядов Гаюра, которые режут и режут наших… Я где служу, по-твоему? Не знаю, сколько человек, где и когда легло? А сколько раз за последнюю неделю обстреливали наш городок? Сколько заградотрядов выслали?
– Леся…
– Хватит, Павлик, прошу тебя. Я не хочу об этом говорить с тобой. О чем угодно, только не об этом. Не здесь, не сейчас, не с тобой.
Я не смогла скрыть страха. Он просачивался в голос и отравлял сознание.
– Хорошо. Успокойся, будем говорить о стихах и музыке.
– О полонезе Огинского, – фыркнула, чуть успокаиваясь.
– Замучил Головянкин?
– Да, он свихнулся на классике. То танец с саблями, то полонез, то Турецкий марш. У меня уже токсикоз от него!
И тут начался минометный обстрел. Ухнуло так, что у меня заложило уши. Буквально за секунду мы влетели в одежду и выбежали из модуля. Павел сшиб меня на землю возле камней:
– Лежи здесь! Не вздумай подняться! Обещай!
– Обещаю, – кивнула я, не понимая о чем идет речь. Павел вскочил и рванул прочь.
Минут пять я честно выполняла обещание, но по части начал лупить снайпер, и мое обещание было забыто.
Бойцы залегли кто где, и я видела из своего укрытия – их позиция ненадежна. Того самого Малышева, что привез нас с Викой сюда, сняли прямо у БТР. Серьезно ранили Федула – перебили обе ноги.
Я смотрела, как он пытается подняться, и понимала: его сейчас снимут или он истечет кровью. Мы переглянулись с Лазарем, который был примерно на том же расстоянии, что и я от раненого, но с другой стороны. Доля секунды на обмен взглядами и принятие решения, и мы оба рванули к парню. Синхронно подхватили и бегом перетащили в укрытие. Повезло…
Позже Федула отправили в Кабул. Рапсодия и Барсук заверили, что он будет не только жить, но и прилично танцевать, когда поправится. Мы с Лазарем обменялись хлопком ладоней и довольные разошлись. Я пообщалась с нашатырем в тишине и безлюдье, а Лазарь, наверное, с сигаретами и товарищами.
К вечеру вернулись Павел и Женя Левитин, уставшие, злые, но довольные. Им удалось снять снайпера.
Так, день за днем, истек август, начался сентябрь.
Нам прислали новую продавщицу Валентину Самойлову, полненькую круглолицую женщину с блеклыми глазами и выцветшими ресницами. Ее с ходу прозвали Мальвина. Но единственным сходством меж Валентиной и синеволосой девочкой Мальвиной была привычка первой учить и наставлять. Было ей около сорока лет, и она не скрывала, что приехала в Афган за женским счастьем.
Пила она, как лошадь, но иных вольностей не допускала, да и, по большому счету, была женщиной доброй и незлобивой, поэтому гармонично влилась в наш женский коллектив. Через нее я смогла достать Павлику шикарную рубашку на день рождения, продукты, чтоб сервировать почти домашний стол и записи его любимой группы «Воскресенье». Я, Вика и Валентина летали в Кандагар за всем этим богатством и вернулись почти ночью, а потом еще долго радовались, перебирая приобретенные вещи для любимых, и, конечно же, для тех, кто уже жил, но еще не родился.
А утром замкомбрига сделал свой подарок…
Нужно было найти отряд «духов», засевший в горах, и ликвидировать его. Они постоянно меняли позиции и лупили из минометов по гарнизону.
Я содрогалась, отпечатывая приказ: сколько наших погибнет? Второй отряд посылают. Два человека вернулось – Левитин и солдат из нового набора, кажется, Щука.
А сколько уже погибло в городке? «Ложись!!», несущееся над мастью в любое время суток, стало уже нормой. А потом трусцой в горы один отряд за другим… и безрезультатно. Павел с бойцами вдоль и поперек излазил весь периметр.
Сколько я пережила, ожидая его возвращения… Но Бог миловал.
А сейчас начальство задумало послать ребят в горы, непосредственно в район дислокации основной группы «духов», туда, где каждый камень был им знаком и пристрелян. Бойцы будут высаживаться на скалы прямо под носом душманов. Кто возглавит отряд самоубийц? Второй отряд мальчишек ставят под кинжальный пулеметный огонь. На голые камни. Как штрафников.
Руки дрожали, отпечатывая приказ Головянкина – пальцы промахивались, делая опечатки и пропуская буквы.
– …назначить командиром группы старшего лейтенанта Шлыкова.
Нет!!
Рука упала на пробел и соскользнула вниз.
Не-е-ет…
Я с ужасом посмотрела в глаза Голявянкину.
– Что уставились, Казакова? Жалко милого? Каждому свое: вам ноги раздвигать, ему душманов бить, выполняя интернациональный и воинский долг. Все ясно?!
– Пожалуйста, – прошептала одними губами. – Ведь вы можете.
– Могу, – смягчился Сергей Николаевич, вытащил отпечатанный лист бумаги, пробежал по нему взглядом. – Тем более все равно перепечатывать.
Он прошелся по кабинету, делая вид, что читает, а потом положил лист передо мной и, склонившись прямо к уху, вкрадчиво заметил:
– Один раз ничего не меняет и никто не узнает, но твой Шлыков будет жить. Я отправлю другого. Думай: здесь, сейчас, со мной – и твой старлей сидит в бригаде, нет – летит умирать. Даю пять минут. Время пошло.
Как просто: спасти любимого, предав и его, и себя, и отправить на смерть другого.
Мое сердце перестало стучать от одной мысли, что Павел погибнет. А цена его жизни – жизнь другого и мое унижение.
У меня скрутило живот и сдавило горло от невозможности сделать выбор. Как я буду жить, совершив подлость? А как будет жить Павел?
Но если он погибнет, я не смогу жить, зная, что могла спасти его и не спасла. Я честная, а он мертвый?..
Нет, пусть подло, низко, мерзко, но это будет мой грех, моя вина, и я смогу с ним жить, если будет жить Павел. Но разве смогу? Смотреть в глаза Павлику? На себя в зеркало? Что-то говорить, объяснять? Жить, как жила?
Я застрелюсь…
– Ну, все, хватит думать. – Головянкин швырнул меня на стол. Я пыталась дернуться и была прижата за шею, лицом в карту.
Головянкин взял меня, как последнюю шлюху. Впрочем, я и была шлюхой, хоть и отрабатывала не деньги, а жизнь. Стиснув зубы, смотрела на карту Афганистана и не чувствовала ничего, кроме пустоты и отвращения к себе самой, к замкомбригу и сектору с изломами гор и дорог, квадратиками, обозначающими здания, а значит, людей, жизнь, и надписью черными жирными буквами – Кандагар.
Когда все закончилось, я молча и быстро отпечатала другой приказ на Левитина, отдала не глядя Головянкину и вышла. Мне хотелось вымыться, но душу не отмоешь. Я зашла в медпункт, прошла, не заметив Вику, и хлопнула дверью санкомнаты. Меня стошнило.
Не помню, как я очутилась в процедурной и снова стояла над раковиной, умывалась, а рядом были Рапсодия и Вика, и обе смотрели на меня и молчали. Первой не выдержала Вера Ивановна. Обняла меня за плечи и силой увела от раковины, усадила на кушетку.
– Крепись.
Я моргнула, непонимающе уставившись на нее, вопросительно посмотрела на Викторию. Та всхлипнула, глаза наполнились слезами:
– Их всех. Всех…
– Что всех, кого? – Мне стало холодно.
– Вчера к ночи две группы бросили в горы, старшего лейтенанта Шлыкова и Левитина, – тихо сказала Рапсодия. – Разве ты не знала?
Я закаменела – так вот почему Павел вчера не пришел, вот почему так тихо с утра в штабе и скорбно, и пахнет самогонкой со специфическим запахом жженой резины. Значит, у комбрига и начштаба поминки, а Головянкин…
– Паша жив.
– Олеся, чудес не бывает. Ты же при штабе, должна знать, что в живых осталось семеро солдат.
– Все?! – до меня никак не доходило. Я не знала, как это было ни странно.
– Все. «Вертушка» хлопнулась. Прямое попадание… Его нет, Олеся!
Я внимательно посмотрела на бледную, постаревшую Рапсодию.
– Вы хотите убедить меня в том, что Павел убит?
– Их нет, Олеся… – подала голос Вика.
– И Левитина?
– И Жени Левитина.
– И Лазаря?
– И сержанта Лазарева.
– И Сашки?
– И сержанта Чендрякова.
– И Павлика, – кивнула я и засмеялась: я спасала мертвого, предавая живого. Я совершила подлость, согласившись подставить другого вместо Павлика, и Бог забрал его у меня. Я раздавила нашу любовь, смешала с грязью. Я самая низкая тварь, и нет мне ни прощения, ни оправдания.
Но есть Головянкин, сволочь, гад, которому незачем ходить по земле, раз на ней нет места таким, как Павлик. Головянкин знал, что его уже нет, и помог мне предать его память, растоптал его, растоптав меня. Впрочем, моя вина, мое и наказание, но понесем мы его вместе. Твари не должны оставаться в живых. Тварям место в аду.
Я встала и молча вышла. Нашла Ягоду и попросила у него пистолет.
– Зачем? – насторожился он.
– Дай.
Он нехотя дал. Я сняла ПМ с предохранителя и пошла.
– Эй, Олесь, ты куда?
Я не обернулась, не замедлила шаг.
– Ригель! – закричал за спиной Ягода, призывая друга. Напрасно. Меня никому не остановить. Главное – не промахнуться.
Я прошла в штаб, пнула ногой дверь в кабинет Головянкина и, увидев его сидящим за столом, вскинула ПМ. Первый выстрел откинул замкомбрига к стене, второй украсил лоб дыркой, третий – на всякий случай – лег рядом, в переносицу, а четвертый – себе, в висок.
– Леся!! – ударило по ушам, руку схватили, сжали запястье, выворачивая его. Я смотрела в глаза Кузнецова и видела себя – низкую тварь, шлюху. Последними усилиями я нажала курок. Пуля вошла в брюшину, взорвала живот и застряла в тазу. «С такими ранениями не живут…» – подумала, уже падая, и улыбнулась: «Хорошо!»
Сквозь туман поплыли лица Свиридова, Кузнецова, Ригеля, Вики, Рапсодии, Барсукова. Фрагменты взглядов, обрывки фраз – коллаж из того, что еще совсем недавно имело значение, и вот превращалось даже не в память – в пыль.
Я очнулась ранним утром. Небо, окрашенное красноватыми всполохами, солдатское одеяло, край бетонки, рядом Вика, ее заплаканное лицо и губы, которые шепчут:
– Олесенька, Олеся…
Она пыталась что-то сказать мне, но я сильно хотела пить и ничего иного до меня не доходило.
Когда я очнулась во второй раз, солнце уже вовсю припекало. Вокруг стояла суета, гомон. Раненых грузили на два борта. Рядом со мной опять была Виктория. Она уже не плакала.
– Олеся, ты слышишь меня? Олесенька, кивни, это очень важно, или моргни. Олеся?..
Я нахмурилась, это показалось ей достаточным знаком, и она зашептала, склоняясь надо мной:
– Олеся, Головянкин мертв, из Кабула прилетает комиссия, тебя отдадут под трибунал. Барсук вытащил тебя с того света, он Сотворил чудо – ты будешь жить, обязательно будешь… но ребенка не будет – вообще, никогда. А еще тебя ждет трибунал, суд, тюрьма. Олеся… сейчас нас начнут грузить… Я поменяла документы. Я не знала, как тебе помочь, а тут девушка с фактически тем же ранением, что и у тебя. Единственное – другая группа крови. Но я подправила историю болезни и приписала тебе амнезию. Жетон я тоже поменяла. Ты теперь Изабелла Валерьевна Томас, слышишь, Олеся? Ты Томас Изабелла Валерьевна, запомни. Бригада Шаталина. Она полгода служила и попала под обстрел… В госпитале ничего не говори, молчи и все, у тебя шок, амнезия от кровопотери. Тебя комиссуют. Уедешь к нам, я напишу маме, она тебя встретит, поживешь пока под чужим именем, а потом я вернусь и что-нибудь придумаем… Мы грузимся, потерпи.
Я смотрела на Вику, силясь понять, что она говорит.
Меня погрузили на борт, рядом села Вика:
– Они улетают. Ты, твое прошлое там, история болезни, жетон. А ты теперь раненая Изабелла Валерьевна Томас, – шептала в самое ухо.
Какая Томас? Что за бред?
Мы набирали высоту, качнуло. Вика сжала мне ладонь:
– Держись, ты должна жить… Что же ты натворила с собой! Дождись меня, ноги в руки – и домой, а там решим. Главное, чтоб тебя не посадили из-за какого-то урода. Ты, главное, молчи в госпитале, это никого не удивит… а вы похожи с Изабеллой.
Что-то грохнуло, послышались минометные залпы, потом взрыв. Вика прилипла к иллюминатору.
– Второй борт накрыли…
Наш самолет качнуло, и меня скрутило от боли.
– Изабелла, ты – Изабелла. Терпи, она мертва, а ты жива. Забудь все, что было. Я умоляю тебя, подруга, послушай меня, не выдай, а то и я с тобой, под трибунал… ради меня, сделай всё, как я говорю.
Уже теряя сознание от болтанки, я подумала: какое имеет значение все, что говорит подруга?
Ведь Павла нет, значит, нет и меня.
В Кабульском госпитале я пролежала чуть больше месяца и превратилась в законченного интраверта. Я не разговаривала вообще. Не хотела. Мне хватало внутренних диалогов с собой и Павликом. Зачем я жила? Я не задавалась этим вопросом, мне казалось вполне закономерным, что меня не приняли на тот свет, оставив мучиться на этом, отрабатывать вину, а значит, я должна дышать, смотреть, слышать – жить. Впрочем, можно ли назвать жизнью жизнь растения? Меня кормили, я ела, говорили «иди» – шла. Со мной мучились, пытаясь вызвать на разговор, я упорно молчала и лишь кивала или мотала головой, но даже не смотрела в глаза.
Я свыкалась с новой жизнью, как с новым именем. Та глупая девчонка, патриотка-мечтательница, совершившая подлость, убивая любимого и потерявшая всех и всё – мертва. От нее не осталось ни следа – лишь память и совесть, внутренние судьи и палачи. Но если нет Олеси, то некого и судить, а если есть, то тем более незачем судить, потому что ей незачем жить…
Я решила закопать ее и похоронить, как похоронили ту, что взяла на себя ее имя. Потом увидеться с родными Изабеллы, отдать заработанное дочерью, порвать военный билет, вычеркнув не только из памяти – из жизни эти месяцы, исправить паспорт и уехать туда, где никто меня не знает.
К середине октября меня комиссовали вчистую.
В Кабуле в ожидании оформления документов и борта в Союз я сидела на пересылке и совсем не удивлялась тому, что всё заканчивается там, где началось. Мне не было страшно, что меня узнают те, кто отправил нас с Викой в бригаду Свиридова – мне было все равно. Может, поэтому и не узнали? А может, я до неузнаваемости изменилась? Этот вопрос меня тоже не занимал. Я сидела, опираясь на палочку, которую подарили мне ребята из госпиталя, и смотрела на двух новоприбывших девчонок, вернее, девушек и женщин. Одной было лет тридцать, другой двадцать три максимум. Они бросали на меня украдкой любопытствующие взгляды и, казалось, завидовали бравой вольнонаемной, которая умудрилась получить ранение.
А я на их месте видела себя с Викой, наивных девчонок, приехавших на войну, не зная по сути, что это такое. Книжки, фильмы искусно культивировали в нас патриотизм, взывая к долгу, чести и прочим, очень нужным человеку вещам, но они скрывали правду о войне. На ней подвиг был нормой, и совершал его не только тот, кто бросался на амбразуру, но и тот, кто сохранил себя, пройдя сквозь грязь, боль, цинизм, повседневные трудности и опасности. Кто не сломался, как я, не омертвел и не очерствел.
Женщины тихонько переговаривались, обсуждая повышенное внимание мужчин к их персонам, а я думала, что в Афган прибыли «чекистки»[1] и «жены»[2], но вряд ли «интернационалистки»[3].
Мне, как той женщине, отправленной в Союз за аморалку, многое хотелось им рассказать, но у меня не было ни сил, ни желания открывать рот, произносить пустые для них слова, вдаваться в подробности, убеждать в том, чего они не знают, а поэтому не поймут и не поверят. У каждого свой путь к эшафоту, свои грабли, свои шишки.
Ко мне подошел молоденький лейтенант и, отдав честь, подал документы.
– Спасибо, – кивнула я, убирая их.
– Вас проводить? Пойдемте, я помогу. Борт пришел, грузятся.
– Спасибо.
Он подхватил небольшую сумку – все, что еще в гарнизоне собрала Вика, и мы двинулись к взлетной полосе. Там меня перехватили ребята:
– Давай, сестренка, помогу, – улыбнулся черноволосый парень из дембелей – голубой берет. Я не смогла сдержать ответной улыбки:
– Если не трудно…
– Мне не трудно, – заверил он, глядя на меня с искренним сочувствием. Мы были с ним равны, и он это признавал. Нам не нужно было говорить, чтобы понять друг друга, достаточно посмотреть в глаза друг другу – там была боль, одна на весь контингент служивших, служащих и отслуживших в этом аду. Его друг, светловолосый парень покрепче телом, подхватил меня на руки и понес по рампе самолета внутрь.
– А ну-ка ноги подобрали! – гаркнул, сгоняя с прохода бойцов. – Исчез, салага, – процедил конопатому первогодку. Тот просто сдвинулся, освобождая мне место.
– Что-то негусто… – Он покосился на сумку, что легла у моих ног. Его подняли за шиворот и вытолкали в глубь салона:
– «Чекистки» другим рейсом, – бросил презрительно светловолосый и сел со мной рядом, черненький с другой стороны:
– Вадим, – подал ладонь.
– Изабелла.
– Владимир, – подал палочку светленький. – Будем жить, сестра?
– Да, – еле выдавила я, кляня себя за невольно выступившие слезы. Парень ласково сжал мне ладонь:
– Где служила?
– Под Кандагаром.
– Долго?
– Полгода.
– На всю жизнь хватит, – кивнул с пониманием. – Куда сейчас?
Я пожала плечами.
Парни переглянулись и сразу решили, не задавая больше вопросов:
– Тогда с нами, в Ленинград.
Я опять пожала плечами – мне было все равно.
– Ничего, сестра, уляжется. Главное – живы, главное – домой летим.
Рампа закрывала обзор, поднимаясь вверх. Исчезла полоска бетонки, коричнево-серые скалы…
Прощай, Афган!
Ташкент одарил нас персиками, абрикосами и дынями. Мы сидели с ребятами, поглощая сахарные ломтики дыни, дожидаясь самолета на Москву.
Я смотрела на снующий народ и еще не понимала до конца, что все позади и больше не будет команды «ложись», смертей, взрывов, запаха антисептика, солярки и самогонки, жужжания «вертушек», дымовых завес, дурных приказов, сволочей-замкомбригов, которые в угоду не Отечеству, но себе любимым решали, кому жить, а кому умирать.
Ребята так же, как и я, смотрели на суету вокруг, словно приехали в цирк. Особо пристальное внимание у них вызывали, понятно, девушки и женщины: коротенькие юбочки, туфельки на каблучках, аромат духов, яркая косметика. Вадим, как блудливый кот, поглядывал из-под полуопущенных ресниц на проходящих мимо красавиц. Володя, смакуя, потягивал пиво и, блаженно вздыхая, чистил мне дыню армейским ножом.
– Дембельнулись, брат! – с недоверием выдохнул Вадим.
– Да-а-а, – подтвердил тот.
– Матери телеграмму отбить надо.
– Да-а-а, – и кинул мне: – Плохо ешь, сестренка.
– Ничего, у наших матерей отъестся, – уверенно заявил Вадим. – Ладно, чего сидеть, пошел телеграмму отбивать. Вы не уходите.
– Да здесь мы. Моей тоже стукни!
– Понял!
Володя проводил друга взглядом, допил пиво и, достав сигареты, закурил, спросив у меня вскользь:
– Тебе сколько лет, сестренка?
Я отвлеклась от лицезрения разномастно одетой толпы, которая поражала меня взглядами, улыбками, гордой походкой, прямой и свободной, легкой одеждой – без бронежилетов. Безмятежностью лиц.
Вопрос собрата доходил с минуту, продираясь меж размышлениями о спокойной жизни окружающих и возрасте убитой Изабеллы.
– Двадцать один, – сказала свой возраст.
Парень нахмурился, искоса поглядев на меня, потер шею, скрывая смущение.
– Что, выгляжу, как пенсионерка, а, оказывается, пионерка?..
– Примерно. – Он не стал вилять.
– Дай сигаретку.
– Без проблем, – протянул пачку, поднес зажигалку. – Ты вообще где живешь?
Я с минуту смотрела перед собой на серую кромку пыли на асфальте и пожала плечами.
– Это как? – Он не удивился, а, скорей, насторожился. – А приписное свидетельство?
Я полезла за документами, достала и протянула ему. У меня не было желания узнавать, как и где жила та, чье имя и фамилию я теперь ношу.
Он долго смотрел в них, потом не менее долго на меня, и казалось, видит насквозь и начнет сейчас вещать мне о прошлом, будущем и настоящем. Я затянулась табачным дымком, готовая услышать все, что угодно, но Володя молча отдал документы обратно и подкурил от окурка вторую сигарету.
– От меня ни на шаг, – сказал тихо, уже много позже, когда в толпе стал виден синий берет Вадима, и пора было идти на посадку.
Москва встретила нас дождем. Володя забрал мои документы и пошел за билетами до Ленинграда, Вадим полулежал в кресле зала ожидания, а я стояла у огромного витражного окна аэропорта и смотрела, как мелкий осенний дождик омывает улицы, машины, скачет каплями по окнам и зонтикам прохожих. Мне стало до слез горько, что Павлик никогда не увидит дождя, как не увидят его те, кто погиб вместе с ним – Сашка, Лазарь, Левитин. Километры имен и фамилий, бездушные списки павших бойцов, но за каждой – сотни жизней матерей, сестер, жен, невест, детей. Мальчишки, не дожившие, недолюбившие и осознавшие четко лишь одно – на войне они пешки. Марионеточное мясо на картах, расстеленных на столах штабов.
И правильно, что ребята никому не верят, становятся жесткими и циничными, сатанеют и звереют от подлости, которой нет конца.
«Мальчики, милые мои, мальчики. Я предала вас, я предала себя… Пашенька… Прости меня, Павлик, прости», – беззвучно стекала слеза по моей щеке, как капля дождевой воды по стеклу.
Володя неслышно подошел, сжал мне рукой плечо:
– Пойдем, сестренка. Сейчас нам надо домой добраться, а там разберемся, – сказал тихо.
Я летела в Ленинград, город, который всегда уважала и который никогда раньше не видела.
Я не заводила разговор о том, удобно ли остановиться в доме Володи или Вадима, необходимости тащить меня с собой – начни я подобный разговор, парни наверняка бы обиделись, как обиделась бы я, поменяйся с ними местами. Мы были одной крови, мы прошли один ад, вышли из одной пасти. И пусть они служили под Джелалабадом, а я под Кандагаром – название того горнила, что сплавило нас воедино, было одно на всех – война, которую мы знали не понаслышке.
Но был и еще один очень знаковый, с моей точки зрения, факт – Ленинград оказался родным городом Изабеллы.
Совершенно случайно, озадаченная поведением Володи, я решила наконец изучить свои документы и поняла, почему парень так странно смотрел на меня. Оказывается, Томас не только жила в их городе и не знала о том, но еще и была мало похожа на оригинал.








