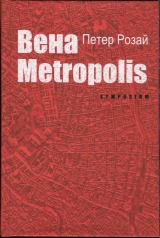
Текст книги "Вена Metropolis"
Автор книги: Петер Розай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Лейто удается выжить. Ему удается устроиться в швейную мастерскую. Вместе с другими пленниками он шьет одежду для немецкого рейха: в основном военную форму, но и гражданскую одежду, фартуки и халаты.
Летом сорок четвертого тех обитателей гетто, кто еще уцелел, отправляют в Освенцим по железной дороге. Лейто определяют в команду уборщиков. В последний момент, когда они сами копают себе могилу – большую канаву прямо на плацу лагеря, охрана неожиданно исчезает – русские на подходе, и у нацистов теперь другие заботы.
Часть II
Глава 1
Альвина фон Траун-Ленгрис, профессор кафедры римского права, преподносит учебный материал, это самое римское право, как эдикт о вечном мироустройстве. Такие институты, как частная собственность, семья и государство в соответствии с ее выкладками являются как бы природными явлениями, дарованными нам – окольным путем определенной, подлежащей точному описанию историчности – всемогущей и милостивой руцей Божией. Рассматриваемый таким образом мир идеально организован и гармонически устроен: и прежде всего – он находится в состоянии полного покоя.
Правда, древние римляне не были христианами. Тем не менее за сгинувшими и позабытыми идолами и божествами античности стоял один, единственный и истинный Бог, от которого все и пошло. И этот особенный Бог в свою очередь чудесно трогательным, умиляющим сердца, – а с другой стороны, абсурдным и невероятным образом, был не кем иным, как тем Богом, которого почитала фрау профессор. Воистину тайна веры! Госпожа Траун-Ленгрис была истовой католичкой, и история была для нее окольной дорогой, путем к Богу, к Единственному, который, опять же весьма странным образом, будучи с самого начала триединым, в течение столетий собрал вокруг себя целый пантеон святых и блаженных, и люди поговаривали, что каждое воскресенье она, повязав на голову платок, в длинном, почти до полу, поношенном пальто традиционного покроя появляется на торжественном богослужении в соборе Святого Стефана.
Альфреду рассуждения Ленгрис в отдельных деталях представлялись весьма курьезными и безосновательными, у него ведь с головой все в порядке, однако аура чудесного, сказочного, которую фрау профессор умела создавать вокруг самых неуклюжих аспектов ее миропорядка, ему нравилась и не преминула оказать на него воздействие. Он ведь так мало знал. Жизнь его совсем еще не обтесала. Правда, он недолгое время и на временной основе был министрантом[7]7
В католической церкви подросток или юноша-мирянин, прислуживающий священнику во время мессы и иных богослужений.
[Закрыть] в маленькой церкви на окраине Клагенфурта, – но главной целью его приобщения было то, что он мог пользоваться футбольной площадкой общины и брать книги в общинной библиотеке. Идею ему подсказал Георг. Оба они, нацепив на себя широкие воротники зеленого, пурпурного или фиолетового цвета и молитвенно сложив руки, преклоняют колени у алтарной решетки.
Альфиной фон Траун-Ленгрис Альфред восторгался на расстоянии. Она была для него чем-то неизвестным и непостижимым. Ее способность представлять слушателям противящуюся описанию и анализу массу фактов в облачной дымке святости, умение заставить эти облака гармонически и живописно проплыть над ландшафтом научных знаний в немалой степени способствовало тому, что она представала в его глазах своего рода жрицей, мудрой феей из того царства, в которое, как казалось, ему совсем закрыта дорога. Ее светлое, с гримасой строгости лицо, окаймленное зачесанными назад волосами, во время лекций представляло собой звучащую маску, парящую в воздухе на фоне деревянной облицовки зала. На этом лице чрезвычайно редко отражались какие-либо личные чувства, не говоря уж о чем-то интимно-человеческом, оно являло собой медиум высшего порядка, о котором она вещала, выражение его власти и осмысленной красоты. Складывалось впечатление, что ее собственный разум в процессе не участвует. Она словно бы озвучивала истины оракула и заветы Закона. Одежда ее, простого и строгого покроя, словно у представительницы монашеского ордена, лишь подчеркивала суть произносимого. Вот только рукам своим, маленьким, нервным и при этом по-мужски сильным, она в определенные моменты позволяла выйти за пределы роли, явить себя слушателям – будь это в жесте, выражающем отрицание и гнев, а то и проклятие, или же в жесте, сглаживающем противоречия, либо в случае необходимости особо подчеркнуть одно из высказанных положений. Иногда, и в этом была особая прелесть, она машинально поправляла локон, выбившийся из прически, или приглаживала ладонями платье.
Госпожа Траун-Ленгрис проповедовала не для этого мира, в котором по улицам ходили трамваи, где в ресторанах предлагали вкусные вещи, где на просторных площадях вспархивали стаи голубей, а мужчины на улице, если никто не видел, смачно сплевывали прямо на тротуар. Она проповедовала Царство Божие как Царство Справедливости – вне времени, вне пространства, вне конкретной цели. Справедливость была той вещью, которая находила цель в самой себе. Вечная справедливость. Если рассуждения профессора все же хоть сколько-то касались этого мира, затрагивали его хотя бы краем, то исключительно потому, что он, этот мир, стоял на службе высоких требований Царства, или, говоря иначе, сквозь преходящие и изменчивые формы посюстороннего и сиюминутного просвечивали черты вечного. Альфред, вопреки своей воле, был от профессорши в полном восторге. Он покидал лекции Траун-Ленгрис, шатаясь, словно от морской болезни.
Другим лектором, чьи лекции Альфред, а поначалу и Георг, посещал, был профессор Викторес, высокий широкоплечий господин с проседью в волосах, красивый мужчина, несмотря на свой почтенный возраст державшийся безупречно, почти спортивно. Одевался он для человека своей профессии и положения подчеркнуто свободно, носил вещи, сшитые по лучшим правилам портновского искусства, даже несколько франтоватые. Однако это нисколько не портило его степенный облик. Держался он всегда подчеркнуто прямо. Он окружал себя некоторым флером современного и динамичного человека. Помимо его научных познаний и дара воображения этому способствовала и его речь, то, как он читал лекции и участвовал в дебатах. Говорил он просто и элегантно, порой не без подковырки, иногда допуская простонародные выражения. Преподавал он национальную экономику.
Он, к примеру, рассказывал, как из первичной сельскохозяйственной продукции и длительных процессов ремесленной обработки в конце концов возникало мануфактурное производство, а затем – современная высокопроизводительная промышленность. Или о том, как соотносится общество с ограниченной ответственностью с глобальным акционерным обществом. Он обнаруживал при этом гигантские запасы знания, разложенные по основным и дополнительным пунктам, прибегал к аксиомам и сентенциям, к неопровержимым истинам и небрежно вплетаемым в лекцию остроумным изречениям, весьма развлекавшим публику, – да, мировой дух может позволить себе иногда пошутить! Профессор Викторес обладал способностью пробудить в своих слушателях и горячий интерес, и восторг, возникающие при вдруг открывающихся им истинах и взаимосвязях. Он раскрывал им взаимосвязи биржи, капитала и политики, или же громко возвещал с кафедры: «Рынок, и ничто кроме рынка есть то место, где творится жизнь!»
В общем и целом он производил освежающее и бодрящее воздействие на души своих слушателей, укреплял их умы благодаря тому, что никогда не допускал сомнения в том, что помимо представленных им моделей и образцов мироустройства мыслимо что-либо другое. Его представления о мире были всеохватны и телеологичны, они простирались до последних пределов, до пределов мира, и таким образом внедрялись в умы и души студентов.
Правда, партия, которую исполняла с кафедры госпожа Траун-Ленгрис, была явно более возвышенной, волнующей, родственной поэзии и искусству вообще. В ее компетенцию входило обозрение целого, устремленного к вечности, вещание о великом и цельном, основополагающем и существующем поверх реальности. В сравнении с этим профессор Викторес производил почти легкомысленное впечатление. Наряду со своей преподавательской деятельностью он был весьма популярным у клиентов юристом и экспертом, человеком, который в жизни и в экономике твердо стоял на ногах и, наряду с прочим, входил в наблюдательные советы нескольких фирм, то есть занимался тем, что хотя и было с общественной точки зрения почетно и весьма денежно, из перспективы госпожи Траун-Ленгрис представлялось примитивным, недостойным и попросту кощунственным.
Однажды Альфред встретил профессоршу на улице. Собственно, он с ней не то чтобы встретился, а чуть не врезался в нее сзади в толчее на Кертнерштрассе. Ну и перепугался же он!
Нисколько не раздумывая, он последовал за ней. Просто пошел следом. И хотя она собственной персоной шла перед ним, в толпе других пешеходов, она одновременно представлялась ему сияющим и призрачным явлением, парящим в облаках.
Сегодня на ней было платье с весьма большим декольте, с плотно облегающим грудь лифом, платье, свободно расходящееся от бедер, открывая колени, своего рода дирндль[8]8
Национальный женский наряд в Австрии и Южной Германии.
[Закрыть], – да, самое настоящее национальное платье, поверх него и фартучек соответствующий, а в руке, которой она, словно ребенок, размахивала при ходьбе, была не дамская сумочка, а висевший на шнурке мешочек с затянутой горловиной. Лицо у нее, и он впервые это заметил, вовсе не было бледным и прозрачным, как он себе это не раз представлял, выглядело оно вполне здоровым и упитанным, на щеках ямочки, ровный ряд здоровых зубов; темные волосы, уложенные в деревенскую прическу с заколотыми сверху косами, открывали затылок и гибкую, подвижную шею.
Через несколько шагов, а он продолжал за ней идти, Траун-Ленгрис неожиданно вошла в холл гостиницы на Кертнерштрасе, она свернула туда так резко, что Альфред во второй раз едва не наскочил на нее, когда она открывала дверь. Как охотник, который неожиданно и с досадой видит, как ускользает от него драгоценная добыча, Альфред бросил ей вслед последний, жадный взгляд. Он разглядел ее быстро протопавшие по каменным ступеням гостиничного холла ноги в белых вязаных чулках, в туфлях без каблуков с серебряными пряжками, и картина эта показалась ему исполненной глубокого смысла: он ее потерял.
Ему повезло. Подобно резным фигуркам в барометре, исчезающим внутри прибора перед дождем и вновь появляющимся в преддверии ясной погоды, Траун-Ленгрис, исчезнувшая было навсегда в холле гостиницы, вновь объявилась за большими витринными стеклами кафе на первом этаже. Дружелюбно улыбаясь, она подошла к группе сидевших там людей, приветствовавших ее весело и одновременно весьма чинно. Там было несколько детей, две дамы, выглядевшие на взгляд Альфреда точно так же, как и Траун-Ленгрис – может быть, ее сестры? Нет, все же не сестры. На обеих – национальные наряды, и прически похожие. Траун-Ленгрис подсела к дамам за столик, на котором уже были сервированы кофе и пирожные. Они сидели вроде бы и свободно, но вместе с тем как-то зажато, держа руки на коленях и лишь иногда позволяя себе сдержанные жесты в сопровождение оживленной беседы.
Главное средоточие этой компании, сидевшей за двумя столиками, составляли мужчины, хотя они и находились несколько поодаль. Двое. Именно в их сторону склонялась оживленная дамская беседа и устремлялись женские взгляды, именно туда был направлен и интерес фрау Траун-Ленгрис.
Одним из них был профессор Викторес! Альфред со своего наблюдательного пункта на улице хорошо видел его: профессор был в светлом, легком, слегка помятом летнем костюме и в белых теннисных туфлях. Он сидел, закинув ногу на ногу, слегка откинувшись на стуле, явно погруженный в свои мысли, время от времени задумчиво проводя ладонью по губам и затем снова обхватывая рукой на колено. Вот он наклонился и поправил сползший носок. Он хотя и беседовал, делая паузы, с другим человеком, сидящим тут же, однако, как вскоре понял Альфред, говорил с ним как бы свысока и для блезиру: произнеся несколько слов, отпустив короткое замечание, он, профессор Викторес, вновь погружался в горделиво-отстраненное молчание как человек, уже высказавший свое компетентное и весомое суждение.
Траун-Ленгрис сидит в окружении детей, один ребенок – миленькая девочка с косичками – старается забраться к ней на колени, и дама ей это милостиво позволяет, продолжая беседу с соседками по столику и играя пухленькими ручками ребенка, но при всем при том время от времени бросая короткие взгляды на Виктореса. Тот длительное время ее взглядов как бы и не замечал, но наконец отреагировал удивленной улыбкой, словно бы говоря: и что теперь, моя дорогая? Траун-Ленгрис откинула голову назад, и под воздействием спокойного и словно бы оценивающего взгляда Виктореса, одновременно выражающего уверенность в чем-то, краска бросилась ей в лицо.
Собеседником Виктореса – Альфред заметил это только под конец, – был не кто иной, как профессор Хюттер, специалист по государственному праву, корифей в своей области, один из самых строгих преподавателей университета! Маленького роста, толстенький, совсем невзрачный, в мешковатом костюме, он сидел, смущенно глядя перед собой.
Этот самый Хюттер, профессор Хюттер, был фигурой, которая тоже весьма занимала Альфреда. Роста он совсем невысокого, но этот тучный коротышка всегда пребывал в движении, в некотором беспокойстве. Он скакал по коридорам и лестницам университета, словно мяч. Круглая голова его тоже походила на мяч, лицо было красное, с пористой кожей, плохо выбритое на щеках и подбородке. Хюттер – особое явление, что называется, близкое к земле, кондовое и посконное. Родом он был из деревни, из Верхней Австрии.
Хюттер всегда был в прекрасном настроении, лицо его буквально излучало радость, он часто смеялся, и смеялся весьма заразительно. Однако как раз из-за его неудержимой веселости профессор вызывал у Альфреда неподдельный трепет.
Трудно сказать, по какой причине. Альфред вовсе не чувствовал себя неуютно в присутствии профессора. В общем и целом профессор был вполне сносный мужик, при всей его суровости мог спокойно простить ошибку, недосмотр, сказав потом с обворожительнейшей улыбкой, придававшей его лицу весьма саркастическое выражение: «Что ж, а теперь поучите этот материал как следует!»
Как уже сказано, Хюттер был родом из сельской местности, с равнины, – из крестьянского сословия, как он сам любил подчеркнуть. Отсюда, вероятно, и его любовь к обильной и жирной пище и к доброй выпивке. Пьяницей он не был, но с удовольствием просиживал в кабаке со студентами до глубокой ночи, развлекал их всякими анекдотами и шутками, частенько и платил за них. Однако весьма не рекомендовалось при этом не смеяться его шуточкам, а сам он всегда смеялся громче всех.
Хюттер любил поговорить о чувствах и о душе. Человек чувствующий стоял для него на первом месте. Он просто в лирику впадал по этому поводу. «Душа и разум – два сапога пара! Многим вещам просто так ведь не выучишься». В общем, было совершенно ясно, на чьей он стороне. У женщин профессор особого успеха не имел, но по этому поводу не переживал, он ведь общался со своими буршами, был ветераном студенческой корпорации «Бавария»!
Мыслил профессор Хюттер остро и ясно. Однако, по непонятной причине, на лекциях он стремился к тому, чтобы именно ясные мысли, промелькнувшие на мгновение в его речи, снова затемнить, изгнать прочь, как будто чистое и ясное познание не имело права существовать, как будто было в нем нечто порочное. Рассуждения свои он любил завершать сочной шуткой.
Его стихией, его коньком, как сам он с охотой и не без ехидства констатировал, наряду с излюбленной точностью, была деталь, деталь и еще раз деталь! Во время экзаменов это имело порой удручающие последствия. Он требовал знания вплоть до последней точки над «и»: «Юрист не должен упускать ни одной мелочи!»
Себя Хюттер считал прямодушным и открытым малым, добрым и надежным, истинным воплощением настоящего слуги государства. Хотя он и отрекся от религии отцов, как он сам выражался, то есть вышел из лона церкви, но присущие ей качества все же сохранил. Верность занимала в его иерархии ценностей высшее место. Однако, если речь заходила о политике, он себя называл либералом. И свободу он ценил выше всего. Правда, в чем это выражалось или должно было выражаться, Альфред понять так и не смог. На лекциях Хюттер порой подшучивал над своими коллегами, в том числе над Викторесом и Траун-Ленгрис, не боясь выставить их на посмешище. С другой стороны, по отношению к ним он проявлял подчеркнутую, даже заискивающую вежливость. Он был по-своему хорош со всеми.
Бывало не раз, что Хюттер особенно напускался на кого-то из студентов. Почему именно на этого, а не на другого, сказать было невозможно. Порой было достаточно сущей мелочи. И уж если Хюттер начинал кого-то преследовать, то тому оставалось уповать лишь на Бога.
В общем, было не ясно, кто и что такое этот самый Хюттер.
Мария Якублец из Парндорфа, молодая женщина, переселившаяся в Вену, обрела свое счастье с загорелым спортсменом, с которым познакомилась на Дунайском лугу. Теперь у нее другая фамилия, Оберт, как у мужа, у них ребенок, сын, ему уже десять лет. Сын унаследовал от матери смуглый цвет кожи, а еще, но об этом наследстве хорватской крови могут судить только посвященные, – жесткие черные волосы. В мальчишке души не чают! Марии хотелось иметь много детей, как это принято было у нее на родине. Но она тоже работает, да еще и ведет хозяйство, поэтому планы о будущих детях приходится пока отодвинуть.
Малыш растет в Кайзермюлене, на другом берегу Дуная, если смотреть от центра города, там, где сама Мария когда-то жила с отцом-каменщиком. Дунайский луг, как венские жители называют пойму реки, заросшую высокой травой, с большими декоративными ивами, растущими по берегам заросших камышом прудов и зачарованно глядящимися в покрытую ряской воду, с рыбачьими лодками на берегу, с быстро катящими волнами реки, – естественным образом является местом его игр и времяпрепровождения. Более того: эта полудикая местность, ее сменяющие друг друга обитатели и посетители, является его воспитательным учреждением, он здесь познает жизнь, то есть познает то, что демонстрирует ему здесь жизнь. По воскресеньям это толпы жаждущих глотнуть свежего воздуха венцев, вырвавшихся на природу и до позднего вечера прогуливающихся вдоль берега, летом – любители купания с разноцветными мячами, купальниками и махровыми полотенцами. В будние дни округа эта безлюдна и выглядит уныло, ветер гонит мусор и обрывки газет, оставшиеся здесь с воскресенья, лишь изредка появляются здесь люди: бездомные, греющиеся на солнце и тянущие дешевое вино из двухлитровых бутылок, женщины с ухажерами то под одним, то под другим кустом, иногда полицейский, на велосипеде объезжающий местность по песчаным дорожкам.
Иоганн Оберт, его отец, тот самый загорелый спортсмен, больше не работает кондуктором, он давно ушел из поездной бригады. Он теперь сидит в здании управления дороги и занимается бумагами. К тому же он – член социалистического крыла профсоюза. Отец Марии, старый каменщик, отнесся к Иоганну весьма одобрительно и благословил дочь на брак с ним. С большим одобрением слушал он и рассуждения Иоганна, когда тот рассказывал ему о профсоюзных и производственных собраниях.
– Да, им надо не давать спуску! – постоянно приговаривал он и кивал головой. Кому именно «им», он никогда не уточнял. Иоганн, зять, разбирающийся в политике, как считает – нет, даже убежден – старик, тоже не шибко заботится о теории и об основополагающих принципах, напротив, ему все это подозрительно, не тем пахнет: «Так только коммунисты разглагольствуют!»
Все же Иоганн был достаточно радикален, чтобы однажды во время воскресной службы в кайзермюленской церкви, в которую ходил только ради Марии, заткнуть рот пастору, проповедовавшему с кафедры о братстве всех людей. Вот была потеха! Слава Богу, как выразилась Мария, папе (ее отцу) не довелось всего этого услышать и увидеть. Отец ее к тому времени уже умер и покоился на Центральном кладбище, третьи ворота, участок триста двадцать четвертый, линия шестнадцатая, в узкой могиле с надгробьем из искусственного камня темной окраски и с железным крестом на камне.
Небольшая группа прихожан, тихо беседуя, стояла еще перед входом в церковь, другие, и их было большинство, уже вошли внутрь, одетые по-праздничному и в приподнятом настроении. Впереди, на второй скамье, уже сидела рядком вся семья Оберт: Мария с мужем и с маленьким сыном Иоганном, которого они называли Джонни. Мария сидела молча, погрузившись в себя, молитвенно сложив руки и устремив взгляд своих карих глаз вверх, туда, где на алтарной иконе фигура Матери Божией, ее тезки, всходила по лестнице розовых облаков на небо, где ее уже ожидали почтительно толпившиеся ангелочки и Бог Отец собственной персоной.
На Марии была белая блузка с длинными рукавами, на вырезе и на передней планке украшенная кружевом. Ее темная кожа отчетливо выделялась на белом фоне, и черные, завитые по моде волосы делали ее похожей на итальянку. Муж называл ее Беллой, когда среди повседневной суеты вдруг останавливался и бросал на нее влюбленный взгляд. Иоганн Оберт сидел выпрямившись, спокойный и, в противоположность жене, нисколько не взволнованный ожиданием мессы, уверенный в себе, самодовольный и гордый, в новехоньком твидовом пиджаке, гладко выбритый и благоухающий одеколоном. Стекла его очков блестели в свете свечей словно бритвенные лезвия, или словно капли воды, застывшие на цветочных вазах, которыми был уставлен алтарь. Джонни, их сынок, несмотря на постоянные замечания матери, вертел головой в разные стороны, высматривая своих одноклассников среди прихожан и многозначительно с ними перемигиваясь.
Во время проповеди священник, красивый, седой, с военной выправкой мужчина, громким и отчетливым голосом вещал о добродетелях возрождения и восстановления страны, о сообществе людей доброй воли, которые собрались вместе, чтобы снова возродить былое величие Австрии и в особенности города Вены из руин войны, из огня и пепла. Иоганн Оберт навострил уши и выпрямился еще больше. Мария, державшая его за руку, крепко сжала ее в своих ладонях. По окончании проповеди вновь заиграл орган, торжественное пение прихожан заполнило церковь, святые дары, тело Христово, были явлены присутствующим в высоко поднятых руках священника, – и затем все, готовые причаститься, и Мария среди них, двинулись по центральному проходу к алтарной решетке, где они преклоняли колени и вкушали небесные яства.
После святого причастия Мария каждый раз чувствовала себя потрясенной и словно одурманенной. По дороге домой она обычно не произносила ни слова. Торжественный обряд удовлетворял, с одной стороны, ее тягу к самоотдаче и притягательному подчинению, с другой, ее стремление к спасению во Христе. Она понимала бунтарское начало в Иоганне, связанное с самим его темпераментом, а еще с тем, что Иоганн, к тому времени ставший членом производственного совета в управлении железной дороги, частенько излагал ей свои политические взгляды, апогеем которых была мысль, что де все эти добродетели, которыми пичкают простых людей, являются всего лишь выдумкой власть имущих.
Сегодня Мария была на удивление разговорчива и раскованна. Она пригласила к себе домой на вечеринку друзей и знакомых, в том числе своего начальника и свою начальницу. Мария больше не была уборщицей, она работала на небольшом предприятии, печатавшем кассовые ведомости, официальные формуляры и трамвайные билеты, – и она вовсе не хотела, чтобы ее семья ударила перед ее начальством в грязь лицом! По пути из церкви они всем семейством зашли в трактир на углу, в «Кайзермюленский двор», Иоганн выпил пива, а сын – лимонада. Они сидели на скамейке в полукруглом зале, пропитанном сигаретным дымом и кислыми облаками винных паров. В окна заведения весело светило солнце. На уличных каштанах листья были по-осеннему тронуты по краям коричневым и золотистым цветом и с треском сворачивались в трубочку.
Начальницей Марии была рослая, полная женщина с нежной кожей рук и с округлыми ножками, привыкшая, что было заметно по выражению ее лица, руководить и командовать. Ее расплывшееся лицо с раздутыми щеками покоилось на солидных жировых подушках. Медленные и размеренные движения ее тучного тела словно излучали властность и превосходство, однако впечатление несколько снижали пряди волос, свисавшие из ее прически. Волосы у нее были пепельного цвета. Когда пальцы Иоганна, с ней танцевавшего, прошлись по маленьким круглым пуговицам корсета под тканью ее платья, по жировым складкам, выпиравшим из-под плотного белья, и он спросил ее: «А что у нас там такое?» – она громко рассмеялась и вовсе не выказала стеснения, а явно возбудилась. Оконные стекла в небольшой комнате покрылись испариной от духоты, музыка и обилие крепких напитков вовсю разгорячили танцующих. Мария вносила все новые подносы с аппетитными закусками: ражничи, плескавицы, бутербродики, украшенные паприкой. По кругу пошла бутылка сливовицы. Начальник Марии, седовласый мужчина лет шестидесяти, явно уже перебрал и сидел за столом с тупо-обиженным выражением лица.
Часов в семь Иоганн стал играть на мандолине и приплясывать, отбивая чечетку. Часов в девять на мандолине оборвалась последняя струна, и Иоганн ладонями стал отбивать по деревянному телу мандолины ритм прерванной мелодии. Женщины уединились в кухне и пили яичный ликер. Под громкий хохот они обсуждали мужчин. Мария стала нахваливать своего мужа как выдающегося любовника. Лицо ее раскраснелось и пылало жаром, и язык у нее уже заплетался. В каморке за кучей сложенной гостями верхней одежды Иоганн помог начальнице Марии выпростаться из платья, расстегнул на ней корсет, а потом стащил с нее бюстгальтер.
После того как все, до последнего гостя, отправились восвояси, Иоганн в расстегнутой рубашке и с набыченным взором сидел на кухонном стуле, вытянув перед собой все четыре конечности. Мария как раз укладывала ребенка спать. Потом она повела Иоганна в спальню. Уснуть сразу она ему не дала, и ему пришлось еще раз как следует проявить свое мужские способности и обильно осчастливить Марию.
Сын Марии и Иоганна быстро вырос, деятельно поощряемый отцом, а поскольку голова у него была светлая, то его отдали в гимназию. Это был дружелюбный и покладистый мальчик, унаследовавший от матери меланхолический темперамент и смуглый цвет кожи. Каникулы, обычные две недели, Оберты чаще всего проводили в Италии, на одном из морских курортов на Адриатике, в Линьяно или в Езоло. Ранним утром они занимали место на серой прибрежной полосе, образующей пляж, расставив разноцветные шезлонги и установив пляжный зонт. Парнишка с удовольствием шлепал по мелководью вдоль пляжа и собирал раковины, а родители лежали в шезлонгах. Иногда он заплывал, а плавал он отлично, за песчаную банку, туда, где вода похолоднее, а может, и для того, чтобы произвести впечатление на девочек на берегу. Был он долговязым, с бледноватым лицом, с неизбежными прыщами на щеках.
Заплыв однажды в море, он к берегу не вернулся. Мария и Иоганн долго метались по пляжу, выкрикивая его имя. Тело его нашли в холодной и серой воде. У Джонни было слабое сердце.
Дом, где жили Оберты, стоял сразу же за плотиной, выстроенной для защиты от наводнений. Пространство, открывавшееся в сторону реки и далее в направлении города вплоть до вершин холмов Венского леса, в сравнении с затхлыми, тесными комнатками квартир оказывало свое воздействие. Во-первых, тут было достаточно места для прогулок и отдыха. Опять же, это было место, откуда открывался отличный вид, и рассмотреть можно было многое. На улицах в районе Кайзермюлен видны были только стены домов с отваливающейся штукатуркой, пятна, оставленные задиравшими ногу собаками, желтые почтовые ящики, общинные постройки, тополиная листва, следы блевотины перед трактирами, прислоненные к стене велосипеды, плакаты, только что вывешенные или уже выцветшие под солнцем и дождем, их отклеившиеся края с засохшим клеем бились на ветру и ломались с треском, словно кости.
Осенью серебристые верхушки огромных ив плавали и утопали в море тумана. Цвета листвы и тумана напоминали расцветку нашивок на одежде могильщиков из похоронного бюро. Со стороны реки доносилось негромкое, призрачное бульканье. Когда задувал фён, играющие разноцветьем склоны Венского леса представали мягкими и странно выразительными на фоне неба, словно вывернутого наизнанку, и там, за рекой, виднелась черная и искрящаяся масса города, спекшаяся, слипшаяся куча строений, масса руин.
Зимой, в снежные дни, все выглядело иначе, когда вокруг в воздухе кружились снежинки, всё словно растворялось: контуры холмов, домов и людей расплывались, и оставалась лишь пустота, нечто веселое и неудержимое, протянувшееся без границ.
На картинах, которые собирал профессор Вольбрюк, были не только летние пейзажи. Вовсе нет! Однако он явно предпочитал это время года, что было отчетливо заметно. И хотя живопись эпохи бидермайера составляла основную часть его коллекции – пейзажи Гауэрмана, Вальдмюллера, купающиеся нимфы Швинда, зажигательные сцены с венгерскими всадниками Мункачи, – профессор отнюдь не был консервативен в своих вкусах, а вполне даже современен, – таким в любом случае он видел себя, ведь ему принадлежало и несколько рисунков Шиле, а главное, центральное украшение его коллекции составляла аллегорическая картина Кокошки, на которой на фоне залитого солнцем средиземноморского пейзажа с разбросанными по нему пятнами тенистых оливковых деревьев были изображены три неподвижные фигуры богинь, одна из которых держала нить, другая – мерку, а третья – ножницы: это были норны.
– Я вижу на этой картине воплощение всех жизненных проблем, связанных с моей профессией! – любил повторять профессор, откидываясь в кресле и погружаясь в возвышенные размышления.
В доме на холме, в коттеджном квартале, он проживал вместе с женой и с дочерью Кларой.
В окружении огромных, почтенного возраста деревьев со сказочными кронами стоит этот дом, с белой облицовкой, с большими окнами и белыми рамами, с выкрашенными в белое открытыми балконами, ну просто небольшой зАмок. Украшает его и настоящий аттический портик, а в крышу, покрытую обычной черепицей, вставлены выпуклой формы окошечки и лючки, которые, подобно глазу, затуманенному мечтой, смотрят в сад. Аккуратные гравийные дорожки ведут от ворот к дому, а затем, сужаясь, – в отдаленную часть парка, где они, играючи отклоняясь то в одну, то в другую сторону, доходят до летнего павильона и там смыкаются.








