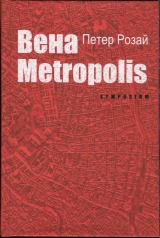
Текст книги "Вена Metropolis"
Автор книги: Петер Розай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Альфред завидовал Георгу, что у него такая мать. А поскольку он в своей зависти себе не признавался, то у него находилась тысяча причин принизить ее достоинства. Как он радовался, когда она снова исчезала из дома, уезжала на своем велосипеде обратно! Так сильно он радовался лишь тогда, когда тетя Виктория сообщала о своем приезде. Уже сам факт, что она приезжает из Вены! Из Вены! Боже правый – из Вены! Ему трудно было себе представить, что же это за чудо – Вена. Когда он в своем воображении представлял иногда их Клагенфурт, его улицы и переулки разросшимися до размеров сверкающей звезды, чтобы как-то представить себе, что такое Вена, что такое – большой город, он все равно понимал, что картина эта не соответствует истине, что там, в Вене, все должно быть по-другому.
Тетя Виктория не останавливалась у них, она снимала комнату в отеле в центре города, говорила, что не хочет их стеснять. В самом деле, устроить ее в их квартирке было бы непросто. Она любила гулять с племянником, она водила его в единственное в городе пристойное кафе – на главной площади, напротив ратуши, где он, слегка смущаясь, сидел на изящном стульчике и осторожно возил по тарелке с куском торта вилочкой из фальшивого серебра.
Лицо тети, окаймленное темными волосами, выглядело подчеркнуто большим и белым, словно особая, незнакомая и далекая страна, в которой терялись его взгляды. Она сидела напротив него, и он тайком оглядывал ее фигуру, однако взор его постоянно останавливался то на одной из пуговиц ее блузки, то на поблескивающей жемчужине ее ожерелья; или же он захлебываясь рассказывал ей о каком-нибудь из своих приключений. Она смотрела на него своими красивыми, немного холодными глазами, улыбаясь при этом тонко изогнутыми губами. Ее грудь, на которую он на самом-то деле не осмеливался взглянуть, ее бедра – весь ее телесный облик вставал перед его мысленным взором, в той области, где мечты неразделимо перемешиваются с действительностью, и мысли, порожденные этими его фантазиями, не слишком отличались от тех, что приходили в голову, когда он подглядывал за фрау Штарк.
– Вена очень красивая, правда? – спросил он ее однажды в кафе.
– Ты обязательно туда приедешь! – коротко ответила она и быстрым жестом потрепала его по руке.
Однажды он спросил ее о том, как она живет в Вене, то есть он, собственно, вовсе не знал, о чем ему точно хотелось узнать, однако тетя обошла его вопрос молчанием и быстро сменила тему разговора. Рассеянно и несколько угрюмо, что совсем не соответствовало рассказываемой истории, она поведала ему о цирке, недавно гастролировавшем в Вене, она бы с удовольствием его туда сводила. Тетя снова перешла к другой теме, уставившись сквозь окно кафе на площадь, где время от времени проезжал мимо автомобиль и где деловитые голуби ворковали о чем-то друг с другом у края лужи. – Тетя вообще была немногословной.
– Однажды ты вырастешь и станешь взрослым!
– И что тогда?
– Тогда ты отсюда уедешь.
Альфреда вовсе не смутила мысль о том, что он лишится матери или, по крайней мере, оставит ее здесь. Ну а об отце он вообще не вспомнил.
Ветки каштанов на площади, усеянные купами листьев, отбрасывали редкие тени, так бывает весной, когда солнце словно нехотя светит с неба.
В то время Альфред и Георг впервые стали зарабатывать: помогали на городской лесопромышленной ярмарке – мероприятии, сильно смахивавшем на разгульный народный праздник под открытым небом.
Когда Альфред в полдень добрался до территории ярмарки, все вокруг было словно в бессознательном и одурманенном состоянии после ночной гулянки: переполненные мусорные баки, на столах горы грязных стаканов и тарелок, трава, истоптанная тысячами подошв, силилась снова выпрямиться.
В самой середине территории праздника, в сердцевине хаоса, лежал хозяин, нанявший ребят, устроитель ярмарки, похрапывая на кемпинговом лежаке, разложенном прямо за стойкой. Едва услышав, как Альфред стал составлять стаканы в мойку, он сразу поднялся на ноги. Потерев ладонями грубое жирное лицо, он без каких-либо других телодвижений спрятал в шкаф дробовик, обнаружившийся рядом с лежаком.
Хозяин говорил с Альфредом исключительно короткими, словно лай, командами. Он нисколько не скрывал, насколько ему все опротивело, все раздражало. В любом случае Альфред получил работу в самом заведении: огромный, растянутый меж деревьями брезент закрывал столики от солнечных лучей. Все выглядело почти красиво, когда, например, сквозь дырки в старом брезенте то тут, то там солнечные лучи падали на оставленную пивную кружку или на смеющееся лицо женщины.
У Георга работа была потяжелее. Он работал не в самом заведении, а ходил между палатками и ларьками с ведром, в котором стояли охлажденные бутылки с пивом и лимонадом, и предлагал их посетителям. Из всех мальчишек, которых нанял на ярмарку хозяин, Георг вскоре заработал больше всех.
Альфред трудился усердно, и даже хозяин не мог его в чем-то упрекнуть. Однако когда мальчик обнаружил в соседнем зале игровые автоматы со сверкающими лампочками и разноцветными колесиками, заработанные деньги у него не удержались. В течение недели он проиграл все заработанное, и когда в пятницу он отправился домой, в кармане у него не было ни гроша.
Улицы, по которым он шел с ярмарки, казались ему вымершими и неживыми. В ушах издевательски звенела музыка, доносившаяся со стороны катальных горок и каруселей. Он раздумывал, что ему сказать матери. Что деньги он потерял? Что его обокрали? Поверит она ему? Чувствовал он себя совершенно подавленным и жалким. Однако, с другой стороны, и это изумило его самого, в нем проснулось какое-то непокорное чувство, столь живое, что он им чуть ли не гордился.
Глава 3
Если подъезжать к Вене с востока, взгляду открывается прежде всего безлюдная, расчерченная аллеями зеленых тополей и полувысохшими руслами небольших рек равнина, нынче заполоненная многочисленными промышленными зонами, изрезанная автобанами, – равнина, собственно, являющаяся самым краем Венгерской низменности, и уж потом появляются круглые вершины и склоны Винерберга и Лааерберга. Перевалив через них, видишь перед собой город, словно влитый в огромную бухту или раковину, образованную полукругом холмов Венского леса. В центре разноцветья и пестроты зданий, крыш, куполов и башен, неотчетливо видимая в дымке, возвышающаяся над похожей на требуху и свивающейся в жирные кольца то сероватой крошкообразной, то смахивающей на корку запекшейся раны массой высится башня собора Святого Стефана. Там с незапамятных времен находится средоточие города, да и страны в целом. До сих пор, как ни удивительно, все расстояния в Австрии измеряются от этой башни, и сетка географических привязок берет свое начало именно здесь.
Далеко на востоке, в районе реки Лейты, находится деревня Парндорф, по-венгерски именуемая Пандорфалу. Когда-то давно этот край относился к немецкой Западной Венгрии, и по сию пору здесь живет еще несколько венгерских семей. Собственно, семья Якублец в этом местечке была инородным телом, поскольку Якублецы перебрались сюда из хорватской деревни на юге, то есть были переселенцами. Что послужило причиной их переселения, кануло уже в забытье, как позабыт был и хорватский язык, родной язык этого семейства, сохранившийся только в нескольких почти уже непонятных словечках и оборотах, а также в записанных от руки рецептах хорватских блюд, вложенных в старую, затертую поваренную книгу.
Когда Мария позднее вспоминала о своем детстве, она сначала видела только родительский дом, фасадом обращенный к улице, с большим кустом бузины перед ним, вечно покрытым уличной пылью. А потом ее взору являлись деревянные ворота, ведущие во двор, кособокие и серые. Двор не был замощен, и по засыпанной щебенкой земле змеилась грязная канавка, забитая мусором, прямо к воротам, а оттуда под воротами в уличную сточную канаву, в весенней темной воде которой кишели головастики, всякие личинки и прочая мелюзга. Вдоль канавки во дворе бродили, переваливаясь, утки в поисках корма, и мать, выйдя из дома, бросала им размельченный кукурузный шрот. Как жадно утки вытягивали свои белые шеи! Как громко гоготали они, завидев прибывший корм!
В памяти Марии лицо матери отсутствовало, вместо лица возникала какая-то гладкая, округлая и белая форма, похожая на большое яйцо, лишенное каких-либо индивидуальных чертили выражения. Ласточки, пролетавшие под крышей просторной, тянувшейся вдоль дома крытой галереи с бесконечными жердями для развешивания кукурузных початков, в памяти Марии представали более живо и реально, чем мать.
Вот разве что руки ее, безостановочные, всегда чем-то занятые – как маленькие механизмы, которые движутся сами по себе, без всякого приказа извне. Или ее же ладони, сложенные и поднятые для молитвы, и этот внутренний образ был в свою очередь связан с белыми и прямыми телами свечей, со светло-серыми и коричневатыми, колеблющимися в воздухе облаками ладана, с розами и нарциссами, расставленными в церкви в красивых вазах. Все они, члены семьи Якублец, были прилежными прихожанами, и Христос Спаситель хранил их.
Вся деревня, собственно, и состояла из одной-единственной широкой улицы, вдоль которой тянулись одноэтажные пыльные домишки. На некотором расстоянии от деревни улица, вероятно, поворачивала в сторону, потому что вдалеке за сухими пшеничными полями угадывались купы больших деревьев, а на самом горизонте ряд тополей создавал зубчатое обрамление неба, которое простиралось – сверху, сзади, со всех сторон – над открытой, плоской и, по сравнению с небом, словно не существующей равниной.
По этой улице в понедельник утром уходил отец Марии в те недели, когда на выходные он приходил домой. Мария знала, что он идет до определенного перекрестка дорог, где была автобусная остановка. Она смотрела ему вслед, видела его удаляющуюся черную спину. Отец работал в Вене каменщиком, на разных стройках. С собой он носил дорожный ящик, сработанный из грубых досок, покрытый мазками краски, в котором хранился инструмент и его городской костюм. Ящик он приносил с собой в деревню лишь тогда, когда в доме и во дворе надо было что-то починить и подправить, и тогда он извлекал из него молоток, кельму и растворную миску. Это всегда было волшебным действом.
Лишь немногие члены большой семьи Якублецов жили в Парндорфе. Старшие братья Марии работали, как и отец, в Вене, а также в других городах, в Германии, в Швейцарии; один даже эмигрировал в Америку, потому что в Парндорфе работы не было никакой и выживать было трудно.
Мария жила с матерью и младшенькими братьями и сестрами. Вот поэтому воспоминания Марии о Парндорфе всегда были связаны с детьми, игравшими в доме и во дворе, с детскими криками, с грязноватым белым цветом свивальных тряпок и обломками игрушек.
В Вене отец жил в однокомнатной квартире с кухней и чуланом – на другом берегу Дуная, в Кагране, в доходном доме на широкой пустынной улице. За несколькими домами, создающими своими брандмауэрами вполне городской колорит, сразу же начинались поля, рукава Дуная с заросшими берегами и поймами; транспорта там почти не было; и когда Мария перебралась в Вену вслед за отцом, ей поначалу казалось, что она переехала из маленькой деревни в большую. Одной из целей ее переселения было то, что она, помимо работы уборщицей, станет ухаживать за отцом, готовить ему и стирать, а кроме того сможет в свободное время поучиться на курсах в Народном институте.
Отец чаще всего приходил домой в семь вечера и сразу валился на постель. Он работал на сдельной, так выходило больше. Если же день был не слишком тяжелым, они с Марией отправлялись гулять по кварталу, проходя мимо трактиров и всяких увеселительных заведений – дома, в их квартире отец чаще всего из соображений бережливости сидел в темноте, по воскресеньям же при свете маленькой лампы читал газету, в первую очередь объявления. Он не переставал надеяться на шанс, на неожиданный поворот судьбы, который так, в одно мгновение, принесет счастье.
Единственным удовольствием, единственным развлечением в этой жизни были воскресные богослужения. Некоторое время спустя Мария тоже нашла себе работу, у нее появились свои клиенты, у которых она каждый день убирала квартиру, делала покупки или иногда сидела с детьми. Самым прекрасным днем для Марии было воскресенье – вместо того, чтобы идти на работу, можно было в красивом платье стоять в ярко освещенном, праздничном церковном зале, среди других людей, возносить вместе с ними благодарность Господу и молиться.
Иногда, увы, слишком редко, отец рассказывал ей о своей прежней жизни, о том времени, когда он еще не был знаком с ее матерью и вел своего рода кочевую жизнь:
– В Капруне, в знаменитом Капруне, ну, ты знаешь, в Зальцбургской земле, я работал на строительстве плотины в Мозельской долине. Бог мой, что было за время! Зима там, в горах, наступает рано, и огромные облака длинным белым шлейфом тянутся через горы.
Среди рабочих были агитаторы-социалисты. На вырубке штолен люди зарабатывали кучу денег. Однако в выходной они спускали весь свой заработок внизу, в долине, в Уттендорфе или в Нидернсилле, дурачье такое.
Когда электростанцию построили, я нанялся на Глокнеровскую высокогорную дорогу, работал там в дорожной мехколонне, шесть месяцев в году, суровая была работенка.
В Парндорфе умер маленький Пепи, братик Марии. Не то чтобы она особенно хорошо его помнила или сильно любила; он появился на свет за пару лет до того, как Мария уехала к отцу в Вену.
Когда Мария в новехоньком, купленном на скопленные деньги черном платье шла от дома по залитой солнцем улице к церкви, где было отпевание, она впервые почувствовала сама себя, свое тело, ноги, кожу, волосы, и в ней впервые пробудилось представление, какой она хотела бы выглядеть в глазах других.
Однако быстро разрастающимся и в конце концов все перекрывающим чувством были боль и скорбь. Отец и мать стояли друг подле друга, спиною к Марии; отец в черном костюме, голова опущена, мать в черном платье с рюшами, перед маленьким, выкрашенным в белый цвет гробом. Гроб сколотил деревенский столяр, а отец сам его покрасил.
Сначала появились головные боли, потом рвота, высокая температура, горячка – а потом он затих. Братик был мертв и неподвижно лежал в своем гробу, маленький и словно деревянный.
Пепи был одним из целого выводка детей, радостно толпившихся вокруг отца, когда тот возвращался домой. Подарки он приносил редко; иногда разве что разноцветные леденцы на длинной палочке.
Листья на ольхах и черных тополях громко шелестели под ветром, в воздухе еще стоял холодок. Было позднее утро. На кладбище гроб опустили в яму, вырытую в комковатой, сухой земле.
После похорон сына отец в церковь больше никогда не ходил. Никакие упреки и увещевания матери на него не действовали.
На окраине Вены, вдоль Дуная тянется широкой полосой пойма, большей частью представляющая собой дикий, неухоженный луг, то здесь, то там небольшие озерца, окаймленные ивами, тенистые ольхи то там, то тут – излюбленное место отдыха венцев. По воскресеньям выглядит эта местность весьма живописно: женщины в нижнем белье сидят на клетчатых шерстяных пледах и листают журналы с картинками или читают книги в дешевых обложках, на разостланном покрывале в полдень отдыхающие раскладывают хрустящие поджаристой корочкой шницели, достают из стеклянных банок и едят консервированные огурцы и картофельный салат. Кто-то растягивается на траве и загорает, кто-то полной грудью вдыхает свежий воздух или плещется в мелких озерцах. Совсем уж отчаянные решают окунуться в серые и ледяные волны быстрой реки. На лугах вдоволь места для спортсменов самого разного сорта: тут и в футбол играют, и в итальянскую лапту, и в «перестрелку», игру на выбивание, тут и гимнастикой занимаются, и на велосипедах носятся. Парочки, днем познакомившиеся поближе, к вечеру, когда над темным краем Венского леса загораются звезды, проникаются самыми серьезными намерениями.
В одно из воскресений, во время прогулки, на которую она в порядке исключения отправилась в одиночестве, – отец, после смерти маленького Пепи сильно изменившийся, был болен и остался в постели, – Мария остановилась на краю поля, где играли в итальянскую лапту. Она с интересом следила за игрой, за прихотливым движением мяча, за его взлетами и падениями, за действиями игроков, перекликавшихся друг с другом. Однако постепенно ее внимание сосредоточилось на одном из них, на высоком загорелом парне с гривой темных волос.
Когда игра закончилась, парень подошел к Марии, вертевшей свою соломенную шляпу в руках, и сказал:
– Вас интересует итальянская лапта?
Она покраснела и поначалу не знала, что сказать в ответ.
Позже она узнала, что парень работает кондуктором на железной дороге и зовут его Иоганн Оберт.
То, что Мария только краешком ощутила в роскоши и блеске воскресных богослужений в церкви, спустя несколько недель стало доподлинной действительностью, когда она, с перехваченным дыханием, лежала в объятиях парня. Красное, зеленое, синее и желтое – что это было? Красное – цвет губ, светло-зеленое – цвет стелющейся травы и листьев, желтое – ее сумочка из покрытых лаком бамбуковых палочек, отброшенная в сторону и лежащая на траве. Юбку с тонкими синими полосками она давно уже с себя сняла.
Она все еще чувствовала упругость мускулов на руках у парня и вдыхала запах уже знакомого ей тела. «Отец не должен ничего об этом знать! Нет. Но что об этом скажет мама?» Она чувствовала, как ее сердце на мгновение сжималось, чтобы потом вновь освободиться и радостно и быстро биться в груди. Словно вода ручья, прыгающего по камням, словно ноги, бегущие по нагретой солнцем земле. Ей и жарко, и светло, она чувствует себя так, словно она вдруг очень проголодалась, жутко проголодалась. Но в этом странным образом нет ничего плохого, не стоит упоминания, ведь ясно, что голодать не придется, что снова насытишься.
Глава 4
Еще вечером того же дня, когда Оберкофлер лишил себя жизни, – каким образом Пандура столь быстро узнал о случившемся несчастье, неизвестно, – Пандура заглянул в конторку Лейтомерицкого в школе танцев и объявил ему о своем уходе: ужасная новость, которой он не преминул предварить свое заявление, придала ему необходимую силу убеждения. Возможно, он в тайне надеялся на то, что Лейто, поставленный перед фактом, испугается и даже предложит ему более высокое жалованье? Совсем скоро он убедился, что ошибся в своих ожиданиях. Во-первых, Лейтомерицкий, обладавший тонким нюхом, догадался, что истинной и насущной причиной для визита Пандуры было нечто другое.
– Вам нужны деньги?
– Не исключено.
– Карточный долг? – спросил Лейтомерицкий довольно бестактно. С недавних пор у него вошло в привычку вместо сигарет, в обилии им поглощавшихся, курить дорогие сигары. И сейчас он неспешно срЕзал ножницами кончик роскошной «гаваны» и, склонившись над столом, стал ее раскуривать, откашливаясь.
Второй и, пожалуй, более важной причиной его равнодушия к заявлению Пандуры было то, что он более не придавал школе танцев – как деловому предприятию – слишком большого значения в своих предпринимательских планах. Дела, которые он походя проворачивал, сидючи в своей конторке, приобрели солидные размеры и, после некоторых поисков, обрели свой центр тяжести в торговле автомобилями.
В Зиммеринге Лейтомерицкий арендовал большую пустовавшую площадку – кстати, недвижимость принадлежала фрау Штрнад или, по меньшей мере, находилась в ее управлении; она, очевидно, вкладывала какие-то деньги и в другие торговые операции Лейто. В любом случае Лейтомерицкий развернул на этой площадке – там, в Зиммеринге, – свой автопарк: автомобили, сплошь подержанные, самых разных марок и моделей, в любом состоянии. Механик, которого нанял Лейтомерицкий, молчаливый и вечно перемазанный машинным маслом мужик, реанимировал машины, которые сюда поступали, и с наименьшими затратами придавал им в товарный вид.
Теперь большую часть своего времени Лейтомерицкий проводил в автокемпере, стоявшем при въезде на площадку. Утром он открывал решетчатые ворота, сбивая короткими ударами своих длинных ног стебли чертополоха, пышно и высоко вытянувшиеся из-под слоя щебенки. Точно так же, как и в школе танцев, день у него проходил за разговорами по телефону, за подсчетами и бесконечным курением. Когда появлялся очередной клиент, Лейто, предупредительно обходя с ним ряды автомобилей, консультировал его как заправский специалист.
Лицо Лейтомерицкого стало еще морщинистей и посерело, однако излучало ту силу, которую дают компетенция и знание, а также острый ум, который действовал на некоторых его клиентов подавляюще. Покупатели его были в основном люди маленькие. Вообще Лейтомерицкий выглядел нездоровым, исхудавшим от недоедания, чурающимся радостей обеспеченной жизни и замкнутым. Пальцы рук, да и руки в целом от постоянного курения приобрели коричневый налет и выглядели исхудалыми и похожими на паучьи лапы, а крючковатый нос его торчал как хищный клюв. Поскольку он никогда не имел дела ни с чем материально основательным, кроме бумаги, ручки и телефонной трубки, жесты его вне привычной обстановки были неуверенными и невнятными.
Лейтомерицкий вообще-то не очень следил за своей внешностью, его узкие плечи стали клониться вперед, и общему впечатлению противостояла только тщательная, даже несколько излишне подчеркнутая элегантность его одежды. Он всегда выглядел так, словно только что вышел от хорошего портного. Изменилась и его интонация, и если раньше он общался с людьми радушным тоном, с легким налетом диалекта, то теперь говорил исключительно на литературном языке, негромким голосом с хрипотцой, но если касалось дела, то коротко и ясно, как человек, знающий, чего он хочет.
Дни у Лейтомерицкого проходят достаточно однообразно. Школу танцев он закрыл быстро и без особых хлопот. Он продал ее целиком и полностью своему преемнику, настроенному на успех. Даже вывеска осталась прежней: «Оберкофлер и Пандура», так что Оберкофлер продолжал жить в таком вот эфемерном виде. Собственно, как признавался Лейтомерицкий самому себе, школа танцев не была для него по-настоящему важным делом – так, временный выход. В любом случае с ее помощью ему удалось выкарабкаться из тяжелой ситуации сразу после «Поражения» – так венские жители по-простому именуют конец гитлеровской эры.
Теперь же настал черед автомобилей! Любым моделям, любой расцветки, в любом состоянии! Весь фантастический мир колес и моторов, шикарных авто и малолитражек, грузовых фургонов и грузовиков с погрузочным механизмом, автобусов и многотонных грузовиков, мопедов и мотороллеров стал для него своим миром.
Лейтомерицкий быстро открыл несколько торговых площадок, хорошо связанных друг с другом и умело распределенных по территории города. В окраинных районах он продавал модели малого и среднего класса и чаще всего такие авто, земная жизнь которых уже миновала: «гоггомобили» и «фиаты-тополино», «шкоды» и «вартбурги» – окрашенные в тусклые и размытые цвета; разумеется, «фольксвагены», «жуки», иногда «пежо» и «ситроены», реже «опели» – это по здешним меркам уже высший класс. Ну и к тому же мопеды фирмы «Лонер», отслужившие свой срок мотоциклы почтового ведомства, выпускавшиеся в Граце на заводах «Пуха».
В центральной части города, на Рингштрассе, напротив здания Оперы, Лейтомерицкий с большой помпой открыл автомобильный салон, совершенную жемчужину в его ожерелье – с дорогими и элегантными авто самых престижных марок: «мерседес», «ровер» – и снова «мерседес»; сплошной лак и кожаная отделка, с самой современной начинкой, самое лучшее и модное из всего, что только есть.
Лейто был твердо уверен в двух вещах: автомобиль – это всерьез и надолго. И второе: любой автомобиль, способный тронуться с места, можно продать!
– Они катят себе и катят! – говорил он задумчиво, глядя сквозь огромные стекла витрины своего автосалона на широкую Рингштрассе, заполненную автомобилями. И иногда, откинув голову назад характерным, резким движением, добавлял:
– Мне это бросилось в глаза еще во время войны.
Жил Лейтомерицкий в просторной, но запущенной квартире во Втором районе, на Гроссе Шиффсгассе. Местность здесь ровная, без холмов, и вместе с Двадцатым районом, с Бригиттенау, образует остров, заключенный между Дунаем и Дунайским каналом. Большие ольхи и тополя с огромными, облачно распушенными кронами придают длинным и прямым улицам этого квартала меланхолический характер пойменного и прибрежного пейзажа. Но на такие мелочи у Лейтомерицкого нет ни времени, ни вкуса, хотя он и слушает иногда по радио мелодии из оперетт и венские народные песни, а иногда даже тихонечко напевает их во время работы. Но это, честно сказать, производит скорее комическое впечатление.
Иногда, ну, скажем, летним вечером, после долгого рабочего дня Лейтомерицкий отправлялся пройтись по кварталу, – улицы в это время пустые и кажутся заброшенными, лишь иногда покажется какой-нибудь прохожий, выгуливающий собаку, – но довольно скоро прогулка его заканчивалась, Лейтомерицкий поворачивал назад и почти бегом направлялся к своему дому, в свое жилище.
Свое свободное время Лейтомерицкий, собственно, проводил так: он садился за письменный стол и извлекал из ящика несколько папок.
Жалюзи на окнах опущены, в квартире больше никого нет, кроме самого Лейтомерицкого. Он раскрывает одну из папок, в которой лежат листки с колонками длинных чисел, с фамилиями и адресами. Лейтомерицкий так глубоко затягивается своей сигарой, которую только что раскурил, столь резко, что сигару приходится отложить, чтобы она остыла. Из полупустой уже бутылки, которую он держит в ящике стола, он наливает себе рюмку сливовицы.
На столе перед Лейто лежат три карандаша: зеленый, красный и простой. Красным он вычеркивает ту или иную фамилию. Делается это всегда нерешительно и с определенным сожалением, и лишь тогда, когда этому предшествовала длинная переписка. По адресам, помеченным зеленым, Лейто рассылает письма со стандартным содержанием и просьбой к адресату связаться с ним, с Лейтомерицким.
Помеченным простым карандашом адресам Лейто уделяет особое внимание. Он просматривает их внимательно, сверху вниз, делает отметки, пытается что-то вспомнить. Закончив свои труды, он встает и, лавируя между мебелью, по грязным коврам, под которыми скрипят половицы, отправляется на кухню, где пьет воду прямо из-под крана. Полумрак действует на него успокаивающе, и, возможно, в силу привычки, весьма странной, поскольку она никак не соответствует человеку с его уровнем дохода, у Лейтомерицкого во всей квартире горит только одна лампа – на письменном столе. В остальные комнаты проникает лишь слабый и блеклый свет уличных фонарей, подсвечивая растрескавшиеся обои на стенах.
Дела у фрау Штрнад шли так хорошо, что она, как уже было сказано, могла себе позволить вкладывать деньги в автомобильную торговлю Лейтомерицкого. В кругу людей, с которыми она имела деловые отношения, то есть среди маклеров, агентов, управляющих недвижимостью, страховых агентов, адвокатов она считалась тертым калачом, человеком весьма опытным. Однако много кто из ее коллег говорил о ней нелестные вещи и упрекал в грязных методах работы. Ходили упорные слухи, что основной капитал она нажила на сделках с аризированной недвижимостью, с домами и земельными участками, которые, – и тут расхожие среди венских жителей мнения весьма невнятны, – либо были в свое время куплены за бросовую цену у евреев, спасавшихся бегством от нацистов; либо, с другой стороны, в профессиональной среде, к которой Штрнад принадлежала, под этим понимали движимое и недвижимое имущество, которое на самом деле было конфисковано как «еврейская собственность» самой нацистской партией или отдельными ее сторонниками и обращено в собственную пользу. Кто, однако, мог бы точно знать, жив ли тот или иной прежний владелец-еврей, или же вместе со всей семьей был отправлен в газовую камеру, или попал под колеса государственной машины каким-то иным образом?
В этих запутанных ситуациях клиентура ее бюро состояла попеременно из двух частей: с одной стороны, это были евреи, либо вернувшиеся в Вену, либо за границей, в Аргентине, США или других заокеанских странах, на основании документов подтвердившие право на свою собственность. С другой стороны, были люди, которые участвовали в делах, творимых нацистами, и цепко держались за свою добычу.
Были ли слухи и обвинения справедливы? Или это всего лишь оговоры, криводушные и язвительные наветы менее успешных конкурентов?
Перед нами случай с Лизой Корнфельд. Однажды в бюро фрау Штрнад раздался телефонный звонок, секретарша соединила звонившего с шефиней: на проводе молодая женщина, по-немецки говорит с сильным американским акцентом, уверяет, что имеет документы, подтверждающие ее право собственности на один из доходных домов с относящимся к нему земельным участком в венском районе Веринг. Штрнад отвечает дружелюбно, но сдержанно, предупредительно и одновременно с дистанцией, так, как это бывает, пожалуй, только в одном месте на всем земном шаре, в городе Вене. Она сразу предлагает встретиться частным образом, в кафе, а не в ее бюро, где все слишком официально.
– Может, у Захера? В кафе «Захер» – удобно ли Вам?
На встречу Штрнад приходит минута в минуту, на ней серый городской костюм, в руках черный портфель. Ни минутой позже. Ни минутой раньше. Ни расфуфыренная, ни одетая как серая мышь, а именно в той вполне женственной одежде, которая больше всего подходит ей и ее деловому типу.
Как и предполагалось, гостья ее, американка, уже сидит в кафе, хрупкая, с бледным цветом лица, маленькая женщина, не без миловидности, но все же вполне посредственного вида. Стоит только отвести от нее взгляд, как уже и не помнишь, как она выглядит. Скорее всего – провинциалка, по всей видимости, со Среднего Запада, как заключает Штрнад по ее акценту. И в самом деле, женщина приехала из маленького городка в Огайо, где когда-то нашел прибежище ее отец, бежавший от нацистов. Отец уже умер.
– I was a little child then.[4]4
Я тогда была маленьким ребенком (англ.).
[Закрыть]
Фрау Штрнад больше не задает вопросов о том, как сложилась судьба этой семьи, дело ясное, случай совершенно очевидный, а вместо этого она заводит разговор об Америке, например, о Ниагарском водопаде, она давно хотела съездить туда в отпуск полюбоваться зрелищем рушащейся вниз воды, а еще о том, какие американцы приятные люди, nice, very nice[5]5
Приятные, очень приятные (англ.).
[Закрыть].
– Му mother was murdered[6]6
Мою мать убили (англ.).
[Закрыть], – говорит молодая женщина. За столиком кафе «Захер» возникает неловкая пауза.








