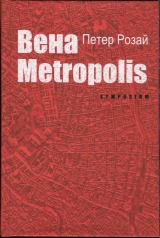
Текст книги "Вена Metropolis"
Автор книги: Петер Розай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
По дороге на службу, а начинают они обычно часов около шести, они частенько заводят речь о Лейтомерицком и, как правило, кроют его во все корки. «Ведь в договоре записано, что мы – совладельцы этой лавочки!» Эта фраза звучит в их устах довольно часто, однако и она, и прочие их речи на эту тему не имеют никаких последствий.
Когда начинаются занятия и Пандура объясняет выстроившимся в зале ученицам, как даме следует протягивать руку для поцелуя и вообще что означает поцелуй руки в обращении с дамой и в отношениях между дамой и кавалером, или когда Оберкофлер, собравшись и устремив взор вперед, подняв вверх правую руку, обхватив левой за талию воображаемую партнершу, с большим подъемом демонстрирует начальные па танго, Лейтомерицкий в это время обычно уже скрывается в небольшой, покрытой белым лаком пристройке у гардероба, которую он именует своим бюро и из которой сквозь вставленное в переднюю стенку оконце он следит за происходящим. Правда, чаще всего его мало заботит происходящее в зале, и он в основном сидит на телефоне.
Идет ли речь о покупке партии американского рома в русской оккупационной зоне или о приобретении бэушных форменных рубашек у американцев, идет ли речь об автомобиле (в отличном состоянии, правда, в данный момент не на ходу), о занавесках из тяжелого шелка, об аугартеновском фарфоре или о рулоне линолеума – обращайтесь к Лейтомерицкому, не ошибетесь. Он ведет торговлю и с крестьянами из окрестных деревень, и тогда речь идет о картошке, вишне, яйцах или о квашеной капусте – в зависимости от времени года. У него, у Лейто, все отыщется – и детские коляски, и гладильные доски, и пуховые перины с постельным бельем. Но не стоит думать, что его энергия полностью расходуется на такую мелочевку. Эти дела он делает походя и от скуки. С чашкой кофе в одной руке и с горящей сигаретой в другой он большую часть времени восседает в своей пристройке и молча про себя что-то обдумывает.
С недавнего времени в танцевальной школе появилась фрау Штрнад. Они с Лейто, кажется, давно знакомы. Во всяком случае, в общении с ней он выглядит несколько скованно. Когда заходит речь об оплате, – а речь всегда идет только о наличных, – и ученики протягивают ему купюры сквозь окошечко в бюро, то с фрау Штрнад платы не требуется, он машет ей рукой, и она свободно проходит в танцевальный зал.
Ей лет сорок, у нее черные волосы, и когда ее спрашивают, чем она занимается, она отвечает, что заведует бюро по управлению частной недвижимостью. Стройная фигура, пышная грудь, красивые плечи, гладкая белая кожа, маленькие подвижные руки и изящные ножки, – в ее-то возрасте, а то и благодаря ему, она просто красавица, да еще какая! Она так улыбается, что от ее улыбки замирает сердце, она держится свободно и независимо, при этом есть в ней что-то от сорванца, и с юмором у нее все в порядке. Как сверкают из-под локонов ее прически крохотные алмазы в серьгах, как сияют ее серо-зеленые, обычно слегка прищуренные глаза, когда она через зал подходит к партнеру, как она наклоняет голову, словно глубоко задумавшись, а потом вдруг поднимает глаза и смотрит на своего визави открыто и в упор – все это производит впечатление уверенности в себе и непринужденности, вызова и одновременно некоторого кокетства, так что искра проскакивает. Обалденная женщина! В этом мнении все мужчины были едины.
Ничего удивительного в том, что почти сразу фрау Штрнад становится средоточием танцевальной школы, она возведена на трон и особенно обожаема юными девицами, она – образец для подражания и заводила во всех мыслимых эскападах.
Лейтомерицкий сидит в своем бюро и что-то пишет. Длинные колонны цифр тянутся по листку бумаги. Лампа с зеленым абажуром световым кругом заливает его письменный стол, но снаружи, из танцевального зала, этого не видно. Кофе, налитый в огромную чашку, давно уже остыл. Он прикуривает одну сигарету от другой.
Для Оберкофлера интрижка с фрау Штрнад не проходит столь гладко и безболезненно, как для других ее ухажеров. С самого своего появления Штрнад рассматривала танцевальную школу как свои охотничьи угодья, флиртовала то с одним, то с другим, назначала свидания – это не осталось незамеченным, к этому привыкли и, не без доли зависти, в меру об этом сплетничали.
В один прекрасный вечер Оберкофлер столкнулся с фрау Штрнад в коридорчике, ведущем к туалетным комнатам. Поравнявшись с ним, она остановилась и спросила, нельзя ли ей брать у него танцевальные уроки частным образом.
– А где мы будем заниматься? – спросил ошеломленный Оберкофлер.
– У меня, – с улыбкой ответила женщина и проследовала мимо Оберкофлера к лестнице, ведущей в зал.
Шуршание ее платья, вернее, ее юбки, которое он услышал, когда она уходила, станет затем опознавательной мелодией их встреч. Оберкофлер уже давно тайком бросал на фрау Штрнад задумчивые взгляды, примерно так, как посматривал он в свое время на Пандуру. Правда, внешне он вел себя вполне уверенно. Он никогда не выделял ее среди танцующих, не оказывал знаков особого внимания и всегда старался сохранять в общении с ней деловой тон, чтобы никак себя не выдать. Пандура вел себя совершенно иначе, явно за ней ухаживал, как и большинство мужчин, – но ничего у него не вышло. Впрочем, Пандура не слишком расстраивался, ему было с кем утешиться.
Фрау Штрнад открывает дверь, дружелюбно здоровается с Оберкофлером и приглашает его войти. Живет она в доме на Райхсратштрассе сразу за зданием парламента и рядом с ратушей – весьма престижный адрес. Она проводит его по комнатам, походя обращая его внимание на несколько вещей, память о муже, оставшемся лежать на поле брани, как она выражается. Оберкофлер хотел было спросить, в каких частях тот служил, но сдержался, решив, что еще будет повод.
Наконец они останавливаются посреди гостиной, и Штрнад негромко, но внятно говорит Оберкофлеру:
– Хватит комедии. Ложись-ка на пол! Впрочем, лучше давай-ка туда, там можешь раздеться. – Она машет рукой в сторону двери, ведущей в небольшую каморку.
Оберкофлер послушно уходит и возвращается в совершенно голом виде. Он растерян, и одновременно он в восторге и счастлив преклонить перед этой женщиной колени, целовать ее туфли. Иногда она командует, чтобы он улегся на пол лицом вниз и наступает ему на шею своей маленькой ножкой. Но чаще всего она требует, чтобы он ей о чем-нибудь рассказывал! Как это прекрасно! Часы, проведенные с нею, похожи на сказочные часы из детства. Оберкофлер потом пересказывает все Пандуре, тот поначалу слушает с любопытством, но впоследствии с горьким сарказмом отзывается на эти продолжающиеся и занимающие все больше времени встречи.
– Ты раньше был другим.
И в самом деле, Оберкофлер рассказывает ей обо всем, о чем она ни спросит. Что ему в ней нравится? Что особенно нравится, что конкретно? Любит ли он ее? Что для него значит, когда он говорит, что ее любит? Любит ли он только ее, только ее одну и никого больше? Ей, похоже, все это действительно интересно.
Иногда она разыгрывает другие сцены, другие истории, она в их отношениях главная, и она, например, спрашивает, любил ли он свою мать? Всегда ли он ее любил? Ходили ли они вместе в церковь? А потом она вдруг резко прерывает беседу.
Иногда, когда Оберкофлер со слезами на глазах просит прекратить его мучения, она забавляется с ним.
– Ты ведь не хочешь изгадить мои прекрасные ковры? – говорит она и шлепает его по заднице.
Однажды, по какому-то поводу, он вдруг начинает говорить о войне:
– За все время, что я был на фронте, я ни одного, ни единого человека не прикончил, – говорит он. Заметив, что Штрнад не нравится выражение «прикончить» и что она смотрит в сторону, он продолжает: – Все это было сплошным недоразумением! В Литве мы ликвидировали партизан, коммунистов, – расстреливали перед выкопанным рвом. А один из них все говорил и говорил сам с собой во весь голос, заложив руки за голову, говорил непонятно что. Я его спросил, о чем он это, а он мне: Кадиш, поминальная молитва! А остальные уже лежали внизу, в яме – как куча тряпья.
– Идиот! Свинья! – фрау Штрнад вдруг впала в истерику, колотя Оберкофлера в грудь своими маленькими кулачками.
Пандура все больше спивается. Когда он с утра пораньше наливает себе в кухне стакан рома (ничего приличнее в доме нет), между ним и Оберкофлером вспыхивают ссоры. Пандура не позволит собой командовать. У Оберкофлера иначе не получается, он как хозяин квартиры повышает голос. Пусть лучше позаботится о своих шашнях с этой бабой! В конце концов, когда ссора разгорается на полную катушку, Оберкофлер уступает и просит, чтобы Пандура остался.
Отношения с фрау Штрнад продолжаются.
Как-то раз она снова спрашивает Оберкофлера, какие у них отношения с Пандурой.
– У вас друг с другом ничего такого нет?
Оберкофлер говорит, что ничего подобного, и, собственно, сдает Пандуру.
– Что ты против него имеешь? Он ведь пропащая душа, – бормочет Оберкофлер.
– Ты ведь с ним, с этой грязной свиньей, с этим господином бароном был на фронте, не так ли?
– Вовсе он никакой не барон! Его старик-отец, все промотавший и прокутивший, сделал ребенка какой-то деревенской девке. Пандура – байстрюк, незаконнорожденный!
– В самом деле? – произносит она и смотрит на Оберкофлера, злорадно улыбаясь.
Весной, – а было это весной сорок седьмого, что, впрочем, к делу не относится, – Обрекофлер на ступенях лестницы, ведущей к платформе городской электрички, нос к носу сталкивается со своей женой: она поднимается ему навстречу, блондинка, та самая светловолосая дамочка с Йозефштедтской! Его словно током ударило. Он протягивает к ней руку, но она отшатывается в сторону. Она ведет за руку ребенка, девочку, и вовсе не намерена останавливаться.
– Ирена! Ты меня не узнаешь?
– Чего тебе надо? – отвечает она и смотрит ему прямо в глаза дерзким и холодным взглядом. Одета с иголочки, косметика идеальная. Дорогое платье. Последнее, что он замечает, когда она скрывается в толпе прохожих, так это круглую шляпку-котелок у нее на голове: по сезону на шляпке воздушная белая вуаль, обсыпанная рисунком из маленьких синих фиалок.
Однажды утром Пандура заявляет Оберкофлеру, что намерен съехать с квартиры. Он сыт по горло! Он решения не переменит, хотя Обрекофлер со слезами на глазах умоляет его остаться.
Пандура с бутылкой рома в руке ухмыляется в ответ:
– Вот увидишь… Что – вот увидишь?!
Оберкофлер отправляется к Штрнад за советом. Она гонит его прочь.
– Чего ты ко мне с этим приплелся? Ступай домой и решай все сам.
Тело его нашли на кухне. На столе – старая газета в пятнах, он, возможно, читал ее напоследок. Рядом свидетельство о гражданстве, крест на шейной ленте. Оберкофлер всегда был аккуратистом. Сам он, или то, что от него осталось, лежит, подогнув колени, перед газовой плитой, словно перед реликварием или дароносицей в церкви, голова засунута в духовку.
Глава 2
В прекрасном городе Клагенфурте в одном из доходных домов для небогатого люда, стоящем на широкой улице, что ведет из центра на восток, помимо других обитателей, в одной из квартир первого этажа проживала рабочая семья. Семья домовладельца, состоявшая к тому времени всего-навсего из пожилой, но все еще крепкой его вдовы и ее взрослого сына, занимала второй этаж.
К горному хребту Караванке с австрийской стороны полукругом примыкает обширная долина, занимаемая озером Вёртерзее, изрезанным множеством бухт и бухточек. На белых известковых склонах гор с резко очерченными синими тенями выделяются бурые и зеленые пятна лесных массивов.
В центре длинный гребень холма из пористой породы, частично заросший лесом, частично используемый словенскими крестьянами в сельскохозяйственных целях, с него вниз устремляется речушка, ложе которой вытянулось как по струнке.
Рабочая семья состояла из отца, матери и маленького сына, которого звали Альфредом. Едва ли не с младенческого возраста мальчишка обнаружил особые таланты: к примеру, он запоминал все торговые вывески, когда его по широкой улице вели в центр города. Он умел и другое: аккуратно разложить на полу покрытые ржавчиной железные кольца, закрывавшие отверстие в кухонной плите, а потом тютелька в тютельку вставить их на прежнее место. Эти скромные навыки были отмечены его близкими, особенно гордилась им мать, считавшая, что ребенка ждет большое будущее.
Отец его был подсобным рабочим на фабрике, находившейся в промышленной зоне вдоль железной дороги, в южной части города. Предприятие по производству и розливу фруктовых соков было старомодным и технически отсталым. В короткий перерыв рабочие, мужчины и женщины, при любой погоде устраивались со своими бутербродами во дворе фабрики, в открытом сарае, перемежая еду разговорами, чаще всего довольно свинского содержания.
Отец был невысокого роста, но мускулистый, с косившими в сторону глазами и болезненно раздутыми щеками. Голос у него был грубый, – хотя на слова он был весьма скуп. Чаще всего, вернувшись домой с работы, умывшись и съев ужин, приготовленный женой, он молча, уставившись перед собой, сидел в уголке кухни и курил сигарету за сигаретой. В разговоры матери с ребенком он не вмешивался. Раз в несколько месяцев он уходил в запой, длившийся несколько дней.
На фронте он служил в пехоте, был несколько раз награжден, но в конце войны был все тем же простым солдатом, каким его в свое время призвали в армию. Сын домовладельца, живущий на втором этаже, убежденный наци, сделавший блестящую карьеру в войсках СС в Берлине, всякий раз, проходя мимо, хлопал малорослого работягу, снимавшего у него жилье, по плечу и спрашивал ехидно-самовлюбленным голосом:
– А не заняться ли нам строевой подготовкой?
Жена, мать Альфреда, мужа своего разве что терпела, по большей же части она его просто не замечала, и если когда-то между ними и существовали любовь или привязанность, то от них теперь и следа не осталось, если не считать доносившихся из темной спальни раз в неделю пыхтения и скрипа кровати. Мальчонка же во всем подражал матери и совсем не замечал отца.
Мать Альфреда работала в типографии – собирала отпечатанные листы в пачки или промазывала клеем готовые блоки. Печатали на ее предприятии в основном библии, католическую душеспасительную литературу и церковную прессу. Трудно сказать, с самого ли начала она имела склонность к этому или же переняла ее от своего окружения на работе: она была очень богобоязненной, и если, к примеру, ночью муж или сын заставали ее сидящей на кухне, на скамеечке рядом с плитой, набросив на плечи платок, то губы ее всегда беззвучно и истово шептали молитву. На стене тикали часы.
Сын домовладельца, которого его мать называла Хаймо, обычно весь день проводит в постели, решает кроссворды и листает иллюстрированные журналы, вечером же совершает большой выход в город, где его как желанного, особого посетителя ждали ночные заведения, расцветшие в годы военной оккупации. Нарядившись в костюм, при галстуке, усевшись у барной стойки, он с апломбом разглагольствует обо всем подряд и доверительно шушукается с барменом и официантами. Под утро он, всегда с очередной женщиной, подъезжает на своем «мерседесе» к дому: галстук сбился на сторону, на бледном, распухшем лице – щетина. Заглушив мотор, он выуживает свою спутницу из машины и волочит ее, хихикающую и придерживающую оборки своей одежонки, чтобы не запачкаться, по лестнице к себе на второй этаж.
Помимо жильцов, рано поутру разбредающихся из дома и трусящих на работу, проживает здесь и одинокая женщина по фамилии Штарк, ее квартирка находится в пристройке, рядом с гаражами, прежде, вероятно, в крестьянском прошлом дома, служившей то ли сараем, то ли конюшней: сейчас в пристройке три или четыре квартирки, одна над другой, под самую крышу, и эта самая Штарк в одной из них и живет.
Фрау Штарк отличалась от других, во-первых, потому, что не ходила на работу, а во-вторых, она на разных людей производила очень разное впечатление. Для уличных мальчишек, к которым вскоре прибился и Альфред, особым развлечением было следующее: вечером, когда почти совсем стемнеет, они прокрадывались по песчаной и покрытой островками сорняков площадке к двум окнам ее квартиры и приникали к ним. Отец Альфреда, простой работяга, всякий раз, когда встречал фрау Штарк, глазел на нее, не отрываясь, а Альфреду запрещал близко к ней подходить.
Сын домовладельца, просыпавшийся ближе к полудню, любил подсматривать из-за занавески спальни за теми, кто к ней заходит и выходит, и, обращаясь к очередной даме, еще потягивающейся в его постели, отпускал реплики по поводу краткости или долготы очередного визита.
Однажды фрау Штарк нашли мертвой в ее крохотной квартирке, убил ее, скорее всего, последний ее любовник – так вот и закончилась эта короткая, ничем особым не примечательная жизнь. Какое-то время все гадали, кто же именно ее убил, но довольно скоро это перестало кого-либо интересовать.
Есть в доме и еще один человек, весьма отличающийся от остальных его обитателей. Тоже женщина. Правда, она не живет здесь постоянно, она – гостья, приезжает нечасто и на короткое время, обычно дня на два или на три.
Это сестра матери Альфреда, его родная тетка, живущая в Вене, в мегаполисе, в сознании ребенка находящемся далеко-далеко и почти сказочном. Рослая, темноволосая женщина, не без привлекательности и элегантности, прямая противоположность своей сестры, изношенной нуждой и трудом, серой и прибитой. Увидев их вместе, никто бы не принял их за сестер.
Жильцы дома весьма дивились этим визитам из Вены и считали, что причиной тому сестринская привязанность и сентиментальность: мать Альфреда, фабричная работница, была единственной сестрой и вообще единственной еще живой родственницей венской дамы.
Что касается Альфреда, так он безмерно радуется, когда тетя Виктория приезжает к ним в гости. Она всегда привозит подарки, всякие там сладости и прочие драгоценные вещи – ну и, разумеется, дарит поцелуи и ласковые словечки. Тетя хвалит Альфреда за усердную учебу, покупает ему кое-что из одежды, и чем он старше, тем она больше пытается облагородить его. Отец равнодушно воспринимает эти визиты, тетя ведь приезжает нечасто. И вообще, какое ему до всего этого дело? В первый же день своего приезда тетя Виктория, как он ее называет, дает отцу немного денег, и он молча прячет их в карман. Он вообще не любитель поговорить. Иногда он громко и страшно кричит во сне, в супружеской постели. Жена трясет его тогда за плечо и шепчет в душном мраке комнаты: «Война кончилась, Ханс! Война кончилась!»
Мальчонке этих денег не видать. Отец тратит их на себя.
Дом, в котором они жили, как уже сказано, был двухэтажный. Лишенное всякого декора горохово-зеленое здание с красной крышей было настолько безликим, что уже слово «лик» в слове «безликое» звучало архитектурным излишеством. Сразу за пристройкой, отделенное от нее лишь небольшой площадкой, пролегало железнодорожное полотно. Во двор дома и в квартиры врывался грохот проезжающих мимо поездов, тревожные звонки сигнального колокола и скрежет выставляемых на переезде решеток шлагбаума, крики сцепщиков и лязг буферов грузовых вагонов. Вместе с глухим шумом, доносящимся с широкой проезжей улицы, то нарастающим, то прерываемым полной и почти деревенской тишиной, эти звуки, вместе с красками и запахами растрепанной и неотчетливо прочерченной городской окраины, были фоном детских лет Альфреда.
Со стороны улицы имелась узкая полоска огорода, разбитого на грядки, на которых жильцы дома высаживали салат, горох на длинных подпорках, помидоры, тыквы и всякие разные кухонные травы-приправы. Если встать у забора, то можно было увидеть окаймленную невысокими домами широкую улицу, из глубины которой иногда с гудением выныривал одинокий и заблудившийся автобус.
На небольшой площадке, не имевшей ограды и расположенной между железной дорогой и улицей, частенько затевала свои игры детвора, в основном обитавшая в этом доме. Площадка ничем и никем не была занята и своей ничейностью идеально устраивала детей. Больше всего они любили играть в бомбометание. Игра эта заключалась в том, чтобы точными бросками камней разбомбить старательно возведенную конструкцию из пустых консервных банок. Пока сторож этой пирамиды как можно быстрее возводил ее заново, бомбардиры должны были изловчиться и собрать брошенные в сооружение камни. Если сторожу удавалось изловчиться и поймать кого-то из метальщиков, тот становился на его место и водил. Чем сильнее сплющивались и уродовались консервные банки, тем труднее было выстроить из них пирамиду. В этом смысле детская забава словно бы отражала тот процесс восстановления, который протекал вокруг: большинство домов предместья, частично или полностью разрушенные бомбами во время войны, лежали в развалинах.
Клагенфурт заняли англичане. Поэтому консервные банки, которыми играли дети, были в основном с английских армейских складов, и на зеленовато-бурых жестянках были напечатаны слова, странные и загадочные благодаря своей непонятности. По улице частенько проезжали военные грузовики. Если шлагбаум на переезде был закрыт, то дети использовали остановку военной колонны и попрошайничали, протягивая руки в сторону солдат, восседавших в джипах или в кузове грузовиков.
Летом, ну а лето вообще было самым прекрасным временем, они уже спозаранку готовили свои велосипеды, чтобы после обеда отправиться купаться. Подтягивали гайки на дребезжащем крыле или на защите цепи, поднимали или опускали седла, чинили порвавшуюся сетку из резиновых ниток на заднем колесе дамского велосипеда, чтобы восстановить сказочный узор, напоминающий павлиний глаз или морскую раковину. А если вовсе нечем было заняться, то задумчиво и бессознательно крутили пальцами рифленый валик динамо, раскручивавшегося и снова останавливавшегося – словно картинки во сне.
После обеда отправлялись в путь по длинным аллеям, тянущимся вдоль полей, мимо луговых межей, по полевым дорогам, на которых под лучами солнца поднималась плотная, белая пыль, словно раскаленная и тончайшая пудра, и катили вниз к реке. Какой там поднимался визг и смех, как плавали и ныряли! Мокрые руки пловцов выпрыгивали из серых речных волн и отсвечивали белыми проблесками. На реке в одном месте была запруда, и там образовалось нечто вроде озера: мальчишки любили прыгать в воду с края запруды, туда, где взбивалась белая пена и громко шумела вода, а девчонки, скрестив на груди руки, с берега глазели на своих героев.
Из всей детской компании выделялись и верховодили два парнишки: один, Георг, долговязый, с бледным и замкнутым лицом, блистал своим велосипедным искусством и той манерой, с которой он с заносчивым выражением на лице всей вся выслушивал и рассматривал, а потом, нисколько не обращая внимания на окружающих, отворачивался в сторону. Второй, Альфред, – к тому времени коренастый, немного неуклюжий паренек, лицо которого, покрытое веснушками, излучало доброту и открытость, слегка замутненную лишь тем, что было в этом лице что-то диковатое. Без какой-либо договоренности или обсуждений между другими детьми оба мальчишки, Георг и Альфред, были главными, как будто это было их естественное право. Остальная компания следовала за ними. Они отличались друг от друга своей внешностью, но и характеры их были разительно несхожими. Однако вместе их характеры и души удивительно хорошо сыгрались, словно две скрипки, как раз для этого дуэта созданные. Замечали ли они, знали ли они это сами? Или это происходило из тактических соображений, из своеобразного оппортунизма, из нежелания связываться друг с другом? Вместе все получалось лучше. Так все сложилось, и их это устраивало. Например, если Георг считал, что день сегодня слишком жаркий и на реку ехать не стоит, то Альфред, сидевший на корточках под деревом и рисовавший старым гребнем круги на песке, даже не поднимал взгляда. А если Альфред предлагал какую-нибудь игру, неважно какую, то и Георг считал, что это отличная идея. Иногда, что бывало редко, мнения их все же расходились. Договориться удавалось, но трудно и сложно, поскольку именно Альфреда тяжело было переубедить. У него всегда находился аргумент, противостоящий мнению Георга. Он охотно подтасовывал аргументы, запутывал словами себя и других. Но уж если его удавалось переубедить, он решительно вставал на сторону этой затеи и с жаром объяснял ее суть всей компании, в то время как Георг держался в сторонке с присущим ему безразличием.
На железнодорожной насыпи росли сорняки, и серые их листья стлались по земле под натиском воздушного потока, когда проходил поезд. В траве блестели осколки бутылок, которые пассажиры беззаботно выбрасывали из окон. Все выглядело пустынно и затеряно, но было в этой картине что-то манящее и призрачное, ведь рельсы уходили в неизвестную даль, а осколки так красиво блестели.
По вечерам постоянные и временные жильцы собирались во дворе на скамейке, поставленной вдоль длинной стеньг пристройки напротив одинокого, с пышной кроной, дерева. Квартирки были маленькие и тесные, и так приятно было посидеть на улице под открытым небом, вдыхая медленно остывающий после жаркого дня вечерний воздух. Разговор касался то того, то другого, обычная болтовня, одним словом. О политике никогда не говорили, словно следуя молчаливому уговору, и остальной мир за пределами двора и дома если и становился предметом разговора, то только в виде отдельных историй, то смешных, то страшных, то удивительных, но никак не связанных одна с другою. Любили поговорить и о детях, и о том, кем тот или иной ребенок когда-нибудь станет.
Иногда дело доходило до споров и размолвок: например, кто из соседей накачал из колонки слишком много воды, а кто в общую мусорную яму свалил слишком много отбросов, или кто выколачивает половики слишком рано утром или слишком поздно вечером.
Летними вечерами листва на большом дереве словно застывала в неподвижности, и от нее шел горьковатый запах.
Если обоим друзьям надоедало играть с остальными детьми, или вечером, когда малышей загоняли в постель, Альфред и Георг отправлялись в свое любимое тайное место.
За их домом по краю города тянулись складские площадки древесины, угля и железного лома, дальше располагались большие луга и фруктовые сады, а также несколько крестьянских дворов с выгонами, пашнями и садочками, выглядевших в предместье города несколько потерянно.
Альфред и Георг катят на своих велосипедах в сторону площадки с железным ломом, там есть дыра в заборе, укрытая развесистым кустом. Они пробираются сквозь дыру, ползут на четвереньках в густой траве, остерегаясь большой собаки владельца площадки, о которой ходят слухи, что она очень злая. В самой середине горы из ржавого железа они оборудовали себе укромное место. Там они и сидят, и говорят обо всем подряд, у них нет тайн друг от друга, и разговоры их заканчиваются только тогда, когда они слышат, как мать, – вернее, их матери, – зовут обоих домой.
Георг рос без отца, и он бы отдал целый год своей жизни за то, чтобы узнать, кто же его отец, и чтобы хоть немного побыть с ним.
Альфреда с отцом, жалким работягой, ничего не связывает. Ему до Альфреда нет дела, вот и Альфреду до него дела нет. Разумеется, Альфред любит свою мать. Однако для него она, с ее благочестием и богобоязненностью, – как чужая. Она ему неинтересна. Идеальный образ женщины, образ, который он себе составил, олицетворяла его тетка – тетя Виктория. Безо всяких «но» она была для него светлой королевой, словно сошедшей на землю с небес. Он знал, что она его любит. Он знал это по взглядам, которые она порой бросала на него. Иногда, оказываясь рядом с ним, она на секунду останавливалась и проводила ладонью, кончиками пальцев, по его щеке. Тогда он чувствовал и был уверен в том, что в этой ласке заложено много больше, чем дежурная любезность рассеянной красавицы.
– Вот Виктории, так ей повезло! Она рано убралась отсюда, из Клагенфурта. Всегда имела дело с настоящими мужчинами!
– А тетя богатая?
Альфред, прежде чем уснуть, думает: а она, тетя, должно быть, богатая. Он не представляет толком, что значит быть богатым. Он знает только другую сторону – что значит быть бедным. И он принимает то головокружительное ощущение, которое вызывает в нем слово «богатый», за обещание счастья, счастливой жизни.
В наступившей темноте мальчишки прокрались к окнам квартиры на первом этаже, где жила фрау Штарк. Надежно укрывшись за темными зарослями огромных сорняков, присев на корточках или же в молчаливом оцепенении прижавшись друг к другу, словно два лунатика, они, насколько позволяли задернутые занавески, заглядывали в окно. Иногда удавалось увидеть только широкую мужскую спину. Если же им везло, то их взору являлись светлые подошвы двух маленьких ног. Эти ступни, казалось, были наделены крыльями! Они так широко расставлены, что невозможно представить, будто они принадлежат одной и той же женщине.
За железнодорожным полотном, за широкой улицей город в самом деле заканчивался. Там, за крышами низеньких, отдельно стоящих домов, в относительном порядке тянущихся вдоль улицы, и за голыми ветвями старых деревьев, где зимой взлетали вороны и как черные точки летели по небу, возвышалась церковная колокольня с красной крышей. По воскресеньям Альфред отправлялся с матерью в церковь. Там он с удивлением посматривал на ее лицо, склонившееся над католическим песенником.
Сразу за церковью, в открытом поле видны были еще несколько заборов и сараев, а дальше – ничего, пустое и огромное небо, пронизанное солнечными лучами, и от этого вида сердце его трепетало и от страха, и от радости; а порой небо было низкое и плоское, закрытое косо тянущимися грядами облаков. И тогда на него наваливалась тяжесть.
В семье у Георга дела обстояли так: с одной стороны, у него была тетя, очень болезненная и никогда не выходившая из квартиры. А еще дядя, он работал на мусоровозе, и от него, когда он возвращался после смены, тяжело и тошнотворно пахло гнилью и разложением. Георг у приемных родителей чувствовал себя вполне терпимо. Его родная мать в сезон работала официанткой в «Марии Вёрт», в отеле на озере, и раз в неделю приезжала навестить его. Когда мать на велосипеде въезжала во двор дома, яркая и элегантная, в коротком летнем платье, в изящных туфельках, с накрашенными красной помадой губами, то обоим друзьям было ясно, что на сегодня их играм пришел конец. Мать, своенравно откинув прелестную головку назад, рассматривала Георга и при этом барабанила пальцами по столу. Она быстро выясняла, что из уроков он выучил, а что нет. За этим сразу следовали похвала, хула или наказание, в принципе, справедливые, но крайне несправедливые в соотношении одного с другим: похвала была редкой и сдержанной, а вот ругала она его яростно и взвинченно. Было бы, однако, совершенно неправильно считать, что приезды матери были Георгу в тягость или что он хоть в малой мере сомневался в ее компетентности, напротив: как только он замечал приближающуюся на велосипеде мать, один лишь факт, что она у него есть – и что она к нему приехала! – наполнял его гордостью и бьющей через край радостью. Да, она самая красивая, самая выдающаяся, самая лучшая!








