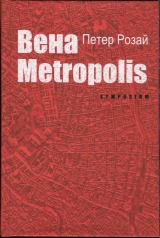
Текст книги "Вена Metropolis"
Автор книги: Петер Розай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
– Речь идет о следующем, Густль, – сказал мужчина, вернувший архитектора в эту группу гостей, и от предвкушения эффекта от своего рассказа завихлял бедрами. Его огромные плечи облегал штирийский пиджак, на ногах – колоссальных размеров брюки: не заметить такого гостя было невозможно. – Ты ведь знаком с нашими горами, Густль, не так ли? Вот этот господин, – и он указал на человека в неприметном сером костюме, – утверждает, что он в Кинберг-Гаминге, ну, ты знаешь, где это, года два или три назад подстрелил косулю!
– Исключено! – ответил архитектор уверенным тоном знатока.
Разведя руки на всю ширину, представительный мужчина обратился к присутствующим на баварском диалекте:
– Ну что, все слышали? Слышали? Так-то вот обстоят дела!
Неприметный человек совсем стушевался и быстро и незаметно ушел.
Представительный гость, как выяснилось позднее по другому поводу, был владельцем поместья и птицефермы клеточного содержания в Мархфельде.
– Знаете, – обратился он к даме, которая пожаловалась вслух на то, как трудно в Вене купить качественные и полезные для здоровья продукты, – приезжайте запросто ко мне. Просто позвоните мне – и приезжайте!
Хотя в салоне у Клары разговоры на диалекте не особенно приветствовались, однако все зависело от того, кто кому и что при этом говорил.
Дамы, беседовавшие о восстановлении старых крестьянских дворов и домишек, перешли тем временем к театральным премьерам и к Бургтеатру. Одна из них, плотненькая, со стройными ножками, – благодаря короткой юбке можно было любоваться ими намного выше колен, нетерпеливо пританцовывала рядом со своей собеседницей, оживленно жестикулировала и время от времени разражалась громким хохотом, запрокидывая голову назад, – в какие-то моменты беседы она вдруг столь пристально смотрела на свою собеседницу, словно была из полиции.
Один из приступов ее хохота вызвал недоуменный взгляд со стороны профессора Фродля, стоявшего неподалеку от обеих дам и с самым серьезным видом обсуждавшего судьбоносные вопросы австрийской политики с неким господином, державшимся весьма значительно.
– Одним словом, я считаю все это абсолютной чушью! – были единственные слова, которые произнес значительный господин. Произнося эту фразу так, словно она была результатом основательной и глубокой работы его ума, он умудрился сохранить свою импозантную позу, так что профессор, едва успевший перевести дыхание после своих длинных рассуждений и вопросительно смотревший на собеседника, не смог на того даже обидеться. Ибо помимо того, что господин этот был отпрыском одной из так называемых древних и почтенных фамилий, весьма близких эрцгерцогскому дому, что проявлялось и в его горделивом взоре, и в той манере, в какой он неторопливо и отчетливо произносил слова, было также ясно, что слова его имеют более широкую подоплеку, некое даже философское основание. Потому что Фродль вслед за этим обратился к нему с весьма примечательным вопросом:
– Итак, вы полагаете, что Холокост является наиболее значительным событием двадцатого столетия? Вы так полагаете? Поскольку вследствие этого все, что было раньше, было полностью прекращено?
Однако импозантный господин уже направился к буфету и не удостоил собеседника дальнейшими объяснениями.
В стороне от них, почти у входа в зал, стояли две молодые женщины, милые и слегка тушующиеся, вероятно, впервые приглашенные на подобный прием и не решающиеся пройти в середину салона, украшенного дорогой мебелью и картинами и блистающего утонченным и роскошным буфетом, радующим глаз богатыми угощениями. Разговор их вертелся вокруг знаков зодиака, системно-семейных расстановок, коротко говоря, вокруг судьбоносных проблем всякого рода; одна из женщин постоянно приглаживала свою прическу – настоящую гриву из вьющихся светлых волос… Тут по залу между собравшимися проскользнула воздушной походкой Клара, вся раскрасневшаяся, и тихим голосом, но так, что услышали все присутствующие, сообщила матери Георга, до той минуты незаметно сидевшей в кресле, к которому была прислонена ее трость с серебряным набалдашником:
– Георг приехал! Георг уже здесь!
На самом же деле в дверях появился худощавый человек со следами оспинок на лице, с угристым шишковатым носом, словно у клоуна, гладко причесанные волосы сзади, над воротником, лихо загибались, что еще более усиливало впечатление: это актер, вполне возможно, один из прославленных актеров Бургтеатра, исполнитель характерных ролей, который заглянул сюда на минуточку по пути на спектакль. Мать Георга поднялась с кресла и, с достоинством опираясь на трость, шурша платьем, двинулась навстречу неожиданному гостю.
– Добро пожаловать! – поприветствовала она его.
Новоприбывший гость, держа правую руку в кармане пиджака, причем большой палец торчал наружу, слегка раскачиваясь взад и вперед, еще больше сощурив глаза, которые и без того были похожи на узкие щелочки, во всеуслышание объявил, что он только что обедал со своим издателем, с издателем из Германии – и обед этот растянулся до бесконечности.
– Мы не должны позволять, чтобы нам садились на шею, – заявил гость решительно и с ноткой сарказма в голосе, – нет, ни в коем случае, пусть даже все происходит в отеле «Захер» или в «Империале», не так ли? Я все время смотрел на официантку, знаете, такая здоровая деревенская деваха, недотепа, ей разве что полы мыть, одетая под городскую фифу – в сверкающей, как люстра, блузке, в белом передничке, ну а этот деляга из Германии, он все время меня доставал.
– Вы что-то имеете против деревенских, против стриженых[10]10
G’scherte – «стриженые» – уничижительное именование деревенских жителей в южной части Германии и в Австрии (в старые времена крестьянам не дозволялось носить длинные волосы и бороды – атрибуты высших сословий).
[Закрыть]? – по-простецки перебил гостя землевладелец, стоявший поодаль.
– Жизнь отвратительна и быстротечна, и абсолютно все равно, за кого мы себя здесь выдаем, за деревенскую деваху, за работягу с отбойным молотком или же, если хотите, за профессора из университета. Или за владельца замка, если хотите! Я себя нисколько не исключаю, напротив, – возразил писатель, и ноги его в дорогих фланелевых брюках порывисто шагнули в сторону от матери, стоявшей рядом с ним, прижимая отворот своей домашней куртки рукой к груди и с почтительной робостью взирая на гостя. – Так вот оно все обстоит.
Затем, криво ухмыляясь, словно намереваясь обратить сказанное в шутку и в банальность, он провозгласил:
– Все мы когда-нибудь умрем!
Во время наступившей за этими его словами генеральной паузы, заполненной возгласами удивления, смешками и уничижительными репликами, в зал, тихо ступая, вошел Георг, да, в самом деле, Георг.
– Что здесь произошло? – веселым и оживленным голосом спросил он посреди всеобщей сумятицы, поднял голову и огляделся вокруг, несколько делано потягиваясь, пока наконец не увидел мать и по ее растерянному и несколько затуманенному взгляду понял, что что-то идет не так.
– Кто же сегодня ваш почетный гость? – приветливо и беззаботно спросил Георг мать; вопрос его адресовался и Кларе, которая тоже появилась перед ним.
– Позволь тебя познакомить! – быстро произнесла Клара. Неловким движением она вытянула руку в сторону Георга и хотела подвести его поближе к писателю, который секунду стоял словно окаменелый, прежде чем нацепить на себя свою обычную улыбку и ледяным тоном резко заявить, что с него, де, теперь довольно, на сегодня хватит, он насмотрелся на идиотов, тупиц и развратников, он лучше уйдет – и он действительно ушел.
Мать заковыляла было за ним, но не смогла догнать маэстро. Он удалился, с развевающимся на шее длинным кашемировым шарфом, прежде не бросившимся в глаза, с шарфом, который выглядел как горделивое, но, в данном случае, вражеское знамя.
Первым пришел в себя владелец птицефермы:
– Откуда он такой взялся?
– Из Бургтеатра! – глухо отозвался профессор Фродль.
Обе специалистки в области реставрации взволнованно захихикали, переминаясь с ноги на ногу.
Архитектор Хольцингер у буфетной стойки с печальным вздохом налил себе вина.
Одна из стеснительных молодых женщин, бросив на подругу взгляд, ищущий поддержки, и собрав в кулачок все свое мужество, сдавленным голосом произнесла в сторону Клары:
– Марс находится в доме Солнца!
Было ли уместно, или скорее нет, что в этом обалдело застывшем обществе появилась госпожа профессор Траун-Ленгрис с мужем, профессором Викторесом из Венского университета, дружелюбно и улыбчиво приветствуя всех собравшихся? Она прямиком направилась к старому Вольбрюку и попыталась вовлечь его в разговор на диетические темы. При этом Траун-Ленгрис выглядела намного миловиднее, свежее и здоровее, чем прежде. Ее смех буквально искрился жемчугом, и она даже прикрывала рот рукой, чтобы не слишком привлекать к себе внимание.
Гневный и яростный гость-художник был не кто иной, как пользовавшийся в то время наивысшим вниманием и славой писатель Бернер. Клара впоследствии погрузилась в интенсивное изучение его обширного творчества.
Ведь вскоре после того особого четверга, собственно, к тому времени, когда по ее и Георга представлению реставрация виллы была закончена вплоть до мельчайших деталей, Клара прекратила всякие отношения с мужем в спальне, ее собственной, ей одной принадлежавшей спальне, и с определенного момента она лишь в редких случаях покидала ее пределы. Георгу было предоставлено ограниченное время посещения; впрочем, его это не слишком волновало. Клара была тут, в доме.
Не то чтобы она была серьезно больна, нет! Она просто чувствовала себя неважно, и настолько неважно, что для нее лучше и приятнее всего было повернуться спиной к миру со всеми его установлениями и требованиями. Она обычно сидела на кровати, обложившись горой мягких шелковых подушек, жалюзи на окнах были спущены, – и рядом с постелью всегда горела большая лампа с шелковым абажуром, распространяя мягкий приглушенный свет.
Клара не имела представления, день или ночь на дворе, и только верная служанка информировала ее о тех или иных вещах, касающихся внешнего мира – ибо она отвечала за расписание дел Клары и по телефону согласовывала время прихода маникюрши, массажистки, врача и того избранного круга людей, которых Клара еще хотела видеть.
Основное время своего бодрствования Клара посвящала чтению. Она включала более яркий ночничок, изящную вещицу в стиле модерн с абажуром из стекла – в виде раскрывающегося бутона. Трудно сказать, раскрывалось ли сознание Клары при этом чтении, ведь она главным образом и длительное время читала исключительно книги того самого Бернера, с которым у Георга в тот фатальный четверг – кстати, это был один из последних подобных приемов в их доме, – едва не случился скандал.
Собственно, Клару с произведениями этого автора, а затем и с самим творцом, познакомила мать Георга. Поначалу Кларе его творчество показалось темным, трудным для понимания и мономаническим; однако теперь, в своем затворничестве, в образе жизни чудаковатом и замкнутом, она вдруг открыла его для себя – и пришла в восторг и воодушевление.
Воодушевление – слово уместное, когда его используют в узком смысле: ведь дух этого Бернера действительно снизошел на Клару. Ее разговоры со свекровью, которая не отказалась от того, чтобы навещать Клару ежедневно, были главным образом, а потом и исключительно посвящены обсуждению сочинений Бернера, замечаниям по их поводу или рассуждениям о только что почерпнутых из них сведениях и мнениях. Мать, накинув на острые плечи вязаную шерстяную шаль, устремив взор своих маленьких и водянистых глаз на невестку, неподвижно восседала на краю кровати, лишь изредка проводя ладонями по покрывалу, то ли непроизвольно, то ли желая подбодрить больную; мать слушала, кивала и сочувственно смотрела на вещающую Клару, которая в конце концов в изнеможении и прискучив чтением откидывалась на подушки.
Совсем иначе протекали визиты профессора Фродля, который после шапочного знакомства на журфиксе стал для Клары, пожалуй, самым близким доверенным лицом.
– Когда я воспринимаю мир таким, каким должна его воспринимать, – сказала Клара и выпустила из рук роман, который как раз читала, – когда я воспринимаю мир таким, то он предстает мне не чем иным, как ареной глупости и подлости, подлости и глупости, местом, где правит одна лишь низость или в лучшем случае нечто ничтожно-смешное.
– Вам холодно? – спросил профессор Фродль. Клара в ответ, плотно сжав губы, лишь слегка строптиво покачала головой и отвела прядь волос со лба.
– Не принимайте все это слишком близко к сердцу! – продолжил профессор. – Ведь по сути все, что делает Бернер, это всего лишь искусство и обычная писанина. Принципиально, да, принципиально он, конечно, прав: глупость правит миром! Глупость и низость! А если то, что мы видим в верхах, не есть низость и глупость, то в любом случае это обыденность, посредственность и асфальт!
– Все самое глупое, ничтожное и подлое здесь, у нас, предстает как самое обыденное, – очень тихим голосом произнесла Клара.
– Да, особенно у нас в стране, – заметил профессор.
Некоторое время спустя, когда профессор забрался под одеяло и в ночную рубашку Клары, речи о распаде и гибели вдруг прекратились. Вздыбленный фаллос профессора, дарящий восторг и удовольствие, ерзал туда-сюда в раскрытой ему навстречу Клариной киске, сама же она, тонкая и нежная, отчаянно, неистово обнимала профессора, погрузив свои пальцы, словно острые скобы, в его спину, и, удрученная лишениями, отчаявшаяся в правильности устройства мира, кричала: «Спаси меня, спаси!»
Происходило это примерно тогда же, когда Пандура поступил на службу в венскую полицию. Он давно уже обдумывал этот шаг и вот наконец решился.
Нести обычную службу ему удалось, правда, не очень долго. Он ведь еще во время работы билетером в кинотеатре, подстегиваемый кинохроникой, которую смотрел трижды за вечер перед каждым сеансом, пристрастился к политике, особенно к внутренней, сделав ее своим коньком. Скоро он стал считать себя настоящим экспертом в этой области. В полицейском участке он среди коллег приобрел известность благодаря тому, что, долго ли коротко ли сидя за газетой, вдруг отрывался от своего бутерброда и кофе и громко, с выражением начинал читать вслух только что прочитанное, не обращая внимания на то, слушал его кто-нибудь или нет.
Обычно же с усталым и прогорклым выражением лица он сидел за своим столом и листал иллюстрированные журналы.
В центре города проходила демонстрация – люди протестовали против строительства атомной электростанции – и, несмотря на ее малочисленность, на всякий случай туда направили полицейские наряды, в том числе и Пандуру, – так вот, при одном виде демонстрантов, которые несли самодельные транспаранты и хором выкрикивали лозунги, Пандура вышел из себя, разъярился и бросился с дубинкой на протестующих. За неадекватное поведение его отстранили от несения наружной службы и нашли ему занятие только в пределах службы внутренней. Он на время успокоился.
Жизнь Георга, и это было отчетливо видно, устремлялась к своей вершине. К слову «вершина» следовало бы добавить, пожалуй, что все, что с ним происходило, не было связано с геометрическим представлением о некоей высшей точке, а растянулось на несколько лет – на годы, которые, правда, как и любое счастливое и прекрасное время, пролетели быстро, слишком быстро.
Дома, на вилле в Хитцинге, установился следующий порядок: с одной стороны, там жила его мать, тихая и превратившаяся в собственную тень. Она больше не выходила из своей комнаты, а чем она там занималась, оставалось тайной. Может быть, и ничем. Георг видел мать редко, примерно раз в две недели, за заранее назначенным обедом. Он заглядывал ей в глаза и видел в них одну только беззаветную преданность. Чего же ему еще было желать?
В расходной книге, которую ему ежемесячно представляла на проверку нанятая на постоянную работу экономка, мать вовсе не фигурировала, ей ничего не было нужно для себя, ни на платья, ни на что другое! Что касается Клары, тут все выглядело совсем иначе. Хотя Клара весьма редко, на Рождество или по какому-нибудь сходному поводу, покидала свое убежище и появлялась в просторных комнатах виллы, однако статьи ее расходов были весьма внушительными, а списки ее заказов и покупок – довольно длинными.
Георг задавался порой вопросом, зачем нужны десять пар шелковых чулок и дорогое нижнее белье, если она ни днем, ни ночью не встает с постели! А может как раз потому ей и нужно все это? И он откладывал расходную книгу в сторону.
Фирма Георга выросла до огромных размеров.
Когда он в минуты отдохновения закрывал глаза, откинувшись в кресле, то в узкой полоске между сомкнутыми веками ему виделось золотое сияние. Эта полоска изгибалась, как береговая линия озера или какого-нибудь моря. Совершенной пошлостью было бы соотносить золотистый цвет этих вод, волшебное и приводящее в восторг струение воздуха вокруг – с богатством или с деньгами. В этом море заключалось нечто доисторическое, вневременное и вечное: подобно тому, как над болотами, покрывавшими землю в каменноугольный период, трепетало ожидание, что из них скоро вынырнут головы и длинные шеи жутких динозавров, подобно тому, как на берегах еще неизведанного Нового Света – пока еще невидимые для глаза – развевались, жадно наполняясь свежим ветром, флаги и паруса конкистадоров, так и над сладострастным океаном фантазий Георга парило ожидание великих и неслыханных деяний, которые еще грядут.
Был один из дней поздней осени, и день этот уже клонился к концу. Георг, неизвестно почему, вернулся домой с работы раньше обычного. Он сидел в зале, глядя в сад. Там стояла скульптура блудного сына, окруженная деревьями, листва которых уже окрасилась в цвета осени. Скульптуру установили там по настоянию матери.
Георг улыбнулся, остановив взгляд на скульптуре, что он делал нечасто, рассматривая искусно изготовленное из бронзы жалкое тряпье, лоскутами и в беспорядке свисавшее с фигуры, стоящей в согбенной позе. В какую сторону смотрел этот смешной герой? Вдаль? В сторону дома? С точки зрения искусства скульптура эта ничего не стоила. Обычный китч.
Тень недовольства скользнула по лицу Георга, когда он заметил, что, поскольку солнце стояло уже совсем низко и в тени от больших деревьев все приобретало приблизительные и размытые очертания, – он не может выделить взглядом лицо блудного сына, не может разобрать его черты.
Особая благодарность Кристе, Лукасу и Тони
Написано в Вене, США, Японии и на Тавеуни (Фиджи) в 1998–2004 гг.

Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.








