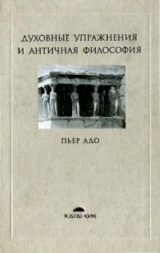
Текст книги "Духовные упражнения и античная философия"
Автор книги: Пьер Адо
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Мои книги и исследования [18]18
Не опубликована. Сообщение в Философском колледже в 1993 году.
[Закрыть]
Напомню коротко о своей литературной или научной деятельности для тех слушателей, которые могут меня не знать.
Прежде всего, я сделал несколько изданий и переводов текстов античности: в i960 году теологические труды латинского христианского неоплатоника Мария Викторина; в 1977 году Апологию Давида (L’Apologie de David) Амвросия; в 1988 и 1990 году два трактата Плотина. Помимо этого, я написал некоторое количество книг, прежде всего, в 1963 году небольшую книгу под названием Плотин, или Простота взгляда (Plotin ou la simplicité du regard) [19]19
Рус. пер. см.: Адо П. Плотин, или Простота взгляда / Пер. Е. Штофф. М., 1991.
[Закрыть], затем, в 1968, докторскую диссертацию, посвященную одному аспекту неоплатонизма – отношениям между Викторином, христианским теологом IV века, о котором я только что упоминал, и языческим философом IV века после P. X. Порфирием, учеником Плотина; потом, в 1981 году, работу, озаглавленную Духовные упражнения и античная философия (Exercices spirituels et philosophie antique), и в прошлом году книгу под названием Внутренняя цитадель (La Citadelle intérieure), посвященную Размышлениям Марка Аврелия. И если Философский колледж пригласил меня сегодня вечером, то это, несомненно, по причине двух последних работ, потому что в них выражена определенная концепция античной философии, а также обрисована определенная концепция философии вообще.
Чтобы выразить все это одним словом, в книгах мы находим идею, что философия должна определяться
как «духовное упражнение». Как я пришел к тому, чтобы придавать столько значения данному понятию? Я думаю, что это началось где-то в 1959–1960 году, когда познакомился с творчеством Витгенштейна. Свои размышления, на которые меня вдохновило знакомство, я опубликовал в «Журнале метафизики и морали» (Revue de méthaphysique et de morale) в статье Jeux de langage et philosophie (Языковые игры и философия), вышедшей в i960 году, где я писал: «Мы философствуем в языковой игре, то есть, если воспользоваться выражением Витгенштейна, в установке и в форме жизни, придающей смысл нашему слову». Возвращаясь к идее Витгенштейна, согласно которой нужно радикально порвать с идеей, что язык функционирует всегда од– ним-единственным образом и всегда с одной и той же целью – для выражения мысли, – я говорил, что нужно было также порвать с идеей, что философский язык функционирует единообразно. Философ действительно всегда находится в определенной языковой игре, то есть в форме жизни, в определенной установке, и невозможно дать верный смысл философским тезисам, не располагая их в языковой игре. Кроме того, главная функция философского языка заключается в том, чтобы поместить слушателей этой речи в определенную форму жизни, в определенный стиль жизни. Так появилось понятие духовного упражнения как усилия по изменению и преобразованию себя. Если меня волновал этот аспект философского языка, если я об этом думал, то потому, что, как и мои предшественники и современники, я столкнулся с одним хорошо известным феноменом, а именно: с феноменом несвязностей и даже противоречий, которые встречаются в трудах философских авторов античности. Мы знаем, что зачастую крайне трудно установить последовательность идей в античных философских сочинениях. Идет ли речь об Августине, Плотине, Аристотеле или Платоне, современные историки не перестают жаловаться на неловкости изложения, недостатки композиции, которые встречаются в их трудах. И вот, постепенно я стал замечать: чтобы объяснить этот феномен, нужно было всегда объяснять текст тем живым контекстом, в котором он родился, то есть конкретными условиями жизни философской школы в институциональном смысле слова, которая в античности никогда не ориентировалась на распространение теоретического и абстрактного знания, как наши современные университеты, но прежде всего – на формирование умов, на определенный метод, на умение говорить и умение дискутировать. Философские сочинения всегда были более или менее отголоском устного учения; и в любых обстоятельствах для философов античности фраза или слово, или развитие идеи в основном предназначались не для передачи информации, но для определенного психического воздействия на читателя или слушателя, причем – что само по себе очень педагогично – при учете способности слушателя. Пропозициональный элемент не был самым важным. Согласно превосходной формулировке В. Голдшмидта по поводу платонического диалога, можно сказать, что античная философская речь стремилась больше формировать, чем информировать.
В конце концов, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что античная философия – это скорее педагогическое и интеллектуальное упражнение, чем систематическое построение. Но далее – я не могу не отмеить, – что античная философия представлялась сама, во всяком случае, начиная с Сократа и Платона, как врачевание. Все школы античной философии предлагают, каждая по-своему, критику привычного состояния людей, состояния страдания, путаницы и бессознательности, и, соответственно, способ исцелить человека от этого состояния: «Школа философа есть лечебница», – говорил Эпиктет. Это врачевание содержится, прежде всего, в речи учителя, которая производит эффект заклинания, резкого укола или глубокого шока, чтобы поразить слушателя, как сказано о речах Сократа в Пире Платона. Но, чтобы излечиться, недостаточно испытать волнение, нужно действительно хотеть преобразовать свою жизнь. Во всех философских школах преподаватель является также духовным наставником. Здесь я должен отметить, насколько обязан работам моей жены, в частности, ее книги о духовном наставничестве у Сенеки и ее общее исследование о духовном наставнике в античности.
Итак, философская школа делает обязательным для своих учеников образ жизни, которому подчиняется все их существование. И этот образ жизни заключается в определенных практиках, которые как раз можно назвать духовными упражнениями, то есть практическими приемами с тем, чтобы изменить, улучшить, преобразовать себя. В их истоке лежит акт выбора, фундаментальное высказывание в пользу определенного образа жизни, который затем конкретизируется, либо в порядке внутренней речи и духовной деятельности – медитация, диалог с собой, нравственная самопроверка, упражнение по воображению: как взгляд, брошенный сверху на космос или на землю; либо в порядке повседневного поведения – самообладание, безразличие к безразличным вещам, исполнение предписаний общественной жизни в стоицизме, дисциплина желаний в эпикуреизме. Все эти духовные упражнения должны выполняться в соответствии с традиционным для каждой школы методом. Таким образом, в этой перспективе философская речь является лишь элементом философской деятельности и предназначена для обоснования экзистенциальной установки, соответствующей главному направлению школы. Кстати, стоики очень четко противопоставляли философскую речь и самое философию, ибо философия была для них единым актом, постоянной повседневной установкой, не совершенной мудростью, а упражнением ввиду мудрости, в котором конкретно практиковалась логика – мыслить реальность такой, как она есть, мораль – действовать в интересах других, и физика – жить осознанно, как часть космоса. А философская речь отвечала лишь потребностям обучения, то есть дискурсивному, теоретическому и педагогическому изложению причин, по которым мы должны жить таким образом. В других школах, в частности, у Платона и Аристотеля – я, разумеется, не могу вдаваться здесь в детали – мы тоже имплицитно находим различия этого рода по той простой причине, что в целом в античности философ считает себя философом не потому, что он развивает философскую речь, а потому, что он живет по-философски. Философия является, прежде всего, образом жизни, включающим в себя в качестве составной – но не единственной – части, определенный модус речи. И с этой точки зрения, я думаю, уместно уточнить, что по-гречески можно различать два смысла словосочетания «философская речь» (logos). С одной стороны, речь в той мере, в какой она обращается к ученику или к самому себе, то есть речь, связанная с экзистенциальным контекстом, с конкретной практикой, речь, которая действительно является духовным упражнением; с другой стороны, речь, рассматриваемая абстрактно, в своей формальной структуре, в своем понятийном содержании. Именно последнюю стоики считали чуждой философии, при том, что она обычно составляет предмет большинства современных исследований истории философии. Но в глазах античных философов, если мы довольствуемся такой речью, мы не занимаемся философией. На протяжении всей истории античной философии мы встречаем неизменную критику и неизменную борьбу против тех, кто верит в то, что они философы, поскольку они развивают философскую речь, особенно диалектическую и логическую, техническую и блестящую, вместо того, чтобы изменить свой образ жизни. Можно сказать, что именно в этом заключается вечная опасность философии: заключать себя в надежный универсум концептов и речи, вместо того, чтобы превзойти речь и подвергнуть себя риску радикального самопреобразования.
К этому нужно добавить, что философскую речь можно превзойти не только решением изменить жизнь, но также применяя совершенно недискурсивные философские опыты: влюбленности у Платона, созерцательности у Аристотеля, единение у Плотина, причем последний сознательно противополагал теологическую речь, говорящую о благе, но не ведущую к благу, и духовные упражнения очищения и единения, ведущие к опыту присутствия.
В книге Внутренняя цитадель я старался применить эту концепцию философии к Размышлениям Марка Аврелия. Действительно, нужно понимать Размышления как духовные упражнения, медитации, нравственные самопроверки, упражнения на воображение. По совету своего учителя Эпиктета Марк Аврелий пытается усвоить при помощи письма догматы и правила жизни стоицизма. Читая Размышления, мы наблюдаем беспрестанно возобновляемое усилие с целью сформулировать каждый раз по-новому, поразительным образом, в изысканной литературной форме одни и те же догматы и одни и те же правила жизни. Для Марка Аврелия речь идет не об изложении системы или даже о записях для себя, но об изменении, когда он в этом испытывает потребность, своей внутренней речи, чтобы снова вызвать в себе определенный настрой для претворения трех фундаментальных правил стоицизма, изложенных Эпиктетом: осмелиться видеть реальность такой, как она есть, действовать во благо других людей, осознавать, что мы являемся частью космоса и принимать с ясностью рассудка свою судьбу; иначе говоря,
искать основание в истине, справедливости и безмятежности. Но для этого недостаточно перечитать то, что было написано. Это не соответствует больше потребностям момента. Иногда, без сомнения, будет достаточно переписать то, что уже было написано: отсюда частые повторения в Размышлениях. Но нужно писать, переписывать. Ибо имеет значение именно само упражнение в письме в такое-то конкретное мгновение. В этом отношении Размышления Марка Аврелия, вероятно, являются единственной в своем роде книгой в истории литературы.
Марк Аврелий не довольствуется, впрочем, формулировкой догматов и правил жизни, он часто обращается к упражнению на воображение, усиливающему убедительность догматов. Он, например, не довольствуется тем, чтобы сказать, что всякие вещи находятся в вечном превращении, но выстраивает в своем воображении весь двор Августа, подчиненный времени, целое поколение, как, например, поколение во времена Вес– пасиана. Таким образом, в Размышлениях изобилуют образы шокирующие, откровенные описания обнаженной реальности. Они поразили историков, которые находили удовольствие в разоблачении пессимизма, смирения, печали императора-философа. Но их заблуждение как раз и состояло в том, что они не поместили эти формулы обратно в контекст духовных упражнений и настоящей стоической доктрины. Эти так называемые пессимистические заявления не выражали опыта или впечатлений Марка Аврелия, им обязательно надо было вернуть фундаментальную перспективу стоицизма: нет иного блага, кроме морального блага, нет иного зла, кроме морального зла. Есть лишь одна– единственная ценность – чистота нравственного намерения, неразрывно соединенная с требованием истины, любви к людям и согласия с судьбой.
Такое античное изображение философии представляется нам очень отдаленным от нашего нынешнего восприятия философии. Как могла произойти такая эволюция? Речь идет об очень сложном явлении, содержащем в себе два основных момента. Один я уже упоминал, он в некотором роде естествен для философа; это постоянная склонность философа, даже в античности, удовлетворяться речью, концептуальной архитектурой, построенной им, не подвергая сомнению свою собственную жизнь. Другой момент, более случайный и исторического порядка, выражается в стремлении размежевать философскую речь и духовную практику, которая использовалась в христианстве.
Действительно, именно в связи с появлением христианства было поставлено под вопрос античное понятие philosophia. К концу античности христианство представляло себя само как philosophia, то есть как образ жизни, сохранивший, в частности, в монашеской жизни, многочисленные духовные упражнения античной философии. С наступлением Средних веков наблюдается полное размежевание этих духовных упражнений (которые с тех пор будут частью христианской духовности) и философии, которая становится простым теоретическим инструментом на службе теологии (ancilla teologiaè). От античной философии сохраняются только учебные технологии, приемы преподавания. Тогда как в античности философия вбирала в себя теологию и без колебаний давала советы по религиозной практике, в течение всего Средневековья и Нового времени из страха перед инквизицией будет строго разграничиваться, с одной стороны, философская спекуляция, которая превратится в абстрактное построение – впервые идея систематической философии появится у Суареса – и, с другой стороны, теологическая мысль и религиозная практика. К этому прибавляется функционирование университетов. Речь теперь идет о формировании не людей, как в античности, но – преподавателей, которые, в свою очередь, будут формировать других преподавателей. Такая ситуация будет только благоприятствовать тенденции, разоблаченной еще древними – укрыться в удобном мире концептов и речей, терминологии, которая является естественной склонностью философского ума.
Но благодаря работам моего друга, польского философа Й. Даманского, о Средневековье и гуманизме, я пришел к более тонкому восприятию общей картины. Прежде всего, уже с XII века можно наблюдать, у Абеляра, например, определенный возврат к античному представлению о философии. И особенно, в эпоху Возрождения, когда гуманисты начали дистанцироваться относительно схоластики и, в определенном смысле, официального христианства. Так, наблюдается возврат к античной концепции философии у Петрарки, Эразма и других. В этой перспективе мне представляется возможным выявить, наряду с теоретическим и абстрактным течением, постоянство, так скажем, прагматического аспекта античной философии: в XVI веке у Мон– теня, Опыты которого представляют собой не что иное, как духовные упражнения; в XVII веке в Метафизических размышлениях Декарта; в XVIII веке во Франции у «философов», в Англии, помимо прочих, у такого персонажа, как Шефтсбери, необычайные Упражнения которого недавно опубликовал Лоран Жафро в издательстве Обье (они представляют собой именно духовные упражнения, вдохновленные Эпиктетом и Марком Аврелием, причем совершенно нехристианские), в Германии в движении «народной» философии. Именно в этой перспективе нужно располагать то, что Кант называет «философией по мировому понятию», и что он в конечном счете считает настоящей философией. По этому поводу мой коллега и друг, к несчастью, уже покойный Андре Фольке (Voelke), профессор Лозанского университета, развивал совершенно независимо от меня замечательное размышление о Философии как врачевании (La Philosophie comme thérapeutique), по поводу стоиков, эпикурейцев и скептиков. Отталкиваясь, как и я, от Виттгенштейна, он справедливо настаивал на кантианском понятии интереса разума, определяя то, что он называл силой философской речи в связи с ее способностью действовать, то есть заинтересовывать разум, а разум интересуется прежде всего, согласно Канту, как, кстати, хорошо показал Э. Вейль, самыми высокими целями, а именно целями нравственности, что равносильно признанию примата практического разума в поисках мудрости. Мы также находим в этом парадоксе «заинтересованным» разума античное определение философии как любви к мудрости, то есть как беспрестанно возобновляемого усилия для достижения такого состояния, такого образа жизни, которые соотносятся с мудростью. В тексте, где путем речевых сдвигов он постоянно переходит от фигуры мудреца к идеальному образу философа, то есть, как он говорит, к настоящей идее философа, Кант настойчиво подчеркивает, совершенно в духе платонизма и стоицизма, недоступность этой идеальной модели:
Как мало существует истинный христианин, так же мало имеет и философ в этом смысле… Они оба лишь прообразы. Но прообраз остается прообразом и большего он не может достичь. Он может служить лишь путеводной нитью. Философ есть лишь некая идея. Возможно бросить на нее взгляд и следовать некой составляющей, но никогда мы ее целиком не достигнем.
И немного далее:
В основе философии должна лежать идея мудрости, так же как в христианстве – идея святости… Некоторые древние приближались к прообразу истинного философа… однако не достигали его… Так древнегреческие философы, как то Эпикур, Зенон, Сократ и т. д. – главным объектом наук имели определения человека и средства к достижению этого. Они, следовательно, пребывали в глубоко истинной идее философии, что происходит и в новое время, когда встречается философия как искусство разума» [то есть, по Канту, человек, исповедующий лишь теоретическую и спекулятивную речь]74).
Таким образом, движение возврата к античной концепции обрисовалось с конца Средневековья. Но схоластическая модель, ограничения и привычки университетской жизни, особенно самодостаточность теоретической речи, о котором я говорил, продолжают серьезно тормозить это возрождение.
Из вышесказанного ясно, что для меня в конечном итоге модель античной философии по-прежнему актуальна, а значит, что поиск мудрости по-прежнему актуален и по-прежнему возможен. Не ждите от меня сегодня, что я буду развивать эту трудную и сложную тему. Я только сказал бы, что, как мне кажется, существуют универсальные фундаментальные установки человеческого существа, занятого поиском мудрости; с этой точки зрения, стоицизм, эпикуреизм, сократизм, пирронизм, платонизм имеют универсальный характер, не зависящий от философских или мифологических речей, которые претендовали бы на полное обоснование.
И в завершение я еще раз привел бы слова Канта:
Так и Платон спросил у старого человека, который выслушал его лекции о добродетели – когда начнешь добродетельную жизнь? – то есть не всегда должно спекулировать, но однажды подумать и о выполнении. Однако в наши дни считают мечтателем того, кто живет, так как учит75).
Что такое этика? [20]20
Беседа Пьера Адо с Сандрой Ложье и Арнольдом Дэвидсоном. Впервые опубликовано: Cités. 5. Paris: PUF, 2001.
[Закрыть]
Господин Пьер Адо, Вы крупный специалист по античной философии, автор книги Что такое античная философия? 76), и Вы только что выпустили в свет издание Руководства Эпиктета 77). Но Вы также писали о Мон– тене, Кьеркегоре, Торо, Фуко, Витгенштейне. Можно ли сказать, что этот Ваш интерес к столь разнообразным философам – этического порядка, и в каком смысле «этического»?
Когда я слышу слово «этика», то меня это немного озадачивает, так как оно подразумевает оценку в плане добра и зла действий, или людей, или же вещей. Мой интерес ко всем этим авторам, может быть, не вполне этический. Я бы сказал, что речь идет, скорее, об экзистенциальном интересе. Например, у Витгенштейна меня заинтересовало именно то, что созвучно моему умонастроению, когда читал его в 1959 году – это прежде всего была мистика, или скорее, как я бы назвал, мистический позитивизм. А это – почти противоречие в терминах: почему Витгенштейн заговорил о мистике? Конец Трактата меня особенно поразил. Речь идет, согласно моему толкованию, и не думаю, что я слишком заблуждаюсь, о «молчаливой мудрости». Эту формулировку я обнаружил в книге г-жи Анскомб, которая заметила по поводу Витгенштейна, что самое важное для него было – это удивление перед миром.
Так что это не совсем «этика».
Я в общем-то не такой уж моралист, и боюсь, что слово «этика» является слишком узким, если только не понимать его в смысле этики Спинозы. Действительно, Спиноза назвал Этикой книгу по метафизике. Поэтому нужно было бы скорее брать слово «этика» в очень широком смысле.
Этот особенный смысл слова этика, на котором Вы так настаиваете, Вы иногда называете «перфекционизмом», формой нравственной философии, которая немного оставлена без внимания современной философией. Именно идея поиска наилучшего «я», идея самосовершенствования, находит свой источник у Платона, и предстает, как показало Ваше творчество, во всей античной философии. Ее также можно найти у более современных философов, таких, например, как американский философ Эмерсон или Ницше. Можно ли этот перфекционизм – который Вы связываете также с идеей духовного упражнения – определить за рамками исторического периода духовных упражнений? Словом, может ли эта этика иметь более современное звучание?
Да, понятие перфекционизма может, с одной стороны, рассматриваться как форма этики, и с другой стороны, оно имеет то преимущество, что имплицирует всякие виды понятий, необязательно сугубо этически. В конечном счете, это удобная формула, соответствующая более всего традиции, восходящей к Платону. В конце Тимея Платон говорит о самой прекрасной части нас самих, которую нужно согласовать с гармонией Вселенной. Я, кстати, был поражен, когда, комментируя Руководство Эпиктета, увидел, что понятие движения к наилучшему, которое встречается у него несколько раз, практически эквивалентно понятию философии, как у самого Эпиктета, так и у киника эпохи Лукиана.
Это тот, о ком Лукиан Самосатский, знаменитый сатирик II века после P. X., говорит как раз, что «Демонакс повернулся к наилучшему», что означает, что он обратился к философии. Это также очень точно соответствует идее в конце Тимея Платона: самая высшая часть приходит в гармонию с Целым, с миром.
Это снова приводит нас к проблеме этики и ее определения. В перспективе того, что вы только что назвали перфекционизмом, можно было бы сказать, что это поиск более высокого состояния или уровня «я». То есть это вопрос не только морали. В античности – как мне пришлось говорить, в частности, по поводу стоиков, но думаю, что это можно отнести ко всякой философии – философия делится на три части: логика, физика и этика. На самом деле, существует теоретическая логика, теоретическая физика, теоретическая этика, и потом имеется переживаемая логика, переживаемая физика, переживаемая этика. Переживаемая логика заключается в критике представлений, что значит просто не давать себе заблудиться в повседневной жизни через ложные суждения, в частности, в том, что касается ценностных суждений. Вся работа Эпиктета как раз и старается подвести ученика к осознанию того, что нужно прежде всего начать воспринимать вещи такими, какие они суть, то есть придерживаться объективного представления, что позволяет избежать немедленного добавления ценностных суждений перед лицом событий, какими бы серьезными они ни были. Переживаемая логика заключается в этом. Переживаемую физику мы очень часто находим у Марка Аврелия, но также и у Эпиктета. Речь идет об осознании судьбы для стоической философии, или же об осознании физических реальностей для эпикурейцев. Согласно последним, чтобы осознать, что мы можем жить, не боясь богов, потому что боги не создавали мир, нужно применять физику к нашему повседневному поведению. Что касается переживаемой этики, конечно же, не нужно довольствоваться теоретической этикой, нужно ее применять на практике. Для стоиков речь идет в основном о том, что они называют долгом, то есть об обязанностях повседневной жизни. То есть речь идет о духовных упражнениях, или о том, что я называю духовными упражнениями, то есть о практиках, предназначенных для преобразования «я» для того, чтобы это «я» достигло более высокого уровня и универсальной перспективы, в частности, благодаря физике, осознанию отношения к миру или благодаря осознанию отношения к человечеству в его совокупности, что влечет за собой необходимость учитывать общественное благо.
Итак, может ли все это иметь смысл в настоящее время? Я думаю, что есть как история преемственности этих практик, так и история нарушения такой преемственности. Эти духовные упражнения появляются вновь и вновь в течение веков. Например, мы их находим в Средние века – интегрированными в христианскую жизнь, ибо христиане взяли многие духовные упражнения, например, нравственную самопроверку, медитацию о смерти (впрочем, более или менее исказив ее) и так далее. С другой стороны, мы их также находим, например, у Декарта (по крайней мере в Медитациях, чтобы привести вам один из самых наглядных примеров), у английского писателя Шефтсбери (он написал Упражнения – именно так, коротко – совершенно в стиле Эпиктета и Марка Аврелия), у Гёте (например, в некоторых поэмах), у Эмерсона и Торо, и у Бергсона. Во всех случаях мы имеем дело с перфекционизмом, ибо речь идет именно о движении к высшему «я». Это очень наглядно у Бергсона, ибо он всегда противопоставляет привычки, притупляющие наше восприятие (то есть, делающие наши решения не настоящими решениями, а почти механическими ответами на привычные ситуации), четкому осознанию «я», которое является (он использует обратный образ) более глубоким. Речь всегда идет именно о перфекционизме. Кстати, можно было бы даже найти такой перфекционизм у Хайдеггера, в той мере, в какой он противопоставляет обобщенное «мы», то есть «я», совершенно погруженное в механические привычки, в автоматические рефлексы, подлинному существованию, которое не отшатывается перед ужасом, и, соответственно, предполагает высшее состояние «я». Тут перфекционизм очень актуален.
В книге о Марке Аврелии Внутренняя цитадель 78) Вы хотели изменить традиционное прочтение, представляющее Марка Аврелия пессимистом, до отвращения пресыщенного повседневной жизнью, и вы делаете очевидным то, что он нам говорит о красоте жизни, это удивление перед миром, о котором Вы только что говорили. В этом аспекте философское упражнение больше не вырывает из повседневной жизни, что по Вашем определению было целью духовных упражнений – оно может совершаться в повседневной жизни в силу самого понимания того, что есть повседневное. Это ставит вопрос о двусмысленности этой идеи повседневного, поскольку, согласно Вам, нужно уметь впускать в себя обыденное, но также уметь из него вырываться. Как разрешаете Вы эту двойственность? Я имею в виду то, что американский философ Стенли Кейвел (Cavell)79) говорит о двух видах повседневного. Первый содержит в себе указанные Вами привычки, от которых нужно высвобождаться. Второй вид повседневности состоит в преобразовании первого и является как бы «второй наивностью». Имеется ли в Вашем прочтении Марка Аврелия та же двойственность – повседневное, которое нужно превзойти, и повседневное, которого нужно достигнуть?
Да. Я тоже задавал себе подобные вопросы. В конце работы Что такое античная философия? я думал определить философию, как преображение повседневного. Вы совершенно правы, когда спрашиваете, каково положение этого повседневного, то есть должна ли философия вырываться из повседневного или, напротив, преображать его. Конечно, должен быть отрыв от повседневного. У Марка Аврелия, например, мы находим стремление избежать представлений или суждений, обычных для повседневной жизни. Человеку, пребывающему в восхищении перед блюдами, поданными на стол, он отвечает, что все это не что иное, как труп рыбы или животного. Перед своей собственной порфирой он говорит себе, что это ткань, пропитанная кровью животного. И по поводу сексуальных удовольствий, которые считаются в повседневной жизни чем-то чрезвычайным, он говорит что это трение животов, вот так… Он создает определения, помещающие повседневную реальность в мир, или космос; дает физические определения этим реальностям. Как Вы говорили по поводу Стенли Кейвела, происходит отрыв от повседневного в той мере, в какой это повседневное состоит из суждений или поступков, в которых настоящее «я» не задействовано, а доминируют привычки и предрассудки.
Хотя философия является отрывом от повседневного, она однако остается неотделима от этого повседневного. Мне всегда нравился следующий отрывок в трактате Плутарха Должен ли старец вмешиваться в государственные дела. Он там говорит о Сократе в том смысле, что тот был философом не тогда, когда преподавал с подмостков или развивал тезисы, а когда шутил, бражничал, сражался, шел на площадь и особенно – когда пил цикуту. Сократ также показал, что в любое время, что бы с нами ни происходило и что бы мы ни делали, повседневная жизнь неотделима от возможности философствовать. Я думаю, что это достаточно соответствует концепциям Кейвела: нет разделения между повседневным и философией. Философия не является деятельностью, закрепленной за созерцающим, пока он сидит в своем рабочем кабинете, и которая прекращается, как только он оттуда уходит, или как только он заканчивает свою лекцию – речь скорее идет о деятельности абсолютно повседневной.
Вы как-то заметили, тоже по поводу Марка Аврелия, что духовное упражнение является также языковым упражнением. И Вы всегда интересовались вопросами языка. Вы говорите по поводу Эпиктета и Марка Аврелия об «упражнениях в письме, все время возобновляемых». Какова роль письма и языка в самопреобразовании, совершаемом этикой?
Имеется два вида речей. Стоики так говорили, но это вопрос здравого смысла. Есть внешняя речь, то есть, например, речь, которую философ произносит или пишет. И есть внутренняя речь. Внешняя речь играет важную роль постольку, поскольку, по-моему, философия всегда предполагает два полюса. В перспективе этики, даже в широком смысле, внешняя речь сводится к готовым формулам, по крайней мере, для таких людей, как Марк Аврелий и Эпиктет. Чтобы привести пример очень простой речи, достаточно вспомнить принципиально важное положение для стоиков – нет блага кроме нравственного блага, и нет зла кроме нравственного зла. Такую формулу преподают на курсах философии. Однако приняв ее, нужно ее осуществить и применить. Именно здесь и вступает в действие внутренняя речь. Речь идет о интериоризации, или об усвоении учения. Чтобы этого достичь, недостаточно помнить, что нет блага, кроме морального блага, и зла, кроме морального зла, – эта формула должна действительно стать привлекательной для вас и заставить вас решиться сказать себе, например: «Я болен, я страдаю, но это ничто рядом с нравственным злом и это вовсе не зло по сравнению с нравственным злом».








