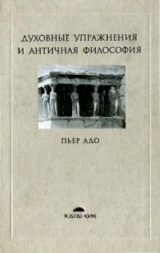
Текст книги "Духовные упражнения и античная философия"
Автор книги: Пьер Адо
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Именно в этом и заключается «серьезность существования», о которой говорит Кьеркегор б6). Заслуга Сократа в его глазах состоит в том, что он был мыслителем существующим, а не спекулятивным, забывающим, что такое существовать б7). Фундаментальная категория существования для Кьеркегора – это Индивид, Уникальное 68), одиночество экзистенциальной ответственности. В его понимании изобретателем этого и был Сократ б9). Здесь мы снова находим одну из глубинных причин сократической иронии. Прямой язык немощен при сообщении опыта существования, подлинного осознания бытия, серьезности пережитого, одиночества решения. Говорить – это вдвойне быть обреченным на банальность 70). Прежде всего, нет прямого сообщения экзистенциального опыта: всякое слово «банально». А с другой стороны, банальность – в форме иронии – может позволить косвенное, непрямое общение 71). Как говорит Ницше: «Мне кажется, что я чувствую глубину Сократа (ирония была ему необходима, чтобы придать себе поверхностный вид и быть способным продолжать дальше свое общение с людьми)» 72). Для философа-экзистенциалиста банальность и поверхностность действительно являются жизненной необходимостью: они позволяют ему оставаться в контакте с людьми, даже если последние «^-сознательны. Но это также и педагогические приемы: околичности и извороты иронии, шок апории могут подвести собеседников к серьезности экзистенциального сознания, особенно, если к этому добавится, как мы увидим дальше, мощь Эрота. У Сократа нет системы, предназначенной для преподавания. Его философия вся целиком является духовным упражнением, новым образом жизни, активным размышлением, живым сознанием.
Может быть, нужно придать еще более глубинное значение сократической формуле: «Я знаю, что я ничего не знаю». Она возвращает нас к нашей отправной точке. Сократ знает, что он не мудрец 73). Его индивидуальное сознание пробуждается в этом чувстве несовершенства и незавершенности. В этом отношении Кьеркегор может помочь нам понять все значение фигуры Сократа. Кьеркегор утверждает, что он знает только одну вещь: это то, что он не христианин. Он глубоко убежден, что он не христианин, потому что быть христианином – это значит иметь действительную личностную и экзистенциальную связь с Христом, полностью сделать эту связь своей собственной, поместить ее внутрь решения, исходящего из глубин своего «я». Учитывая крайнюю трудность этого «овнутрения», христианина не бывает. Христианин только Христос. По крайней мере, тот, кто не осознает небытие христианином, является наилучшим христианином в той мере, в какой он признает, что он не христианин 74). Таким образом, как всякое экзистенциальное сознание, сознание Кьеркегора разделено. Оно существует только в осознании того, что оно по-настоящему не существует. Это кьеркегоровское сознание и есть сократическое сознание: «О Сократ, ты имел проклятую способность благодаря своему невежеству ясно показать, что другие были еще менее ученые, чем ты: они даже не знали, что они невежды. Твое приключение является моим. Все на меня ополчились за то, что увидели, что я способен показать: другие суть еще меньшие христиане, чем я; а ведь я, однако, так уважительно отношусь к христианству, что вижу и признаю: я не христианин» 75).
Сократическое сознание тоже разделено и разорвано, но не фигурой Христа, а фигурой мудреца, трансцендентной нормой. Справедливость, как мы видели, не определяется, она переживается. Все речи мира не смогут выразить глубину решения человека, который избирает для себя: быть справедливым. Но всякое человеческое решение хрупко и неустойчиво. Желая «быть справедливым» в том или ином поступке, человек как бы предчувствует жизнь, которая будет справедлива вполне. Это – жизнь Мудреца. У Сократа есть осознание того, что он не мудрец. Он не sophos, но pbilosophos, не мудрец, но человек, желающий мудрости, потому что он ее лишен.
Удивительно верно говорит П. Фридлендер, что «ирония Сократа есть напряженное ощущение разницы между тем, кто сознает то, что не знает справедливость (то есть не может выразить ее словами), и тем, кто через ничем не опосредованный опыт ощутил в этом слове соприсутствие Богу» 76). И если Кьеркегор – христианин только потому, что осознает: я – wf-христианин, так и Сократ – мудрец лишь потому, что понимает: он ме-мудрец. Из этого чувства лишенности рождается неодолимое по своей глубине желание. Вот почему Сократ-философ облачится для западного сознания в черты Эрота – вечного странника, взыскующего истинной Красоты.
II Эрот
Принято говорить, что Сократ в историческом отношении впервые представляет мышление западного толка. По точному замечанию В. Йегера 77), сократическая литература, обозначенная творениями Платона и
Ксенофонта, стремилась к созданию портрета литературного Сократа, стараясь передать его единственность. Такое намерение породило, конечно, опыт исключительный, подразумевающий столкновение с личностью необычайной. К тому же, по словам Кьеркегора 78), и чрезвычайная напряженность чувства atopos, atopia, ato– potatos, часто ощущаемая в «Диалогах» Платона 79) при описании характера Сократа, например, в Теэтете (149а): «…рассказывают, (…) что-де я вздорнейший человек (atopotatos) и люблю всех людей ставить в тупик (арогга)». Это слово этимологически значит «лишенный места», посторонний, причудливый, нелепый, не поддающийся общественным канонам, сбивающий с толку. В Пире, в панегирике Сократу, Алкивиад настаивает на этой его особенности. Алкивиад живет обычно; мы, говорит он, люди общества, представляем собою типы, сопоставляемые с кем-либо; например, бывает человек «величайшего благородства и мужественности»: таков, во времена Гомера, Ахилл, сейчас с ним сопоставим Брасид, спартанский полководец; есть тип «человека красноречивого и осмотрительного» – в гомеровской древности это Нестор, троянец Антенор; сейчас с ними сравним Перикл. Но с Сократом никого не сравнишь. Никого не найдется на него похожего, – заключает Алкивиад, – разве что силены и сатиры 80). Да, Сократ – единственный в своем роде, это индивидуум, который любим Кьеркегором, пожелавшим, чтобы его надгробной эпитафией было: «Тот, Единичный» 81).
И тем не менее, несмотря на всю необычность характера Сократа, мы видим в нем пронзенность мифическими стрелами Эрота 82). И действительно: Эрот – своего рода двойник фигуры Сократа.
Тайная подоплека диалогической иронии у Сократа – здесь та же «ирония любви», несущая за собой «переворачивание» ситуации, точь-в-точь как это происходит в случае дискурсивной иронии. Уточним: любовь подразумевается гомосексуальная и, как следствие, любовь воспитующая. Ведь в Греции времен Сократа мужская любовь – это воспоминание и переживание старого военного воспитания, в ходе которого юноши из благородных семей воспитывали в себе добродетели аристократической чести в школе мужской дружбы и под присмотром старшего. Четко зафиксированное софистикой отношение наставник-ученик – в следовании образцам эпохи архаики – требовало эротической терминологии. Причем искусство риторики, как и правила литературы, заставляли в беседах ссылаться на себя 83).
Любовная ирония Сократа заключается, разумеется, в том, чтобы притворяться влюбленным до тех пор, пока тот, кого он преследует своими воздыханиями, посредством иронического переворачивания не влюбляется сам. Вот что рассказывает Алкивиад в своей похвале Сократу. Обманутый многочисленными заявлениями, сделанными ему Сократом, Алкивиад, веря, что это говорилось всерьез, однажды вечером пригласил Сократа к себе, надеясь того соблазнить. Он проник к Сократу в постелю, обнял. Но Сократ вполне владел собою и не поддался соблазнителю. «Начиная с этого времени, – говорит Алкивиад, – именно я был низведен до рабства, я нахожусь в состоянии человека, ужаленного гадюкой» 84). «Ибо именно в сердце, или в душу, или как иначе еще нужно назвать это, и поразил меня зуб и укус философских речей. Когда я его слышу, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у кори– бантов в их вдохновенных восторгах, его слова вызывают у меня потоки слез. <…> Я не единственный, с кем он обошелся таким образом. Но также Хармид, <…> Евфи– дем <…> и другие в очень большом числе, которых он усыпляет, притворяясь влюбленным, тогда как скорее он играет роль возлюбленного, чем любовника» 85). Можно ли найти лучший комментарий для этого текста, чем у Кьеркегора: «Быть может, тут мы не ошиблись бы, называя его Сократа соблазнителем: он притягивал к себе юность, пробуждая в ней стремления, которые не удовлетворял. Он обманывал их всех, как он обманывал Алкивиада. Он приманивал молодых людей, и когда они устремлялись к нему, когда они хотели найти возле него покой, тогда он уходил, очарование исчезало, и они чувствовали глубокую боль несчастной любви, тогда они чувствовали, что были обмануты и что не Сократ их любил, но именно они любили Сократа 86).
Ироническая любовь Сократа, соответственно, заключается в притворной влюбленности. Со своей диалектической иронией Сократ делал вид, задавая свои вопросы, что желает, чтобы его собеседник сообщил ему свое знание или свою мудрость. Но по ходу этой игры вопросов и ответов собеседник обнаруживал, что он не способен исправить невежество Сократа, ибо в действительности не обладает ни знаниями, ни мудростью, которые мог бы дать Сократу. И посему именно в школе Сократа, то есть фактически в школе осознания своего неведения, и желал оказаться собеседник. Сократ же в своих иронически-любовных словах выражает желание, чтобы объект его притворной любви предоставил ему не свое знание, а скорее свою телесную красоту. Понятная ситуация: Сократ некрасив, юноша красив. Но на этот раз любимый или называемый таковым открывает для себя в виду отношения Сократа, что не способен удовлетворить любовь Сократа, ибо не обладает настоящей красотой. И открывая для себя то, чего ему недостает, он влюбляется в Сократа, то есть не в красоту, ибо Сократ таковой не обладает, но в любовь, которая, согласно определению самого Сократа в Пире87), есть желание красоты, которой мы лишены. Таким образом, быть влюбленным в Сократа – это значит быть влюбленным в любовь.
Именно в этом и заключается смысл Пира Платона 88). Диалог строится так, чтобы можно было угадать тождественность между фигурой Эрота и фигурой Сократа. Следуя Платону, все гости, слева направо, по очереди, согласно обычаю, будут возносить похвалу Эроту. Именно так и поступают, следуя друг за другом, Федр и Павсаний, затом врач Эриксимах, комический поэт Аристофан, поэт-трагик Агафон. Что касается Сократа, то, когда приходит его очередь, не произносит непосредственно похвалу любви (это бы противоречило его методу), но сообщает о беседе, состоявшейся у него некогда с Диотимой, жрицей Мантинейской, которая рассказала ему миф о рождении Эрота. Обычно диалог должен был бы на этом закончиться, но внезапно вторгается в зал пиршества Алкивиад, увенчанный фиалками и листьями бука, и довольно хмельной. Он все-таки подчиняется закону пира, но вместо того чтобы воздать хвалу Эроту, он произносит похвалу Сократу.
Здесь тождество между Сократом и Эротом подчеркивается не только прямой похвалой Сократу в ряду уже произнесенных похвал Эроту, но также сходством многих и значительных черт в портрете Эрота, очерченных Диотимой, и в портрете Сократа, очерченных Алкивиадом.
В день рождения Афродиты, рассказывает Диотима, был пир у богов. В конце трапезы Пения (то есть «бедность», «лишения») пришла просить милостыню. Она увидела Пороса (Poros) (то есть «средство», «способ», «богатство»), опьяненного нектаром и уснувшего в саду Зевса. Чтобы избавиться от своей обездоленности, Пения решила заполучить от Пороса ребенка, легла рядом с заснувшим и таким образом зачала Любовь.
Итак, генеалогия Эрота, по Диотиме, позволяет толковать себя так неоднозначно, что описание можно интепретировать с нескольких точек зрения. Прежде всего, согласно букве мифа, мы узнаем в Эроте черты его отца и матери: с отцовской стороны он наследует свой изобретательный ум, свою euporia-, со стороны матери – нищету, свою апорию (aporia). Через это описание на свет появляется весьма своеобразная концепция любви. Тогда как другие гости описывали Эрота идеализированно, Сократ сообщает о своей беседе с Диотимой для восстановления более реалистичного видения любви. Любовь не прекрасна, как того хотел трагический поэт Агафон. Без этого она не была бы любовью. Ведь, по своей сути, Эрот является желанием, а желать можно лишь то, чего мы лишены. Эрот не может быть красивым: сын Пении, он лишен красоты; но как сын Пороса, он способен компенсировать это лишение. Агафон спутал любовь с ее объектом, то есть с любимым. Но для Сократа любовь есть любовник. То есть это не бог, как думает большинство людей, но только демон (daimon), промежуточное существо между божественным и человеческим.
Вот почему описание Эрота Диотимой несет в себе что-то комическое. В нем мы распознаем изнуряющий род жизни, на который обрекает любовь. Это пресловутая тема: «Militât omnis amans». Влюбленный стоит на страже у двери любимого, проводит ночь под звездным небом. Это нищий и солдат. Но он и неистощим на выдумки, он колдун, волшебник, умелый собеседник, потому что любовь делает изобретательным. Для него падение духом и надежда, нужда и насыщение чередуются друг с другом без перерыва, вместе с удачами, успехами и провалами его любви. Это Эрот-негод– ник, нахал, упрямец, болтун, дикарь, это настоящее чудовище, о проделках которого с удовольствием рассказывает греческая поэзия, вплоть до византийского периода 89).
Но в этой фигуре Эрота-охотника Платон с удивительным самообладанием и мастерством проявляет черты Сократа, то есть «философа». Эрот, говорит нам Диотима, вовсе не деликатен и не красив, как думает Агафон, он всегда беден, неопрятен и необут. Сократ, восхваляемый Алкивиадом, тоже ходит босым, с наброшенной на себя накидкой из грубой материи, которая плохо защищает его от зимней стужи 90). Комические поэты также будут потешаться над его босыми ногами и его изношенной накидкой, и мы узнаем в контексте диалога, что Сократ искупался в виде исключения – чтобы прийти на пир 91). Комедиографы также вдоволь будут потешаться над его босыми ногами и грубым плащом 92). Эта фигура Сократа как нищенствующего Эрота будет фигурой философа-киника, фигурой Диогена, бродяги, у которого нет ни кола ни двора – одно покрывало и дорожная сумка; Диогеном, «взбешенным Сократом», как, по всей вероятности, он определял сам себя 93). Как заметил П. Фридлендер 94), этот босоногий Эрот еще напоминает первобытного человека, согласно описанию в Протагоре (321с 5) и Государстве (272а 5). Мы, таким образом, снова подведены к фигуре силена, то есть к чисто натуральному существу первобытной силы, которое предшествовало культуре и цивилизации. Эта составляющая должна входить в сложный портрет Сократа-Эрота, ибо она соответствует именно такому перевертыванию ценностей, спровоцированному сократическим сознанием. Для того, кто берет на себя заботу о своей душе, главное не во внешних признаках, не в костюме или комфорте, но в свободе.
Однако Диотима нам говорит, что Эрот имеет черты своего отца: «…он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности 95) и достигает ее, он искусный {porimos) чародей, колдун и софист» 9б) (Пир. 203d). Невольно кажется, будто мы слышим Стрепсиада из Облаков
Аристофана, описывающего, каким он надеется стать благодаря сократическому воспитанию: «негодяем, нахалом, шутом, наглецом, шарлатаном, буяном… задирой…. клещом» 97). В своем панегирике Сократу Алкивиад трактует его как бесстыдного силена 98), а еще до него, Агафон, наградил Сократа эпитетом bybristes 99). Для Алкивиада Сократ есть волшебник 100), красноречивый говорун, умело привлекающий внимание красивых мальчиков 101). Что касается физической крепости Эрота, мы ее находим в портрете Сократа в армии, нарисованном Алкивиадом: он нечувствителен к холоду, голоду, страху и способен так же хорошо переносить вино, как и продолжительную медитацию 102). Во время отступления Делиона, рассказывает Алкивиад, Сократ шагал с такой же легкостью, как если бы он был на улицах Афин, или, по описанию Аристофана, бродил «босой, озираясь / направо, налево, /… чванно и важно, в лохмотьях, дрожа, / вскинув голову, нас обожая» 10Э).
Вот таков не очень лестный портрет Сократа-Эрота. Разумеется, мы тут сталкиваемся с расцветом платонической, если не сократической иронии. Но фигура от этого не приобретает менее глубокого психологического значения.
Эрот – это daimon, говорит нам Диотима, то есть посредник между богами и людьми. Еще раз мы подведены к проблеме положения посредника, и мы снова констатируем, насколько такое положение неудобно. Демон Эрот, которого описывает нам Диотима, не определяется и не классифицируется, он, как и Сократ, atopos. Он ни бог, ни человек, ни красив, ни уродлив, ни мудр, ни безумен, ни хорош, ни плох 104). Но он есть желание, потому что, как Сократ, он осознает, что он не красив и не мудр. Вот почему он фило-соф, влюбленный в мудрость, то есть желающий достичь уровня бытия, который был бы уровнем божественного совершенства. В описании Диотимы Эрот есть желание своего собственного совершенства, своего настоящего «я». Он страдает, что лишен полноты бытия, что лишен полноты ее и стремится ее достичь. Таким образом, когда другие люди любят Сократа-Эрота, когда они любят любовь, раскрытую Сократом, в Сократе они любят именно это стремление, эту любовь Сократа к красоте и к совершенству бытия. Соответственно, они находят в Сократе дорогу к своему собственному совершенству.
Как Сократ, Эрот есть лишь призыв, открывающаяся возможность, но он не есть ни мудрость, ни красота в себе. Правда, силены, о которых говорит Алкивиад, раскрываются, если мы их открываем, и мы видим, что они наполнены изваяниями богов 105). Но сами силены не являются изваяниями. Они только открываются, чтобы позволить добраться до них. Порос, отец Эрота, этимологически означает «проход», «доступ», «выход». Сократ есть только силен, открывающий проход к чему-то, что находится за пределами. Таков философ: призыв к существованию. Сократ иронически говорит красивому Алкивиаду: «Если ты меня любишь, это потому, что ты должен был заметить во мне необычайную красоту, которая ни в чем не походит на изящество твоих форм. Но исследуй вещи с большим тщанием из страха, что ты заблуждаешься по поводу меня и по поводу моего реального ничто» 106). Так Сократ предостерегает Алкивиада; любя Сократа, он любит только Эрота, сына Пении и Пороса, а не Афродиты. Но он любит его именно потому, что предчувствует, что Сократ ему открывает дорогу к необычайной красоте, трансцендирующей все земные красоты. Добродетели Сократа – эти статуи богов, спрятанные в ироничном силене. Эти добродетели Сократа, которыми восхищается Алкивиад 107), являются лишь отражением, предвкушением совершенной мудрости, желаемой Сократом и желаемой Алкивиадом через Сократа.
Таким образом, мы снова находим в сократическом Эроте (eros) ту же самую фундаментальную структуру, что и в сократической иронии, раздвоенное сознание, страстно чувствующее, что оно является не тем, чем оно должно было быть. И из этого чувства разделения и лишения и рождается любовь.
Тут мы подходим к одной из великих заслуг Платона: он сумел, придумав миф Сократа-Эрота, ввести измерение любви, желания и иррационального в философскую жизнь. Посредством диалога, такого типично сократического опыта, он стремится общими силами высветить страстно увлекающую обоих собеседников проблему. За рамками диалектического движения логоса (logos) эта дорога, пройденная вместе Сократом и собеседником, эта совместная решимость прийти к взаимному согласию уже являются любовью, и в этом духовном упражнении философии гораздо больше, чем в построении системы. Задача диалога и состоит-то главным образом в том, чтобы показать пределы языка, невозможность для языка сообщить моральный и экзистенциальный опыт. Но сам диалог в качестве события, в качестве духовной деятельности – уже моральный и экзистенциальный опыт. Дело в том, что сократическая философия не является одиночной разработкой системы, но пробуждением сознания, переходом на уровень бытия, который может реализоваться лишь в отношении человека к человеку. Эрот, так же как и Сократ – ироник, ничему не обучает, ибо он невежествен: он не делает более ученым, он делает другим. Он тоже май– евтик. Он помогает душам породить самих себя.
Есть что-то очень волнующее в том, когда на протяжении истории снова и снова находишь воспоминания о сократическом Эроте 108); например, в Александрии
века после P. X. христианин Григорий Чудотворец воздаст хвалу своему учителю Оригену в следующих словах: «Как искра, брошенная посреди наших душ, возжигалась и возгоралась в нас любовь к Логосу и любовь к этому человеку, другу и толкователю Логоса. <…> Это человек, – говорит он дальше, – умевший по способу Сократа приручать нас, как диких лошадей, своим самообладанием» 109). И как великолепно показал Э. Бертрам 110), именно эту традицию сократического Эрота, традицию воспитательного демонизма мы находим и у Ницше. Три формулы, согласно Э. Бертраму, прекрасно выражают это эротическое измерение педагогики. У самого Ницше: «Только из любви рождаются самые глубокие видения»; у Гёте: «Мы учимся только у того, кого мы любим»; у Гёльдерлина: «С любовью смертный отдает лучшее в себе». Три формулы, показывающие, что именно во взаимной любви мы получаем доступ к настоящему сознанию 1И).
Это измерение любви, желания, а также иррационального и есть – воспользуемся словарем Гёте – «демоническое». Это измерение Платон находил в самом Сократе. Daimon Сократа и был, как мы знаем, тем вдохновением, которое иногда овладевало им совершенно иррациональным образом, как отрицательный знак, запрещающий ему совершать тот или иной поступок. Это был в некотором роде его собственный «характер», его настоящее «я». Кстати, этот иррациональный элемент сократического сознания, вероятно, не чужд сократической иронии. Если Сократ утверждал, что ничего не знает, то, скорее всего, потому, что вверял себя в действии своему собственному демону и верил демону своих собеседников. Как бы то ни было – и на этой точке зрения в 1966 году настаивал Хилмон – весьма вероятно, что именно Платон, встретившись в Сократе с демоническим, и зафиксировал словесно в отношении учителя великий daimon Эрота 112).
Как описать это измерение демонического? Нашим лучшим проводником в этом вопросе может быть только Гёте, который всю свою жизнь был очарован и обеспокоен тайной «демонического». Кстати, именно в Sokratische Denkiviirdigkeiten Гамана 1131 у него, вероятно, произошла первая встреча с демоническим в лице демона (daimon) самого Сократа – того Сократа, который так притягивал к себе Гёте, что в письме к Гердеру в 1772 году мы читаем этот необычайный вскрик: «Wär’ ich einen Tag und eine Nacht Alzibiades und dann wollt’ ich sterben!» 1U> [4]4
На один день и ночь стать (вдруг) Алкивиадом – потом я и умереть готов!
[Закрыть].
Демоническое Гёте имеет все двойственные, двусмысленные черты сократического Эрота. Как он нам говорит в двадцатой книге Поэзии и правды, это сила, которая не является ни божественной, ни человеческой, ни дьявольской, ни ангельской, но она разделяет и объединяет все существа. Как Эрота из Пира, ее можно определить только одновременными и противоположными отрицаниями. Но это сила, дающая тем, кто ею обладает, невероятную мощь над существами и вещами. Демоническое представляет во вселенной измерение иррационального, необъяснимого, некоторый род естественной магии. Этот иррациональный элемент есть движущая сила, необходимая всякому осуществлению, это слепая, но неумолимая динамика, которую нужно уметь использовать, но которой нельзя избежать. О демоне (daimon) индивида Гёте сказал в Urworte orphisch: «So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, / so sagten schon Sibyllen, so Propheten; / und keine Zeit und keine Macht zerstückelt / geprägte Form, die lebend sich entwickelt» 115) [5]5
Себя избегнуть – тщетное старанье; / Об этом нам еще сивиллы пели. / Всему наперекор вовек сохранен / Живой чекан, природой отчеканен. – И. В. фон Гёте. Перво– глаголы. Учение орфиков: Демон. Пер. С. Аверинцева.
[Закрыть]. Для Гёте существа, представляющие больше всего этот демонический элемент, появляются с чертами Эрота из Пира. Как хорошо показал А. Раа– бе 116), это особенно относится к Миньоне. Как Эрот, Миньона живет обездоленно и стремится к чистоте и красоте, ее одежды бедны и грубы, в то время как ее музыкальные дарования раскрывают ее внутреннее богатство. Как Эрот, она лежит на голой земле или на пороге дома Вильгельма Мейстера. И, как Эрот, она есть проекция, воплощение ностальгии, которую Вильгельм испытывает к более высокой жизни. Оттилия из Избирательного сродства также является демоническим существом. Она представлена как натуральная сила, мощная, странная, вызывающая притяжение, манящая. Ее глубокое отношение с Эротом показано более скрыто, чем в случае Миньоны, но оно так же реально. Следует еще упомянуть гермафродита Гомункула, который во второй части «Фауста» так ясно соотносится с Эротом 117).
Как элемент двусмысленный, двузначный, неопределенный, демоническое не является ни хорошим, ни плохим, только лишь моральное решение человека дает ему окончательную оценку. Но этот иррациональный и необъяснимый элемент неотделим от существования. Нельзя уклониться от встречи с демоническим, от опасной игры с Эротом.








