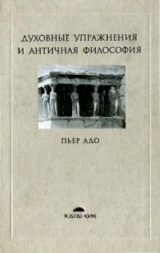
Текст книги "Духовные упражнения и античная философия"
Автор книги: Пьер Адо
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Все, что мы только что сказали, хорошо известно. Если мы это напомнили, то для того, чтобы определить поле нашего опыта (а именно поле восприятия), в котором могло бы быть возможно отношение к миру, в чем-то сходное с отношением, существовавшим между античным мудрецом и космосом. Это также для того, чтобы мы могли показать теперь, что в античности тоже существовали упражнения, при помощи которых философ старался преобразовать свое восприятие мира аналогично смещению внимания, о котором говорил Бергсон, или феноменологической редукции Мер'ло-Понти. Вполне очевидно, что философские речи, через которые
Бергсон, Мерло-Понти, философы античности выражают или обосновывают процесс, ведущий к преобразованию восприятия, крайне отличаются друг от друга, также как речи Клее или Сезанна о живописи не следует путать с феноменологией Мерло-Понти. Но, тем не менее, Мерло-Понти глубоко чувствовал, что опыт Клее или Сезанна, если забыть о стилистических оттенках речи, смыкается с его собственным опытом. То же можно сказать и об опыте, испытываемом через античные тексты, до глубины потрясающие нас. '
Например, это относится к следующему отрывку из письма Сенеки к Луцилию:
А у меня всегда много времени отнимает само созерцание мудрости: я гляжу на нее с изумлением, словно на вселенную, которую подчас вижу, как будто впервые» (tarn quam spectator nouus) 60).
Если Сенека говорит об изумлении, это потому, что ему удается внезапно открыть для себя мир, «как если бы он видел его впервые». И он осознает преобразование, происходящее в его восприятии мира: обычно он не видит мир, он не удивляется ему, но внезапно он изумлен, потому что он видит мир новым взглядом.
Эпикурейцу Лукрецию известен тот же самый опыт, что и стоику Сенеке. Во второй книге 0 природе вещей в определенный момент своего изложения он объявляет, что собирается провозгласить новое учение: «Удивительно новая вещь готовится поразить твое ухо, новый вид вещей собирается открыться тебе». Действительно, в этом новом учении есть чему поразить воображение. Речь идет об утверждении существования бесконечного пространства, и в этом бесконечном пространстве – множественности миров. Чтобы подготовить
своего читателя к этому открытию, Лукреций вводит несколько соображений о психологических реакциях человека на новое. С одной стороны, новое представляется тем, во что трудно поверить. Иными словами, то, что беспокоит наши привычки ума, кажется нам a priori ложным и недопустимым. Но как только мы это приняли, та же самая сила привычки, которая делала новизну удивительной и парадоксальной, делает ее затем банальной, и наше восхищение понемногу уменьшается. Потом Лукреций описывает мир таким, каким он предстал бы перед нашими глазами, если бы мы видели его впервые:
Ныне внимателен будь, достоверному внемля ученью; Новый предмет до ушей твоих бурно стремится достигнуть, В новом обличьи предстать пред тобою должно
мирозданье.
Нет, однако, вещей достоверных, чтоб невероятны Не показались они нам с первого взгляда, а также Ни удивительных нет, ни настолько великих явлений,
Чтоб не внушали они изумленья все меньше и меньше.
Но уже больше никто, созерцаньем его пресыщенный,
Не удостоит взирать на обители светлые неба! 61).
Эти тексты имеют первостепенное значение для нас. И в самом деле, они означают, что у античного человека не было осознания того, что он живет в мире, у него не было времени рассматривать мир, и философы глубоко чувствовали парадокс и неприличие этого состояния человека, который живет в мире, не воспринимая мир. Бергсон четко увидел причину этой ситуации, различив обычное и утилитарное восприятие, необходимое для жизни, от бескорыстного, отрешенного восприятия художника или философа. Таким образом, непредставимый характер научной Вселенной отделяет нас от мира (ибо мы живем в мире переживаемого восприятия), так же, как древнее сомнение в его – мира – рациональном характере (Лукреций отказывал миру в такой рациональности). Люди античности не знали современной науки, не жили в промышленнотехнической цивилизации, и однако их видение мира не особенно отличалось от нашего обычного видения «мира». Таково человеческое состояние. Чтобы жить, человек должен «очеловечить» мир, то есть преобразовывать его – как своим действием, так и своим восприятием, в совокупность «вещей, полезных для жизни», объектов забот, ссор, общественных обрядов, условных ценностей. В этом его мир. И потому-то он уже не видит мира. Он больше не видит «Открытое», как говорил Рильке, то есть он только видит «будущее», тогда как он должен был бы видеть «все, / себя – во всем, и чуять исцеленье» 62). Препятствие к восприятию мира располагается поэтому не в современности, но в самом человеке. Человек должен отделяться от мира как мира, чтобы прожить своей повседневной жизнью, и он должен отделяться от «повседневного мира», чтобы снова обрести мир в качестве мира.
Античная мудрость была так тесно связана с миром не потому, что она считала мир ограниченным (он был бесконечным для Эпикура и Лукреция) или рациональным (для тех же Эпикура и Лукреция он был результатом случайности), но именно потому, что она была усилием увидеть вещи новым взглядом, попыткой вырваться из условного мира человеческого, слишком человеческого, и встать лицом к лицу к видению мира в качестве мира.
5. МгновениеЗамечательно, что в знаменитом тексте, где мы находим одновременно отзвук античной традиции и предчувствие некоторых современных установок (я имею в виду «Прогулки одинокого мечтателя»), мы понимаем, что для Руссо существовала тесная связь между его космическим восторгом и преобразованием его внутренней установки по отношению ко времени. С одной стороны, «все отдельные предметы ускользают тогда от него; он видит и чувствует себя во всем» 63). С другой стороны, «время – ничто [для него] <…> и настоящее все длится, не давая, однако, чувствовать своей длительности и не храня на себе следов смены дней, не вызывая никакого чувства лишения или радости, удовольствия или страдания, желания или страха, наполняя всю душу единственным чувством того, что мы существуем…» б4) Таким образом, Руссо прекрасно анализирует элементы, составляющие и делающие возможным бескорыстное восприятие мира. Речь идет о сосредоточении на настоящем мгновении, в котором для ума нет, в некотором роде, ни будущего, ни прошлого, а есть простое «чувство существования». Речь, однако, не идет о замыкании на себе; напротив, чувство существования неразрывно с чувством бытия во всем и чувством существования всего.
Все это у Руссо является пассивным состоянием, почти мистическим. Но у древних это преобразование взгляда, устремленного на мир, оказывается связанным с упражнениями сосредоточения ума на настоящем моменте 65). Как в стоицизме, так и в эпикуреизме эти упражнения заключаются в том, чтобы «отделиться от будущего и прошлого», «отграничить настоящий момент» 66). Такое внутреннее отрешение, свобода и спокойствие ума, освобожденного от веса и предрассудков прошлого, как и от забот о будущем, необходимы, чтобы воспринимать мир в качестве мира. Впрочем, здесь есть определенная взаимная причинность. Ибо осознание отношения к миру предоставит, в свою очередь, уму мир и внутреннюю безмятежность в той мере, в какой наше существование будет вновь помещено в космическую перспективу.
Это сосредоточение на настоящем моменте позволит открыть для себя бесконечную ценность, неслыханное чудо нашего присутствия в мире. И в самом деле, сосредоточение на настоящем моменте подразумевает приостановку наших планов на будущее, иначе говоря, оно подразумевает, чтобы мы воспринимали настоящий момент, как последний момент, чтобы мы жили каждый день, каждый час, как если бы они были последними. Для эпикурейцев такое упражнение обнаруживает удачу, который представляет каждый момент, прожитый в мире: «Меж упований, забот, между страхов кругом и волнений / Думай про каждый ты день, что сияет тебе он последним; / Радостью снидет тот час, которого чаять не будешь» 67). «Принимать, признавая всю его ценность, каждый момент времени, который добавляется, как если бы он происходил в силу невероятной удачи» 68). «Будь доволен тем, что имеешь, в прочем / Беззаботен будь и улыбкой мудрой / Умеряй беду. Ведь не может счастье / Быть совершенным» 69).
Такой умилительный настрой по поводу того, что появляется перед нами, что происходит в настоящий момент, встречается и у стоиков, но по другим причинам. Для них каждый момент, каждое настоящее событие вовлекает в себя всю вселенную, всю историю мира. Наше тело предполагает всю вселенную, как каждое мгновение предполагает необъятность времени. И всплеск реальности, присутствие бытия мы можем испытать именно в самих себе. Осознавая одно только мгновение нашей жизни, одно только биение нашего сердца, мы можем прочувствовать свои узы со всей космической необъятностью и с чудом существования мира. В каждой части реальности присутствует вся вселенная. У стоиков этот опыт мгновения соответствует их теории обоюдного взаимопроникновения частей Вселенной. Но такой опыт необязательно связан с теорией. Мы, например, находим его выражение в следующих стихах Уильяма Блейка:
Небо синее – в цветке В горстке праха – бесконечность;
Целый мир держать в руке,
В каждом миге видеть вечность 70).
Видеть мир в последний раз – это также действительно видеть его впервые, tarn quam spectator nouus. Это впечатление вызвано как мыслью о смерти, которая раскрывает нам в некотором роде чудесный характер нашего отношения к миру, все время находящегося под угрозой, всегда нечаянного, так и чувством новизны, благодаря взгляду, сосредоточенному на одном мгновении, на одном моменте мира: кажется, что таким образом мир появляется, рождается на наших глазах. И мир воспринимается, как «природа» в этимологическом смысле слова, как physis, то есть движение роста, рождение, через которое появляются вещи. Мы переживаем себя как момент, как мгновение этого движения, этого огромного движения, которое превосходит нас, оно всегда тут уже до нас, всегда за пределами нас. Мы со-рождаемся 71) с миром. Чувство существования, о котором говорил Руссо, – это чувство тождественности между универсальным существованием и нашим существованием.
6. Мудрец и мирСенека был одинаково изумлен зрелищем мира (который он созерцал tarn quam spectator nouus) и зрелищем мудрости, а под «мудростью» он понимал фигуру мудреца, такую, какую он находил в личности философа Секста.
Эта параллель очень поучительна. И в самом деле, есть очень большое сходство между движением, в силу которого мы приходим к видению мира, и движением, через которое мы устанавливаем фигуру мудреца. Прежде всего, начиная с Пира Платона, античные философы рассматривали фигуру мудреца как недоступный образец, которому фило-соф (тот, кто любит мудрость) старается подражать во все время возобновляемом усилии, через упражнение каждого мгновения 72). Созерцать мудрость в той или иной личности, это значит осуществлять движение ума, которое через жизнь этой личности направляется к представлению абсолютного совершенства, которое было бы за пределами всех его возможных воплощений. Равно, созерцание мира раскрывает для себя целокупность мира в том частичном аспекте, на котором оно останавливается, оно превосходит пейзаж7Э), схваченный в тот или иной момент, чтобы выйти за его пределы к изображению всеобщности, превосходящей всякий видимый объект.
Кроме того, созерцание, о котором говорит Сенека, есть в определенном смысле единительное созерцание. Чтобы воспринимать мир, нужно при помощи упражнения сосредоточения на мгновении воспринимать в некотором роде свое единство с миром, и точно так же, чтобы распознать мудрость, нужно в некотором роде упражняться в мудрости. Мы познаем, лишь уподобляясь своему объекту. Именно при помощи полного обращения мы можем открыться миру и мудрости. Вот почему Сенека изумлен и приходит в восторг от зрелища мудрости так же, как и от зрелища мира. В том и в другом случае речь для него идет об открытии, завоеванном благодаря внутренней перемене, благодаря полному изменению своего видения и своего образа жизни. Так, по сути в одном и том же единственном движении открываются влюбленному в мудрость мир, воспринимаемый в сознании мудреца, и сознание мудреца, погруженного в целокупность мира.
Является ли философия предметом роскоши? [17]17
Статья впервые опубликована: Le Monde de l’éducation.№ 191. Mars 1992. P. 90–93.
[Закрыть]
Является ли философия роскошью? Мы знаем, что роскошь дорогостоящее и бесполезное дело. Нам, кстати, придется очень кратко упомянуть то, что можно было бы назвать экономическим аспектом этого вопроса, то есть финансовые условия, необходимые для философствования в нашем современном мире. Но углубление этого аспекта увлекло бы нас в сторону общей социологической проблемы неравенства шансов в профессиональной карьере. Разумеется, именно на проблеме полезности философии мы должны здесь задержаться. Нам тогда представится, что заданный вопрос принуждает нас непременно спросить себя о самом определении философии. И в конце концов, даже за пределами природы философии наше размышление приведет нас к драме человеческого состояния.
Нефилософы в принципе смотрят на философию, как на общение на малопонятном языке, как на абстрактные речи, без конца развиваемые очень узким кругом специалистов по поводу заумных и неинтересных вопросов, причем это занятие закрепили за собой отдельные привилегированные, которые, благодаря своим средствам или счастливому стечению обстоятельств, располагают досугом заниматься всем этим, то есть в итоге философия – это, разумеется, роскошь. И нужно признать, что действительно, чтобы какой-нибудь ученик мог стать кандидатом на степень бакалавра, чтобы он получил возможность написать такую-то философскую работу, потребовались тяжкие финансовые расходы со стороны его родителей или же налогоплательщиков. И чем ему реально послужит «в жизни» тот факт, что он сочинил это упражнение в стиле – в нашем современном мире, где царствует научно-промышленная технология, где все оценивается в зависимости от рентабельности и коммерческой выгоды? Чему может послужить дискуссия о соотношении между истиной и субъективностью, между опосредованным и неопосредованным, случайностью и необходимостью или о методическом сомнении у Декарта? Впрочем, верно и то, что философия вовсе не отсутствует в современном мире, то есть на экранах телевизоров, поскольку в принципе современный человек ощущает, что он по-настоящему воспринимает внешний мир, только когда он видит его отражение в этих маленьких четырехугольниках. То есть время от времени в той или иной передаче по телевизору показывают философов: они обычно увлекают публику своим искусством говорить, мы покупаем их книгу на следующий день, листаем первые страницы, потом окончательно задвигаем фолиант подальше, потому что зачастую нас сразу охватывает чувство апатии от непонятной терминологии. Но все это воспринимается именно как роскошь для немногих привилегированных, как занятие для узкого кружка людей, не оказывающих влияния на главные вопросы жизни.
Прелесть философии, ответят некоторые философы, состоит именно в том, что она является роскошью и бесполезной речью. Прежде всего, если бы в мире было бы только полезное, в нем невозможно было бы дышать. Поэзия, музыка, живопись тоже бесполезны.
Они не улучшают производительность. Но, однако, они необходимы для жизни. Они освобождают нас от утилитарной непреложности. Это также относится и к философии. Сократ в Диалогах Платона обращает внимание своих собеседников, что у них масса времени для дискутирования, что их ничто не торопит. Верно также и то, что для всего этого нужен досуг, так же как нужен досуг для занятий живописью, сочинения музыки и поэзии.
Именно в этом и заключается роль философии – раскрывать людям полезность бесполезного, или, если хотите, научить их делать отличие между двумя смыслами слова «полезный». Есть то, что полезно для такой-то конкретной цели: центральное отопление или освещение, или транспорт, и есть то, что полезно человеку как человеку, как думающему существу. Речь философии «полезна» именно в последнем смысле, но она будет роскошью, если мы будем считать полезным только то, что служит конкретным материальным целям.
Можно ли дать общее определение философии, воспринимаемой как теоретическая речь? Довольно трудно найти общий знаменатель между различными тенденциями. Можно было бы сказать, что он общий для структуралистов и для аналитиков, если взять в качестве примера две крупные группы, рассуждать диалектически о всех формах человеческой речи, будь то научная, техническая, политическая, художественная, поэтическая, философская или повседневная речь. Таким образом, философия будет некоторым видом метаречи, которая, впрочем, не довольствовалась бы простым описанием человеческих речей, а критиковала бы в силу того, что нужно назвать требованиями разума, даже если понятие «разума» само ставится под вопрос большинством из этих мыслительных речей. И нужно
действительно признать, что, начиная с Сократа, эта речь о речах была одним из аспектов философии.
Однако весьма трудно удовлетвориться таким решением. Если большинство людей рассматривают философию как роскошь, то это происходит в основном потому, что она представляется им бесконечно удаленной от того, что составляет сущность их жизни: их заботы, страдания, тревоги, перспектива смерти, ожидающей их и тех, кого они любят. Перед лицом этой давящей реальности жизни философская речь может показаться им лишь тщетной болтовней и смехотворной роскошью… «Слова, слова, слова», – говорил Гамлет. Что же все-таки наиболее полезно для человека как человека? Бесконечно рассуждать о языке или о бытии и небытии? А не лучше ли научиться жить по-человечески?
Мы только что упоминали о словах Сократа, речи о речах других. Они не были предназначены для построения концептуального здания чисто теоретической речи, но они были живой беседой, от человека к человеку, не отделенной от повседневной жизни. Сократ является человеком улицы. Он разговаривает со всеми, обходит рынки, спортивные залы, мастерские ремесленников, лавки торговцев. Он наблюдает и дискутирует. Он не утверждает, что знает что-то. Он только расспрашивает, и те, кого он расспрашивает, задаются вместе с ним вопросами о самих себе. Они подвергают сомнению самих себя и свои действия.
В этом аспекте философская речь больше не самоцель, она поставлена на службу философской жизни. Главная сущность философии состоит теперь не в речи, а в жизни, в действии. Вся античность признавала, что Сократ был философом больше своей жизнью и своей смертью, чем своими речами. И античная философия всегда оставалась сократической в той мере, в какой она
всегда представляла самое себя скорее как образ жизни, а не как теоретическую речь. Философ должен непременно быть не профессором или писателем, но человеком, сделавшим определенный жизненный выбор, принявшим для себя определенный стиль жизни, например, эпикурейский или стоический. Речь, наверное, играет важную роль в этой философской жизни; жизненный выбор выражается «в догматах», в описании определенного видения мира, и этот жизненный выбор остается живым, благодаря внутренней речи философа, который вспоминает в процессе этой речи фундаментальные догмы. Но речь эта неотделима от жизни и и действия.
Таким образом, для нас приоткрывается тип философии, отождествляемый в некотором роде с жизнью человека, осознающего самого себя, беспрестанно выправляющего свою речь и свои действия, чувствующего свою принадлежность к человечеству и к миру. В этом смысле знаменитая формула «философствовать – это значит учиться умирать» является одним из самых адекватных определений, которые когда-либо были даны философии. В перспективе смерти каждое мгновение предстанет, как чудесная и нечаянная удача, и каждый взгляд, устремленный на мир, даст нам такое впечатление, что мы видим его в первый, и может быть, в последний раз. Мы прочувствуем неизмеримую тайну возникновения мира. Признание этой в некотором роде священной характеристики жизни и существования приведет нас к пониманию нашей ответственности перед другими и перед самими собой. В таком осознании и в такой жизненной установке древние находили ясность рассудка, спокойствие души, внутреннюю свободу, любовь к другому, уверенность в своих действия. У некоторых философов XX века, например, Бергсона, Лавеля или Фуко, можно наблюдать определенное
стремление вернуться к этой античной концепции философии.
По всей вероятности, такая философия не может быть роскошью, поскольку она связана с самой жизнью. Она скорее будет элементарной потребностью человека. Вот почему такие философии, как эпикуреизм или стоицизм, провозглашали себя универсальными. Предлагая людям искусство жить как человеку, они обращались ко всем человеческим существам: рабам, женщинам, чужеземцам. Они были миссионерскими учениями, они стремились обратить массы.
Но тщетно. Ибо не нужно впадать в иллюзию: эта философия, задуманная как образ жизни, может по– прежнему быть только роскошью. Драматичность человеческого положения заключается именно в том, что невозможно не философствовать и, в то же время, невозможно философствовать. Человеку открыты благодаря философскому сознанию изобилие чудес космоса и земли, более острое восприятие, неисчерпаемое богатство коммуникации с другими людьми, с другими душами, приглашение действовать благожелательно и справедливо. Но заботы, принуждения, банальности повседневной жизни мешают ему прийти к этой жизни, в которой он осознает все свои возможности. Как же гармонично соединить повседневную жизнь и философское сознание? Это может быть только зыбкое и очень непрочное завоевание. «Все, что прекрасно, – говорит Спиноза в конце своей Этики, – столь же трудно, сколь редко». И как миллиарды людей, придавленные нищетой и страданием, могут достичь такого уровня сознания? И разве быть философом не значит тоже страдать от своей отделенности, от этой привилегии, этой роскоши, и ни на одно мгновение не забывать об этой драме человеческого положения?








