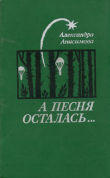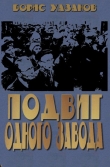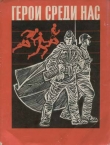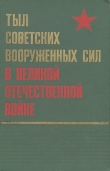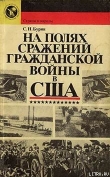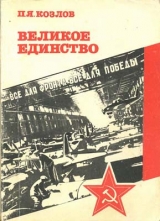
Текст книги "Великое единство"
Автор книги: Павел Козлов
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Вот в разгар этой дружной работы над заводом и появился немецкий самолет-разведчик. Сперва он
прошел стороной, видимо, опасаясь зениток. Затем осмелел и пролетел над местом погрузки пресса.
Возвратившись, он принялся обстреливать работавших из пулеметов – заходил раза три...
К счастью, никто от обстрела не пострадал, но все поняли, что следом можно ожидать
бомбардировщиков. Темп работ возрос до предела, и ночью платформы с блоками пресса были выведены
за границы завода.
Итак – теперь можно было сказать, что все оборудование заводских цехов, лабораторий и отделов было
полностью с завода вывезено. В это время в Воронеж на денек прилетел с новой площадки А. А.
Белянский – лично проверить обстановку. Сказал, что секретарь обкома В. Д. Никитин подсказывает —
если будет возможность, забрать с других заводов Воронежа и из городского хозяйства ценное
оборудование. Так и сделали.
Поехали на завод имени Ленина, который изготавливал оборудование для хлебозаводов, и погрузили два
комплекта на занаряженные для завода № 18 платформы. Так же поступили с тремя компрессорами для
кислородного завода – их вывезли с завода «Автоген».
У себя на заводе дотошные механики выкопали и погрузили в эшелон несколько километров
электрокабелей. Словом – забрали по-хозяйски все, что могло пригодиться на новом месте. В том числе
было вывезено из Воронежа сорок новеньких трамвайных вагонов.
Многие подробности перемещения головного завода № 18, описанные здесь, в значительной мере
повторялись при эвакуации [74] и завода № 24 имени Фрунзе и завода имени Орджоникидзе и других
предприятий.
Перебазирование авиамоторного завода № 24 имени М. В. Фрунзе из Москвы на новую площадку
началось в середине октября 1941 года, когда враг вплотную подошел к столице. Погрузка заводского
оборудования и людей в эшелоны производилась круглосуточно и в очень высоком темпе. Все понимали, что вынужденное перебазирование завода на новую площадку должно быть выполнено в кратчайший
срок, так как его продукция очень нужна фронту.
Обстоятельства не дали возможности фрунзенцам совместить с эвакуацией завода выпуск моторов на
московской площадке, как это сделали воронежцы на заводе № 18. Испытания, а следовательно, и выпуск
моторов АМ-38 прекратились с началом эвакуации завода. Отсюда одной из главных задач перед
коллективом было всемерное ускорение перевозки на новую площадку всего задела моторов, а также —
испытательной станции и цеха главной сборки. Это мероприятие должно было обеспечить ускорение
начала выпуска моторов на новом месте.
Хотя москвичам на новом месте «повезло» больше, чем воронежцам – готовность корпусов их нового
завода была несколько выше, – но в целом и моторный завод в октябре 41-го также был еще в большей
степени строительной площадкой: недостроенные заводские корпуса без отопления и освещения, а то и
без окон.
Руководство завода во главе с директором Михаилом Сергеевичем Жезловым – старым большевиком, участником гражданской войны, опытным, энергичным человеком, партком с парторгом ЦК на заводе
Петром Николаевичем Лысовым, налаживая работу на новой площадке, много заботились и о быте
рабочих.
Очень важно было то, что во всем этом кажущемся хаосе при ближайшем рассмотрении виделись и
действовали четкая техническая линия, единый план, проводимые специалистами завода под
руководством главного инженера А. А. Куинджи и его помощников – начальника производства В. В.
Чернышева и начальников заводских технических служб.
Работы по вводу в строй испытательной станции на заводе возглавлял талантливый инженер Александр
Федорович Зайцев. Так как строительство основного корпуса «испыталовки» еще не было завершено, то
инженеры, механики, мотористы своими силами смонтировали несколько времянок. Выкатные станки
для испытания авиамоторов со всей подводкой к ним топлива, масла, воды, электроэнергии и системами
управления и контроля накрыли временными деревянными будками. Первая очередь испытательной
станции была готова. [75]
И вот наступил торжественный день. 25 декабря 1941 года окрестности площадки нового авиамоторного
завода впервые услышали «голос» авиамотора АМ-38.
Для завода имени Орджоникидзе операция по эвакуации началась с команды о прекращении
производства в цехах. Произошло это также в середине октября 1941 года. К этому времени завод был
передан в Наркомат бронетанковой промышленности, который поначалу стремился освободиться от
«чужих» заказов. Поэтому при распределении эшелонов с имуществом завода нарком В. А. Малышев
приказал директору завода В. И. Засульскому отправить все бронекорпуса Ил-2, задел деталей и
материалы в адрес завода № 18.
Заводчане со знанием дела и пониманием трудностей освоения производства бронекорпусов постарались
скомплектовать и погрузить не только материалы и задел деталей, но и штампы и всю производственную
оснастку цехов, изготовлявших бронекорпуса. Все это уехало по новому адресу завода № 18.
Последние эшелоны завода имени Орджоникидзе уходили из города уже под бомбежкой. Несколько
крупных бомб попало в заводские корпуса. Были разбиты подъездные пути. В эти тревожные дни на
завод приезжал секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков. Он ободрил рабочих, помог им делом...
Вот и долгожданный заснеженный Свердловск – конец пути. Но оказалось, что радость их была
преждевременной. Здесь В. И. Засульского уже ждало новое назначение и указание из Москвы —
следовать к новому месту расположения завода № 18 и там организовывать новый авиазавод для
производства бронекорпусов штурмовика Ил-2.
Директор нового завода В. И. Засульский и его главный инженер Б. А. Дубовиков собрали около двухсот
специалистов и рабочих, которые на заводе занимались изготовлением бронекорпусов, снова все
погрузились в эшелон с семьями и направились к новому месту работы...
Фронт работ на новой площадке завода № 18 непрерывно расширялся. Прибывшие из Воронежа и
развезенные по цехам станки и другое оборудование нужно было скорее пустить в дело. Для этого
необходимо было выполнить как минимум два условия: закрепить станки на фундаменте и подать к ним
электроэнергию.
Едва станок втаскивали в тот или иной цех и ставили на место по планировке, как к нему направлялись
электрики. И пока несколько работниц цеха снимали со станка упаковочную бумагу и обтирали
консервационную смазку, монтеры подключали к нему временную электропроводку.
А как же закрепление станка? Фундамент обязательно нужен, [76] ведь без него станок потеряет
точность. Но земляной пол в цехе так промерз, что его нужно долбить пневмомолотками, которых было
еще слишком мало. Да и бетон фундамента, чтобы не замерз, необходимо подогревать. А как и чем?
Морозец между тем крепчал, станки покрылись инеем. Голой рукой за рукоятки не берись – прилипнет.
Что же делать? Вероятно, никто из высокого начальства не давал команды разводить костры в цехах.
Правилами противопожарной безопасности это, безусловно, запрещено. Но они загорелись, эти костры.
Вначале робкие, случайные, а затем «организованные», в железных бочках, на листовом железе. Конечно, дымные, но вселявшие жизнь в промерзшие заводские корпуса, в заснеженные цехи.
Отогрелись руки у огня, и вроде бы теплее стало в цехе, меньше обжигает металл станка, даже можно
попробовать его запустить... Щелчок выключателя – и загорелась лампочка освещения. Хорошо...
Нажата кнопка «Пуск» – ожил станок, завертелся патрон, пошел суппорт. Ура-а-а, работает! Радостью
светятся лица. А как же, ведь это означает, что оживает завод, кончается период надоевшей, ох как
надоевшей всем эвакуации. Растет и крепнет вера в себя, в свой коллектив, в то, что мы все можем!
Но перевозкой и установкой в цехах станков далеко не исчерпывались трудности становления
производства на новом месте. Прежние тяжести показались игрушечными по сравнению с прибывшим
кузнечно-прессовым оборудованием. И главным среди «мастодонтов» был огромный пресс «Бердсборо».
Партийный комитет, придавая чрезвычайно важное значение быстрейшему вводу пресса, обеспечил
четкое руководство этими работами.
На монтаже гигантского пресса зимой при сильных морозах особенно отчетливо проявилась
организующая роль партийного [77] звена в группе монтажников. Можно сказать, что это было
настоящее сражение, в котором коммунисты и комсомольцы поднимали в атаки свои подразделения, были на самых трудных участках, показывая примеры героического труда.
Очень важно было то, что на монтаже пресса работали те же специалисты бригады А. Талтынова и
такелажники К. Ломовских, которые однажды его уже устанавливали, а затем демонтировали. Но здесь
кроме уличных морозных условий дополнительные трудности создавало и отсутствие подъемного крана
большой грузоподъемности. Что делать?
Выход подсказал М. И. Агальцев. Он со своими помощниками сконструировал мощную треногу из
железных балок. Она, как гигантский паук, стала над всей монтажной площадкой. И вот с помощью
такого устройства и двух подвешенных к нему талей блоки пресса постепенно стали занимать свои
места. Образцово, по-хозяйски проведенные демонтаж и упаковка агрегатов и деталей пресса в Воронеже
обеспечили полную сохранность всех его частей.
Круглосуточная вахта на монтаже «Бердсборо» успешно продолжалась. Ни морозы, ни вьюги не сбивали
графика работ. И люди сделали чудо: смонтировали и пустили пресс за двадцать пять суток!
Не стояли дела и на других участках. Стапели сборочных цехов, аккуратно размеченные и разобранные в
Воронеже, значительно скромнее, незаметнее, чем их собратья-станки, проследовали из вагонов к
отведенным им местам и... Вот их-то уже нельзя было собирать на «живую нитку», временно. Без заранее
заготовленного фундамента здесь не обойтись. И снова загорелись костры, отогревая мерзлую землю
полов. Появился автокомпрессор, теперь можно долбить ямы под фундаменты. Правда, отбойные
молотки часто останавливаются, так как в них замерзала вода-конденсат. И здесь снова приходили на
помощь костры – возле них отогревались и молотки и люди.
Прибыл бетон. Чтобы он не замерз в фундаментных ямах, электрики предложили устроить прогрев
бетона через арматуру с помощью сварочных трансформаторов. Попробовали – получается. Тогда
осмелели и стали применять этот способ шире. Далее – научились укладывать бетонные полы в цехах, прогревая их через металлическую сетку. Цехи на глазах стали обретать обжитой, рабочий вид. А как
только передвижные компрессоры подали в сеть сжатый воздух, запели пневмодрели, деловито
затрещали автоматные очереди пневмомолотков, возвещая о том, что цехи ожили. В них скоро вновь
начнут рождаться «илы».
А где же агрегаты самолетов, которые привезли из Воронежа? Они на своем месте – в цехе главной
сборки. Правда, значительная [78] часть огромного цеха еще не имеет крыши. Но хорошо и то, что эта
непокрытая часть ближе к выходным воротам. А в глубине цеха снег начисто выметен, и уже
выстроились в два ряда фюзеляжи партии штурмовиков, которым предстоит быть первыми самолетами, построенными на новом месте.
С каждым днем оживленнее становилась главная сборка – приезжали ее хозяева из Воронежа, закончив
там выпуск последних крылатых машин. Буквально на глазах преображался и сам цех: строители
завершали свои дела. Снегопадам и метелям сюда уже ход заказан. Вот только с морозом пока еще сладу
нет. В ноябре 41-го температура доходила до тридцати и более градусов.
Не так уж долго, как многие думали, пришлось ждать того дня, когда в цех наконец потребовали
конструкторов не для перевозки каких-то грузов или оформления транспортного наряда, а для работы по
специальности. При сборке самолета возникли какие-то вопросы, требующие ответов специалистов, появились неувязки, требующие компетентного решения. Без этого ОТК и военный приемщик не
принимали ту или иную операцию. Действовал установленный порядок без каких-либо скидок на
тяжелые условия. Законы строительства боевых самолетов незыблемы: все должно быть сделано строго
по чертежу и с отличным качеством. «Илы» не должны подводить летчиков в бою!
В цехах вновь был введен военный распорядок рабочих суток – две удлиненные смены по десять —
двенадцать часов. А на многих участках появилось дополнительное правило: работу не прекращать, пока
не выполнишь задание.
Для партийного комитета и лично для парторга ЦК Н. И. Мосалова все вопросы, связанные с
комплектованием, размещением, обеспечением питанием и устройством быта работников завода, стали
главными заботами на новом месте. Здесь ежедневно возникало много острейших ситуаций и вопросов, требовавших решений немедленных, так как они были связаны с людьми.
Много трудностей рождает переселение человека на новое место. Еще больше их возникает при
переселении семьи. Простые житейские дела – помыться в бане, постирать белье, постричься —
выросли в проблемы, потому что бани, прачечные, парикмахерские необходимо организовывать заново, с
нуля. У человека порвалась одежда, порвались ботинки – нужна ремонтная служба, ее также
необходимо создавать заново. Все это были заботы партийных организаций и руководителей заводов в
первую очередь.
Но основные задачи материально-технического обеспечения заводов решались централизованно – через
Государственный Комитет Обороны. [79]
Нужды каждого завода и промышленного района в целом постоянно фиксировались 15-м Главным
управлением, докладывались наркому и в конце каждого квартала представлялись в аппарат ЦК ВКП(б).
При непосредственном участии таких специалистов из аппарата ЦК, как А. В. Будников, А. И. Тугеев, Г.
М. Григорян и других в течение трех-четырех дней подготавливалось согласованное с
заинтересованными ведомствами решение ГКО на каждый квартал. При этом нередко отдельные
наркомы приглашались в Центральный Комитет для согласования очередного решения.
Необходимо подчеркнуть, что со стороны Центрального Комитета партии осуществлялся жесткий
контроль исполнения упомянутых решений ГКО всеми участниками работ, начиная с Наркомата
авиационной промышленности и всех его заводов. При этом невыполнение заданий или срывы сроков
были так редки, что рассматривались как чрезвычайные происшествия.
Что же включалось в ежеквартальные решения ГКО по новому промышленному району?
Прежде всего – поставки материалов и комплектующих изделий для штурмовиков Ил-2 от заводов-
смежников. Далее, в решения входили задания по обеспечению заводов авиационного комплекса
продуктами питания. Большое внимание также постоянно уделялось промышленному и жилищному
строительству в новом заводском районе и медицинскому обслуживанию его населения.
Такое внимание Центрального Комитета и ГКО при повседневной активной помощи со стороны обкома
партии, его секретарей В. Д. Никитина и Ф. Н. Муратова создавали авиазаводам максимально возможные
для военного времени условия работы.
4
В связи с эвакуацией завода № 18 запасная авиабригада, в которой формировались штурмовые
авиаполки, также получила команду на перебазирование из Воронежа. Наземное имущество
авиабригады, ее кадровый состав с семьями, а также летно-технический состав строевых авиаполков, прибывших в Воронеж за «илами», отправили железнодорожными эшелонами. А всем наличным в
авиабригаде самолетам Ил-2 – их насчитывалось около полусотни – надлежало срочно перелететь в
Заволжье и подготовиться для участия в военном параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
Надо сказать, что в связи с обострившейся военной обстановкой [80] все иностранные посольства и
миссии по предложению Советского правительства были эвакуированы из Москвы в Куйбышев. И очень
важно было продемонстрировать дипломатическому корпусу, что Красная Армия имеет мощные резервы.
Что, в частности, «уничтоженная», по лживым словам геббельсовской пропаганды, советская авиация
даже далеко в тылу находится в боевой готовности.
Сводный авиаполк штурмовиков Ил-2 для парада под Куйбышевым привел полковой комиссар А. И.
Подольский. Его, естественно, волновало – смогут ли самолеты Ил-2 запасных полков, то есть учебные, много летавшие самолеты, вскоре после довольно длительного перелета из Воронежа принять участие в
параде?
Но подробно обсудив этот вопрос с главным инженером авиабригады Ф. В. Кравченко и лично
убедившись в том, что специалисты авиазаводов № 24 и № 18 совместно с техсоставом полков
добросовестно и быстро проводят техническое обслуживание каждого самолета, устраняя в нем
малейшие неполадки, он успокоился.
На параде четкий строй штурмовиков, потрясая окрестности мощным ревом моторов, пронесся над
площадью города Куйбышева, заполненной гостями и колоннами сухопутных войск.
Этот парад показал, что в тылу Советского государства имеются значительные военные резервы. Ведь
только в авиационной части парада участвовало около 700 самолетов различных типов.
Конечно, парад в Куйбышеве был только небольшим эпизодом в жизни авиабригады на новом месте.
Трудности начались с того, что авиабригада перебазировалась не на какую-нибудь, пусть незаконченную
стройку, а на голое место в буквальном смысле слова. Ей были отведены степные участки вблизи двух
районных центров, километрах в семидесяти от площадки завода № 18. Степь была действительно
ровная – готовые грунтовые аэродромы, но больше там ничего не было. Где размещать людей? И вот на
каждом из степных аэродромов запасных авиаполков бригады возникли поселки из землянок, получившие меткое название «копай-город».
Вскоре в землянках и в местных школах были оборудованы учебные классы, и свою учебу летчики
продолжили. Но трудности не уменьшились, так как летно-технический состав со всех фронтов
прибывал и прибывал в авиабригаду.
По указанию ГКО Подольский скомплектовал из бригадных самолетов Ил-2 штурмовой авиаполк и
направил его на защиту Москвы. Очень просился тогда полковой комиссар улететь во главе этого
авиаполка, но разрешения не получил. [81]
Этот авиаполк стал первым гвардейским среди штурмовых авиаполков. В конце войны он назывался: 6-й
Московский гвардейский, орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова штурмовой авиационный полк.
5
Находясь далеко от Москвы, коллективы заводов и ОКБ Ильюшина в то же время никогда не чувствовали
себя оторванными от нее, повседневно жили ее заботами и делами.
Торжественное заседание в Москве вечером 6 ноября 1941 года, парад войск на Красной площади 7
ноября – как это много значило для всего советского народа! Крепко стоит Москва! Но ей нужна
помощь всей страны, ей очень нужны были боевые самолеты Ил-2, и заводские коллективы торопились
наверстать упущенное в связи с эвакуацией.
Уже через месяц после прихода первого эшелона в цехе главной сборки завода № 18 на новой площадке
были собраны первые штурмовики Ил-2. В бытовках этого цеха, да и в других цехах стали появляться
«спальные» уголки. Люди перестали уходить из цехов после смены, оставаясь на заводе. На улице лютует
зима, а в бараках общежитий уюта не много. Да и семьи у большинства работников были в деревнях.
Куда и зачем уходить с завода? Здесь, в бытовках, относительно тепло, в цеховом буфете покормят, и
работать можно без оглядки, пока задание не выполнишь...
10 декабря был выпущен в полет первый штурмовик Ил-2, построенный на новой площадке завода.
Поднять в воздух эту машину поручили заместителю начальника летно-испытательной станции летчику-
испытателю подполковнику Евгению Никитовичу Ломакину. Готовила ее к полету бригада бортмеханика
Н. М. Смирницкого.
Некоторым посчастливилось увидеть этот исторический полет, многие слышали «голосок» своего
детища. Все находившиеся на заводской площадке горячо обсуждали это огромное событие в их жизни.
Как же иначе назовешь его, ведь уже здесь, на недостроенной, необжитой площадке, которую чаще зовут
строительством, нежели заводом, построен и летает самолет Ил-2!
Этот полет был не только да, наверное, и не столько техническим достижением заводского коллектива, а
тем моральным фактором, который помог сделать важный психологический перелом в сознании многих
работников завода, – мы вновь твердо стоим на родной земле, прижились и даем плоды! Вот что для
многих означал полет первого штурмовика, собранного на новом месте, вот о чем пел его мотор в тот
памятный день... [82]
А морозы тогда стояли действительно знатные. И не только морозы, но и ветры, и снегопады, и вьюги.
Примыкавшее к заводу поле, на котором началось строительство аэродрома, заносило сугробами, а
расчищать его было нечем. Памятный полет Ил-2 готовили на площадке соседнего транспортного отряда.
Там не было самолетов с моторами водяного охлаждения, и воду для «ила» пришлось греть на костре в
каких-то чанах.
Но это был один самолет. А когда их появилось много? В главной сборке военные представители
принимают одну за другой готовые машины. Но условий для их облета нет. Наркомат
авиапромышленности дает указание: принятые военпредом самолеты отрабатывать на земле, а затем
вновь частично разбирать, грузить на железнодорожные платформы и направлять в Москву. Организовать
это нужно немедленно, штурмовики очень нужны на фронте!
... Заканчивался декабрь 1941 года. Уже пришел на новую площадку последний эшелон с оборудованием
и рабочими завода № 18. Перебазирование большого предприятия заняло два с половиной месяца. Уже
добрая половина станков, самых нужных, работала на новом месте, и число их наращивалось
каждодневно. Уже поднялся в воздух первый штурмовик Ил-2, построенный на новом месте. В тот
памятный день на оперативном совещании директор сообщил, что последний самолет Ил-2, собранный
на старой площадке в Воронеже, облетан и сдан воинской части в начале ноября 1941 года. Таким
образом, новенькие «илы» с маркой завода № 18 не поднимались в воздух из-за эвакуации лишь в
течение тридцати пяти дней.
...Уже пережили люди радость первого крупного военного успеха – контрнаступления наших войск под
Москвой, перечитывали и берегли номер «Правды» от 13 декабря с заветными словами: «... Войска
нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление
против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки
разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери».
...Уже в цехе главной сборки количество сданных военпреду «илов» переваливало за десяток и
продолжало расти. И хотя производственная жизнь и быт заводчан только начинали налаживаться, эта
неустроенность уже начинала восприниматься как нечто временное, устранимое. Порой казалось, что в
этой бурной жизни военного времени начинают просматриваться черты размеренности, напоминающие
времена довоенные, как вдруг. .
23 декабря 1941 года поздно вечером директор получил правительственную телеграмму: [83]
«...Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор
выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как
хлеб...
Сталин».
Далее в телеграмме содержалось жесткое требование выпускать как можно больше «илов» для фронта.
Дежурный по заводу тут же получил указание организовать к четырем часам утра сбор руководителей
основных подразделений завода. Часть людей оказалась на местах, за отсутствующими послали автобус.
Впервые за время работы на новой площадке в кабинете директора собралось столько людей, да еще
ночью. Все понимали, что для такого «аврала» есть веские причины, но слова телеграммы для
подавляющего большинства явились полной неожиданностью.
– Да, товарищи, – первым нарушил тишину, наступившую после чтения телеграммы А. А. Белянский,
– наш коллектив проделал большую и очень трудную работу. По меркам мирного времени мы
совершили чуть ли не подвиг. Но сейчас, когда идет не просто жесточайшая война, а решается вопрос
быть или не быть Советскому государству, сейчас от нас требуется значительно больше. Именно поэтому
так резок тон телеграммы.
– Правильно, Александр Александрович, думаю, что сейчас очень важно довести смысл этого указания
Сталина до сознания всех коммунистов, – с этими словами парторг П. М. Федоренко взял из рук
директора телеграмму и продолжал: – А вот эти слова: «Ил-2 нужны Красной Армии как воздух, как
хлеб», – должны знать на заводе буквально все, чтобы они стали нашим девизом, чтобы их смысл
воодушевил всех, весь наш коллектив на еще более активную работу.
Сразу же после совещания у директора П. М. Федоренко собрал в парткоме секретарей цеховых
парторганизаций и разъяснил им задачу. Руководители завода разошлись по основным подразделениям и
провели короткие митинги-совещания на стыке ночной и дневной смен. Довели до сведения всех
работающих смысл телеграммы-требования Верховного Главнокомандующего и тут же наметили
конкретные обязательства по росту выпуска самолетов, которые нужны «как воздух, как хлеб».
Следует сказать, что в технических и плановом отделах завода разработка плана развертывания
производства на новой площадке проводилась уже с ноября 1941 года. Телеграмма подхлестнула, ускорила эту работу.
Активное подключение цеховых коллективов, их конкретные обязательства по выпуску деталей, агрегатов, самолетов, которыми заканчивались цеховые собрания в тот памятный день, позволили [84]
руководству сформулировать также конкретный ответ заводского коллектива на жесткую претензию
Верховного.
В конце дня 24 декабря с завода ушла телеграмма следующего содержания:
«Москва. Кремль. Сталину.
Вашу справедливую оценку нашей плохой работы довели до всего коллектива. Во
исполнение Вашего телеграфного указания сообщаем, что завод достигнет в конце
декабря ежедневного выпуска трех машин. С 5 января – по четыре машины. С 19
января – по шесть машин. С 26 января – по семь машин. Основной причиной
отставания завода по развертыванию выпуска самолетов является размещение нас на
недостроенной части завода. В настоящее время недостроены корпус агрегатных
цехов, кузница, корпус заготовителъно-штамповочных цехов, компрессорная.
Отсутствуют тепло, воздух, кислород и достаточное количество жилья для рабочих.
Просим Вашей помощи по ускорению окончания строительства и ускорению
налаживания снабжения завода готовыми изделиями, материалами. Просим также
обязать соответствующие организации о мобилизации для нас недостающих рабочих и
об улучшении питания рабочих.
Коллектив завода обязуется позорное отставание немедленно ликвидировать».
Рассказывая о грозной, мобилизующей телеграмме Верховного Главнокомандующего, прослеживая
развитие этого эпизода на примере завода № 18, не следует забывать и о других коллективах, связанных с
«илами».
Областная партийная организация, ее первый секретарь В. Д. Никитин приняли эту телеграмму как
руководство к неуклонному действию. При содействии обкома на заводе № 24, на заводе авиационного
вооружения, на других предприятиях – участниках строительства Ил-2 телеграмма Верховного стала
центром внимания. Она мобилизовала людей, давала резкий, ускоряющий стимул всем действиям
коллективов.
Так же, как и на заводах, во всех подразделениях 1-й запасной авиационной бригады прошли
специальные партийные собрания, на которых командование разъясняло летному и техническому составу
остроту создавшегося положения, мобилизовывало людей на всемерную помощь авиазаводам по
развертыванию производства «илов».
Пятьдесят один штурмовой авиаполк из самолетов Ил-2 сформировала 1-я заб за 1941 год. И все эти
авиаполки успешно воевали, некоторые из них активно действовали при защите столицы. Именно
активные действия этих первых десятков штурмовых авиаполков продемонстрировали высокие боевые
качества [85] ильюшинских штурмовиков. Именно они показали высокую эффективность применения
этого рода оружия против механизированных армий врага, они заслужили столь высокую оценку:
«нужны как воздух, как хлеб».
Но все эти великолепные дела теперь, в декабре 41-го, были уже в прошлом, все это было сделано еще в
Воронеже, откуда на войну ушли 1134 «ила». А отсюда, с новой площадки, «илы» еще не начали улетать
на фронт – в этом Верховный справедливо обвинял всех причастных к их выпуску.
– Эта телеграмма подхлестнула всех нас – и заводчан, и военных, заставила быстрее и своими силами
решать возникавшие многочисленные проблемы, – вспоминает А. И. Подольский, бывший командир 1-й
заб, ныне генерал-полковник авиации. – Прежде всего нужно было всячески помогать заводам быстрее
наладить производство штурмовиков на новой площадке. И мы направили часть летного и весь
прибывший к нам технический состав будущих авиаполков на авиазаводы для работы там в различных
цехах. Это было и своевременно и довольно эффективно, так как эвакуация принесла заводам некоторые
потери в кадрах. По просьбе авиамоторного завода мы организовали систематические перевозки
стального литья с далеких сибирских заводов, используя имеющиеся у нас самолеты ТБ-3. Словом, задача у всех нас была одна – дать фронту больше грозных «илов»...
Огромные плакаты протянулись по корпусам, по цехам: «Ил-2 нужны Красной Армии как воздух, как
хлеб. Сталин». Эти слова понятны каждому. Они входили в сознание как неотразимое требование, обращенное к любому заводчанину, чем бы он ни занимался, какую бы работу ни выполнял.
Грозная предупреждающая телеграмма Верховного Главнокомандующего заставила не только
руководящий состав, но и буквально каждого работника пересмотреть свое отношение к выполнению
возложенных на него обязанностей. Каждый по-новому и очень остро почувствовал личную
ответственность за судьбу Родины. Это обостренное чувство ответственности заставило по-иному
относиться к трудностям – не прятаться за них, а находить силы и способы для преодоления помех, не
прося помощи. Коллективы начали работать подлинно по-фронтовому, отрешившись от нормативов и
методов работы мирного времени. Единственным нормативом – законом для всех, стало простое и
понятное требование: не выполнил дневного задания – не имеешь права покидать рабочее место! Это
заставило мастеров более четко определять дневные задания на участках. Это же заставило
администрацию и общественные организации создать активную и гибкую систему морального и
материального стимулирования работы. [86]
Четко действовали цеховые и заводские витрины Почета. Очень активно работали заводские
многотиражки на каждом заводе нового промрайона. Словом, все было нацелено на выполнение главной
задачи – дать фронту больше боевых машин.
29 декабря 1941 года в тринадцать часов с заводской площадки отошел первый железнодорожный эшелон
со штурмовиками Ил-2, изготовленными заводом № 18 на новом месте. Двадцать девять самолетов вез
этот эшелон – всю продукцию завода, выпущенную в декабре 41-го. Курс – Москва.