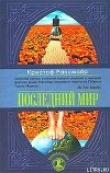Текст книги "Палачка"
Автор книги: Павел Когоут
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Пришло время положить этому конец. Она заметила, что во время разговора, нить которого она давно потеряла, он украдкой разглядывает ее колени и грудь, и решила, что он по меньшей мере четыре ночи провел без женщины. Мысль, которая созрела в ней под действием коньяка, вот-вот должна была вылиться в поступок – этого требовало не только либидо голодной самки, но и сердце благодарной матери. Кроме желания заполнить страшную пустоту внутри, она чувствовала моральную обязанность насытить своим телом изголодавшегося мужчину, чей интеллект впитывал в себя ее ребенок.
Но как завоевать такого мужчину? Шестнадцать лет – миг в истории человечества, но вечность в любовной жизни женщины. Она уже не могла предложить ему свою невинность, как Оскару и доктору Тахеци, не могла подарить ему ни славы, ни богатства. Ей тяжело было сознавать, что если другие женщины рядом с другими мужчинами за шестнадцать лет стали кинозвездами, профессорами, олимпийскими чемпионками, премьер-министрами и знаменитыми террористками, и даже ее дочь в шестнадцать лет станет первой в мире женщиной-палачом, то она по милости доктора Тахеци может предложить своему любовнику разве что «мраморный» торт. "Боже, – мысленно простонала она, – как же я потускнела, как низко пала! Я, Люция Александрова – уже одно имя напоминает о моем падении! – гордость семьи, украшение класса, звезда танцплощадок, сегодня ломаю голову над тем, как бы лечь под палача!.." Ее испугало, что она опустилась до уровня мышления своего мужа. Устыдившись этой мысли и желая загладить перед доцентом вину за оскорбление, пусть и не высказанное вслух, она внезапно поняла, что надо делать.
У Шимсы тем временем были свои причины для переживаний: даже самые буйные эротические фантазии не вызывали у него привычной реакции. Что случилось? – лихорадочно думал он. В этот момент пани Тахеци наклонилась, словно увидела что-то под ногами, и вдруг исчезла из виду. Слегка растерявшись, он умолк и подождал несколько секунд. Потом кашлянул. Она не отозвалась. Он нерешительно ее окликнул. Ответа не последовало. Тогда он приподнял край скатерти и заглянул под стол. Пани Тахеци с закрытыми глазами лежала на спине, согнув левую ногу, словно делала шаг, а правую руку положив за вырез халата, словно что-то там искала.
Как падают в обморок, Шимсе часто приходилось видеть, но лишь во время работы. Это был один из обычных трюков, которыми пользовались клиенты, едва он подходил к ним с «галстуком» – так Карличек по старинке называл петлю. Еще когда Шимса был зеленым юнцом, молившимся на каждого, у кого имелся диплом, он искренне удивлялся, что ни доктор наук, ни министр не могут выдумать чего-нибудь похитрее. Влк научил его лечить такие обмороки: достаточно полить клиента из шланга для удаления нечистот, а если это не поможет, влепить ему пару пощечин. Здесь не годилось ни то, ни другое. Растерявшись в первый момент, он хотел позвонить доктору Тахеци, но тут же отверг эту мысль: вряд ли доктор, пьяница и неврастеник, поверит, что Шимса беседовал с его женой об учебных делах. По ее наряду и поведению можно было заключить, что любовники захаживают сюда не так уж редко, и в планы Шимсы вовсе не входило расплачиваться за всех один на один со взбешенным мужем. Тогда он решил действовать на свой страх и риск. Подхватив пани Люцию под колени и под мышки, он благополучно перенес ее на диван, стоящий между окном и елкой. Шимса решил удостовериться, что она жива, осторожно вытащил ее руку из выреза и сунул туда свою. Услышав, что сердце бьется, он обрадовался. Мозг, поднапрягшись, выдал ему давно забытую информацию: выцветший медицинский плакат, на котором спасатель оказывает первую помощь утопающему. Шимса склонился над пани Люцией, прижался губами к ее губам и принялся возвращать ее к жизни.
Конечно, она все это время была в полном сознании. Инстинкт женщины подсказал ей, что раз она не может предложить любовнику богатство, славу и власть, то должна принести ему в дар хотя бы свою беспомощность, позволить спасти ее и обрести уверенность в своих силах. Она наблюдала за ним из-под опущенных ресниц, не сомневаясь, что он догадывается о ее притворстве, и восхищалась непринужденностью, с которой он вступил в любовную игру. Ее забавляло, как он нерешительно бегает между нею и телефоном, будто бы случайно кладет ее на диван и, делая вид, что измеряет пульс, дотрагивается до ее груди. Когда же он приник к ней в страстном поцелуе, она обняла его за шею и ответила столь же пылко.
Поначалу он испугался, но сразу же почувствовал облегчение. Теперь-то уж ясно, что делать. Пряный аромат волос распалил его. Чувство неуверенности улетучилось.
– Как… – выдохнула пани Тахеци, пока его пальцы, привыкшие раздевать упорно сопротивлявшихся клиентов, ловко расстегивали ее халат, – вас зовут?
– Павел, – прошептал он, умело освобождая ее от лифчика.
– Лучше – Поль. А меня называй… – проговорила она, отважно переходя на «ты», пока он стаскивал с нее колготки, – Люси!
Она произнесла богемное имя, которым когда-то распутный Оскар посвятил ее в любовницы. Это означало, что прозаичной пани Люции больше не существовало и тень замужества уже не маячила за ее спиной.
Теперь Шимса знал, что делать. Подбросив колготки к потолку, он одним движением расстегнул молнию спортивных брюк и жадно овладел ею – в это время легкая ткань на мгновение как бы застыв в верхней точке своего полета, развернулась во всю длину и стала медленно опускаться, словно сигнальная ракета фейерверка любви.
Доктор Тахеци не верил своим глазам. Место, которое шестнадцать лет принадлежало исключительно ему, занял чужой мужчина и при этом вел себя так, словно находился у себя дома. Услышав его, тот повернул голову.
– Привет, – сказал инженер Александр. – Удивлен?
– Привет, – сказал доктор Тахеци. – То есть добрый день, ну да, то есть нет…
Он лихорадочно соображал, с какой стати тесть впервые в жизни явился к нему в институт. Единственное логическое объяснение – что он принес "Etymologicum Gudianum" Штурца – казалось ему фантастически неправдоподобным.
– Я пришел, – сказал тесть, складывая газету с полуразгаданным кроссвордом и вновь раскрывая ее на другой стороне, – спросить тебя: как это понимать?
В центре полосы находился снимок, на котором была изображена пара фигуристов, достаточно отчетливый, чтобы доктор Тахеци узнал в девушке свою дочь, а в ее партнере Рихарда Машина.
– Это… – сказал он, – Лизинка…
– А это? – с нажимом спросил тесть.
Зять решил, что тот покажет на юношу и пожелает узнать, почему он позволяет дочери так рано заводить знакомства. Он собирался объяснить, что, в отличие от тех отцов, которые, подобно инженеру Александру, воспитывали своих детей на строгих запретах, он предпочитает взаимное доверие. Однако, к его удивлению, тесть ткнул пальцем в заголовок под фотографией, казалось не имевший к ней никакого отношения:
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ!
Тесть начал читать вслух, и в первый момент доктору Тахеци показалось, что тот сошел с ума. Автор заметки рассказывал о своем детстве, которое пришлось на годы социальной несправедливости, – он, сын пекаря, жил в такой нищете, что ему приходилось, отметил он со скорбной гордостью, играть с крысами. Потом он подробно осветил свое активное участие в революционной борьбе пекарей, породившей эпоху социальной справедливости и открывающей перед молодым поколением пекарей горизонты, о каких он не мог и мечтать. Перечислив достигнутые успехи в области пекарного дела, он под конец описал случай, который и побудил его взяться за перо.
И тут доктору Тахеци пришлось признать, что тесть не повредился в уме.
Подчеркнув, что каторжный труд в пекарне и классовая борьба не давали ему возможности посещать спортивные площадки, куда ходили лишь господские детки, ветеран революции рассказал, как на Рождество отправился на каюк с внучкой – его сын, председатель профсоюза пекарей, уже смог купить ей коньки. Там ему посчастливилось увидеть замечательное выступление двух фигуристов, которые, как выяснилось, учатся на пекарей. Он сфотографировал их своим фотоаппаратом – награда профсоюза пекарей – и посылает снимок в редакцию в качестве доказательства того, что его неустанная борьба была не напрасной: она стала залогом светлого будущего, где пекари не только выпекают хлеб, но и занимаются фигурным катанием, как раньше господские детки.
– Объясни мне, – ледяным тоном сказал инженер Александр, – почему ты заставил дочь моей дочери учиться этому плебейскому ремеслу.
Взгляд доктора Тахеци блуждал по корешкам томов, хранивших почти все тайны человеческой речи, но он знал, что они не помогут ему найти ответ. И все же на этот раз его ученый мозг, привыкший решать филологические формулы со многими неизвестными, не оставил его в беде. Найденный им выход был прост, как все гениальное. Сам того не ведая, он воспользовался приемом, с помощью которого дрессировщики спасаются от разъяренного хищника: решил натравить на него другого хищника. При этом он руководствовался не столько злорадством, сколько надеждой, что в схватке двух победит третий: он, а вместе с ним – гуманистические идеалы.
– Поехали к нам, – сказал доктор Тахеци, удивляясь собственной хитрости и смелости. – Люцинка обрадуется.
Он совсем уже было достиг вершины и задохнулся в предвкушении свободного падения, каждый раз освобождавшего его от смертельных уз, когда в мозгу раздался щелчок, словно кто-то повернул выключатель, и он не смог двигаться дальше.
– Ну давай же, давай! -
34.
выкрикнула Люси, приготовившись ступить на берег, куда последний раз сошла шестнадцать лет назад вместе с бесхарактерным Оскаром.
Но Шимса уже ничего не мог ей дать – он лишь таращил глаза на предмет, на который до сих пор не обращал внимания, хотя все это время тот маячил у него перед глазами. Под елкой лежала школьная сумка Лизинки, – по всей видимости, она зашвырнула ее туда на радостях в самом начале каникул. Теперь он понял, что его так беспокоило: подобно тому как грамм урана под супружеской постелью может стать причиной бесплодия их детей, подобно тому как литр лизергиновой кислоты в общественном водопроводе может вызвать галлюцинации у целого города, так из-за этого потертого и вместе с тем драгоценного куска кожи (не случайно в музеях великих людей часто демонстрируются даже их искусственные челюсти, а школьные сумки – никогда!) его отменно вымуштрованный и безупречно работающий организм потерпел физиологическое и моральное фиаско.
Его вдруг шокировало, что он бесстыдно проникает в то самое тело, из которого вышло на свет непорочное тело Лизинки. Если бы Шимса был так же образован, как Влк, он бы понял, что переживает современный вариант античного эдипова комплекса, хотя совокупился не со своей, а с чужой матерью. Но из древней истории он помнил лишь, как распинали Христа, и поэтому ему самому пришлось сделать открытие, которое легло на него тяжким крестом:
он любит Лизинку Тахеци.
– Еще! – крикнула пани Люция. – Кончай же!..
– Прошу прощения… – сказал Шимса, встал, застегнул молнию на ширинке и бесшумно, как привык подходить к "комнатам ожидания", вышел из гостиной и из квартиры.
Доктор Тахеци чуть не наткнулся на него, когда выходил из такси, – он специально взял машину, чтобы пустить тестю пыль в глаза. Лицо этого человека показалось ему знакомым, но все-таки доктор Тахеци не мог припомнить, где он видел этого спортивного мужчину – тот как раз садился в экстравагантный автомобиль. Доктор Тахеци щедро, так, чтобы тесть видел, дал таксисту на чай и открыл перед тестем двери в подъезд, квартиру и комнату.
Они вошли и увидели…
Услышав, как ее любовник застегивает молнию на ширинке и хлопает дверью, Люси решила, что ему захотелось в уборную. Она предполагала, что заодно он и разденется, чтобы их ничто больше не разделяло. "О свет моих очей, отринь одежды те, пусть нагота твоя к моей льнет наготе под пологом любви!" – в волнении шептала она строчки какого-то арабского стихотворения. Она не открывала глаз, боясь, как бы румянец при виде его наготы не выдал ее старомодность. Ей хотелось казаться развратной, чтобы он отбросил стеснение и помог ей быстрее наверстать упущенное. Когда ручка двери вновь повернулась, она задрожала от избытка чувств и близости блаженства.
– Поль… – томно позвала она.
Никто не отозвался. Открыв глаза, она решила, что это ей снится. Словно скульптурная группа, замершая по воле ваятеля на половине шага, на пороге комнаты стояли ее муж и ее отец в почти детском изумлении.
Возможности человека ярче всего проявляются в экстремальных ситуациях. Если за шестнадцать лет она пережила меньше, чем иная женщина за один день, то сейчас за одну секунду успела обдумать больше, чем многие женщины за шестнадцать лет. В то же мгновение исчезла богемная Люси, и на ее месте появилась приземленно-практичная пани Тахеци: лишь она могла сейчас спасти ее в глазах не только мужа, но и отца – тот, быть может, простил бы ей измену, запятнавшую репутацию Тахеци, но никогда не простил бы позора, покрывшего герб Александров. Мгновенно проанализировав ситуацию, она поняла, что, во-первых, доцент Шимса наделен инстинктом кошки, убегающей из дома перед землетрясением; во-вторых, он, исчезнув по-английски, чтобы ее не пугать, показал себя знатоком женской психологии; наконец, в-третьих, теперь очередь за ней – надо должным образом объяснить свое поведение, прежде чем они сообразят, что к чему.
– Поль?.. – переспросил доктор Тахеци, к счастью все еще завороженный алебастровой белизной любимого тела, которое он при дневном свете, собственно говоря, видел лишь тогда, на английском газоне.
– Люция?.. – сказал инженер Александр, который, к несчастью, быстро опомнился, поскольку прекрасно помнил этот алебастр еще с тех времен, когда отмывал его от какашек.
В ту же секунду она одним прыжком оказалась возле них, обняла отца левой, а мужа правой рукой и, прижимаясь к каждому грудью, разразилась рыданиями.
– Боль! О, какая боль! – восклицала она, словно умоляя о пощаде. – Не надо, пожалуйста, не надо!
Когда ей дали успокаивающее, напоили чаем и укутали пледом, она стала сбивчиво рассказывать, что у нее почему-то поднялся вдруг сильный жар, который перешел в кошмарный сон: ей снилось, что муж и отец острыми кинжалами колют ее в грудь.
Они успокаивали ее как могли, и предательское «Поль» как-то незаметно забылось. Наконец она пришла в себя настолько, что отец смог поведать ей о цели своего визита.
Строго глядя на них обоих, он назвал их решение катастрофическим, а тот факт, что они его скрыли, – вопиющим. Доктор Тахеци прикидывал, когда и как лучше поддержать тестя, и в первый раз за целый год отважился предположить: поскольку жена не имеет права разглашать будущую профессию Лизинки, теперь ей поневоле придется вместе с ними подыскивать дочери другое занятие.
В этот момент пани Люция заявила отцу, что раз уж муж впутал его в эту историю, то будь что будет – она наконец откроет ему все, о чем вынуждена была молчать. Она без утайки рассказала, что, когда звезда Лизинки вот-вот должна была закатиться, появился спасительный ПУПИК, куда ей, несмотря на сопротивление мужа – испугавшись поначалу, он был доволен, что она признала хотя бы это, – удалось устроить дочь. Без колебаний она описала учебную программу и перспективы дочери. В сжатом видели в изложении любящей матери все это звучало просто чудовищно, чему доктор Тахеци теперь был даже рад.
Инженер Александр слушал ее со все возрастающим вниманием. Его энергичный подбородок начал подрагивать, а властные глаза – нервно моргать; вид у него был такой, словно один из построенных им мостов обрушился. Когда она закончила, он, не говоря ни слова, удалился в ванную.
Доктор Тахеци подумал, что он совсем не такой простофиля, каким считала его жена. Но в минуту ее поражения ему не хотелось быть жестоким.
– Люция, милая, – сказал он миролюбиво, – тебе не стоит расстраиваться. До конца учебного года я сам с ней буду заниматься, а потом мы ей что-нибудь, – добавил он ободряюще, – подыщем.
Тесть вошел в комнату, вытирая руки носовым платком. Он снял легкие очки в тонкой металлической оправе, которыми пользовался во время работы, и вынул из футляра массивные золотые, которые надевал всякий раз, когда надо было принять важное решение.
– Я никогда, – сказал он, – не вмешивался в ваши дела, хотя порой это было необходимо, как воздух. Но сейчас случай исключительный, и потому я вынужден поддержать, – провозгласил инженер Александр со свойственной технарям прямотой, – свою дочь.
Доктор Тахеци открыл рот и застыл с отвисшей челюстью. Пани Тахеци подумала, что он куда больший простофиля, чем она полагала. Но в минуту его краха ей хотелось быть милосердной, и она ободряюще ему улыбнулась.
– Если бы я мог, – продолжал инженер Александр, – повернуть время вспять, я сейчас и ей сказал бы то же самое: молодой, красивой и умной девушке из хорошей семьи в сто раз лучше быть первой палачкой, чем последней, – добавил он с отвращением, – прислугой!
– Милый! – взмолилась пани Тахеци, вкладывая в эту мольбу всю свою любовь и страсть. – Не мучай меня, скажи хоть что-нибудь!
– Мадам, – сказал Шимса, нарушая затянувшееся молчание, – передайте, пожалуйста, дочери, чтобы она захватила зубную щетку. Мы вернемся, – добавил он внезапно, – в воскресенье.
Он положил трубку, выключил телефон и вновь улегся на диван. Жребий был брошен, но это не уменьшило возбуждения тела и тяжести на душе. Последнего он прежде никогда не испытывал и потому был полностью разбит, как человек, у которого впервые в жизни заболела голова. "Что со мной?" – недоумевал он.
Он поднял глаза на противоположную стену. Белая, без картин, она служила ему экраном, на котором он время от времени крутил фильмы своим брюнеткам. Сам он больше всего любил рисованные мультики про матроса Пепика и еще подборку фрагментов всех чемпионатов мира по хоккею; над первыми он хохотал до слез, во время вторых нередко терял голос, каждый раз до хрипоты подзадоривая своих любимцев. Теперь, когда в хаосе чувств он пытался нащупать ясную мысль, в мозгу щелкнуло какое-то таинственное реле, взгляд устремился вперед, и полукруг разведенных бедер с перпендикуляром восставшего фаллоса напомнили ему прицел и мушку пистолета, давным-давно занесенного снегом времени. Он вновь увидел, как молоденький Шимса, выпускник школы сержантов, в легкой гимнастерке трясется в кузове старого грузовика, гулко грохочущего по ледяному туннелю ночи. Утром того дня выпал снег и пало правительство; солдатам предстояло обеспечить нормальную работу предприятий, нарушенную забастовками. Взвод Шимсы, еще не видя цели, почуял, что приближается к ней. Усиливавшаяся вонь протухшего мяса и крови вывела их к бойне.
В убойном цехе к ним подошли люди в штатском. Поверх одежды на них были резиновые плащи разных оттенков; по тому, как они держались, стало ясно – это офицеры спецслужбы. Снаружи сюда доносился стук копыт и яростный рев: животных не кормили уже третий день. Человек в бежевом плаще поинтересовался, приходилось ли кому-нибудь забивать скот. Никто не откликнулся. Может, кто-нибудь хочет попробовать? – спросил он. Руку поднял лишь Шимса, не зная почему; каждый раз, когда государство обращалось к нему даже в стотысячной толпе, он всегда отвечал: "Здесь!" Его товарищей разделили на группы, которым предстояло сгонять сюда живые куски мяса и вывозить мертвые. Командовал человек в зеленом; теперь было ясно, что цвет плаща означает засекреченное звание. Кроме бежевого с Шимсой остался черный плащ, – видимо, задания он не получил.
– Ну? – нетерпеливо спросил бежевый. – Начали?
– Тут, – сказал Шимса, осматривая пистолет, – есть одна загвоздка.
– У нас времени нет на загвоздки! – строго произнес бежевый.
– То-то и оно, – сказал Шимса. – Эта игрушка только оглушает, так что нам еще придется им глотки перерезать. Может, одолжите мне свою пушку?
– Вы что, хотите в них стрелять? – удивленно спросил бежевый.
– Так нам будет сподручней, – ответил Шимса, – а им без разницы.
Бежевый плащ взглянул на черного, и Шимса понял, что тот был старшим. В холодных голубых глазах он уловил недоверие. Шимсу охватила мальчишеская злость – она помогала ему уже семнадцатый год бороться с судьбой сироты. Бежевый извлек из-под мышки тяжелую трофейную "девятку",[43]43
Имеется в виду пистолет калибра 9 мм. В чехословацкой армии на вооружении были пистолеты меньшего калибра
[Закрыть] и Шимса, схватив ее, выбежал на вымощенную каменными плитами площадку, куда вел деревянный коридор.
Топот первого животного просто оглушил его. Шимсе захотелось дать деру: казалось, из дощатого тоннеля выскочит бык и растопчет его вместе с этим игрушечным пистолетиком в лепешку. Но он вспомнил выражение холодных голубых глаз, и им овладел мальчишеский азарт, бросающий его сверстников в пекло корриды. Он расставил ноги, положил ствол «девятки» на правое предплечье (он был левша), выгнул спину, как кошка, чтобы глаз оказался на одном уровне с прицелом, и выдохнул.
Ему стало смешно, когда темное жерло коридора извергло обыкновенного теленка. Ослепленный светом, тот остановился, но гигантский жертвенник был так отшлифован за многие годы, что животное, не удержавшись на ногах, на собственном заду соскользнуло к Шимсе. Сквозь прорезь прицела он совсем близко увидел огромные глаза, а в них – почти человеческий ужас. Он не был неженкой и уже повидал смерть: умер от скарлатины сосед в детском доме, разорвало на куски замечательного преподавателя школы сержантов, коронным номером которого было выдернуть из гранаты чеку, помочиться и лишь тогда метнуть; и все-таки до сих пор ему не приходилось держать смерть в руке.
Шимса вздрогнул; он не отрываясь смотрел на кончик мушки, который был словно примагничен ко лбу теленка, к самой его середине, и понял: это вздрогнула его душа. Ему вдруг пришло в голову, что он находится здесь добровольно и так же добровольно может уйти. "Если у них нет мясника, пусть позовут, – пронеслось в его мозгу в порыве жалости, – палача…" Кто-то закашлялся. От этого звука он словно увидел все в другом свете. В телячьих глазах теперь была лишь тупая пустота. "Ведь это всего-навсего глупая скотина", – подумал он и спустил курок.
Выстрел почти оглушил его, неожиданно сильная отдача непривычного оружия подбросила кисть вверх, ствол дернулся в сторону, и пуля оторвала большое ухо – оно шлепнулось на каменную плиту, словно сырой шницель. Из того места, откуда оно отлетело, брызнула багровая струйка и забила в пол, как вода из водосточной трубы. Бычок был ошарашен не меньше стрелка. Он не пошевелился, лишь пустота в глазах стала еще глубже. Шимса выстрелил второй раз. На этот раз ствол повело вниз: пуля оторвала нижнюю челюсть. От боли животное поднялось на задние ноги. Оно хотело замычать, но из развороченного горла послышался лишь клекот. Теперь он видел перед собой разъяренную скотину, которая попытается по меньшей мере отомстить. В этот момент его душа словно выросла из коротких штанишек, и он ощутил дикую мужскую ненависть. Сука, мразь, тебе этого мало? Получай же, падаль!
Когда животное бросилось на него, рванулся и он – не боком, как тореро, а вперед, как бык; в руке с револьвером была такая сила, что переносица не выдержала. Он видел, как ствол входит в телячью голову, словно чудовищный термометр, и понимал: он и в самом деле будет растоптан, если не успеет сделать то единственное, что должен сделать. Он успел. Выстрела он почти не слышал, – зато зрелище было фантастическим. Уже по предыдущим выстрелам стало ясно – пули особенные, специальные; замкнутое пространство черепа только усилило разрушительный эффект. Будто в научно-популярном фильме, пущенном с замедленной скоростью, он увидел, как посередине лба, в трех пальцах выше того места, куда попала пуля, разверзается третье око – кратер, извергающий белую массу. Этот вулкан ослепил его, и он интуитивно понял, что умирающее животное окатило его фонтаном своего мозга.
Он услышал шаги, голоса, звуки команды, сопение, шорох кожи, которую волочат по полу, и шум воды. Не успел он рукавом стереть студенистую массу хотя бы с глаз, как мертвого теленка уже не было; товарищ по школе смывал водой из шланга остатки крови в желоба, а бригада уборщиков бегом везла тележку с тушей к морозильным камерам. Он облизнул губы; на языке остался омерзительный вкус сырого мозга, но он не сплюнул, а стиснул зубы. Выдержать! – приказал он себе с внезапно проявившимся мужским упрямством. Цех вновь огласился топотом.
На второго теленка ему понадобилось два выстрела – после первого тот лишь упал на бок и забил копытами. Он стал целиться в сердце, но передумал и прицелился в голову. Он только приставил ствол к переносице, но извержение все равно повторилось. Он, быстро смахнул с лица серое желе: по проходу уже вбегало третье животное. Подождав, пока оно соскользнет к нему, он сделал выпад, как фехтовальщик, и, когда дуло уперлось в лоб, спустил курок. Теленок обмяк. Он стер новый слой скользкой массы, перепрыгнул через труп и рывком освободил заслонку. Она загремела: это четвертый теленок натолкнулся на преграду. Уборщики уже очистили площадку, но Шимса не двигался с места.
– В чем дело? – пролаял бежевый плащ.
В душе Шимсы расцветала улыбка. Она не изменила огрубевшего лица сироты и солдата, но зато пробила скважину новой лексики, которая с этой минуты стала для Шимсы привычной.
– У меня кончилось зерно, – пошутил он.
Бежевый вытащил запасную обойму. Когда он замахнулся, чтобы бросить ее Шимсе, на его руку легла ладонь шефа: он дал в придачу и свою обойму.
Воодушевленный, Шимса перезарядил пистолет и продолжил работу. Во "второй серии" он решил прежде всего прекратить эти тошнотворные фонтаны из мозгов. Он поднял заслонку и встал рядом с ней. Когда теленок вышел – на сей раз без разбега, а потому нерешительно, – он выстрелил ему в ухо. Пуля пробила навылет мягкие ткани и щелкнула где-то о бетон. Она, должно быть, повредила вестибулярный аппарат, и животное, тряся головой и жалобно мыча, стало все быстрее и быстрее бегать по кругу, как на цирковом манеже. Шимсе пришлось порядком поскакать из стороны в сторону, как бандерильеро, прежде чем ему удалось приставить револьвер к затылку теленка. На сей раз он выяснил, что пулевое отверстие в затылке напоминает бордовую пуговицу; сама же пуля остается в черепной коробке, за частоколом зубов.
Теперь он понял что к чему и распорядился, чтобы телят выпускали одного за другим. Он отшлифовывал технику: вжавшись в боковину ворот, в нужный момент подскакивал к затылку очередной жертвы и стрелял. Четыре раза это получилось великолепно. Он вставил третью обойму и приказал выпустить сразу шесть голов.
– Дадим им шанс! – весело крикнул он. Теперь в холодных голубых глазах светился нескрываемый интерес. Ему захотелось, чтобы в них появилось восхищение. Двадцать четыре копыта ударили по барабанным перепонкам с такой силой, что ассистенты заткнули уши. Он топота не слышал. Опершись правым плечом о притолоку тоннеля, он держал левую руку с «девяткой» на уровне глаз. Шимса и в мыслях не допускал осечки. Восемь смертей – двенадцать выстрелов. Вот так, полагаясь лишь на себя, он вырабатывал собственный стиль… В нем произошла удивительная метаморфоза: теперь он уже не человек с пистолетом, а человек-пистолет.
Бежавший впереди теленок, обезумев от топота и мычания других животных, пустился галопом и пролетел мимо Шимсы, – казалось, выстрел запоздал. Увидев, как на затылке вспыхнул багровый сигнал, он уже знал, что дальше по плитам скользит всего лишь мертвый кусок мяса. Но он уже сделал следующий выстрел, и второй теленок без признаков жизни уткнулся в труп предыдущего. Третья туша налетела на них с такой силой, что первая, как мешок, свалилась с плиты на пол цеха. Три оставшихся теленка аккуратно улеглись в ряд. Груда мяса и кожи не шевелилась.
Холодные голубые глаза потеплели: в них светилось признание. И Шимса, которого до этого момента с людьми связывала лишь субординация, внезапно почувствовал к человеку в черном плаще необъяснимую симпатию. Жаль, подумал он, что мы расстаемся. Может, у меня появился бы… Он одернул себя: его домом было все государство, и лишь неблагодарный мог желать большего… Потом он опять стрелял и стрелял, а под утро чуть не закоченел в кузове грузовика.
Не успел он повалиться на койку, как его подняли на медосмотр. Такова жизнь кадрового военного: либо он дрючит, либо его дрючат; он даже не заикнулся, что недавно свалил две сотни голов, не может шевельнуть левой рукой и почти оглох на левое ухо. За воротами ждал джип с брезентовой крышей. Шофер жестом показал, чтобы он садился сзади. Едва Шимса, засыпая на ходу, плюхнулся туда, дверца захлопнулась с лязганьем танкового люка, и он очутился в темноте. Пока автомобиль набирал скорость, он ощупал предметы вокруг себя и понял: брезентом замаскирован бронированный фургон для перевозки заключенных – он догадался об этом по колодкам для ног, рук и шеи. Однако страха он не испытывал. Инстинктом одиночки, с раннего детства рассчитывающего только на свои силы, он за сотню верст чуял опасность. У него появилось чувство, что эта поездка – скорее выражение благосклонности. Время было неспокойное, но, даже призвав на помощь всю свою фантазию, он не представлял, кому мог помешать молокосос из школы сержантов, который трахнул нескольких девочек и шлепнул нескольких бычков. Он зевнул, отыскал между железными кольцами свободное место и уснул.
Его разбудила пощечина, но это был всего лишь шофер, испугавшийся, что парень дорогой задохнулся. Он вылез, сделал несколько приседаний, чтобы прийти в себя, и огляделся. Джип стоял под балконом какого-то замка с белыми следами на фасаде от снятой вывески ОТЕЛЬ «ДИАНА»; от здания спускалась лужайка к берегу озера, где чернел круг старого кострища, выложенного обожженными камнями (он ни разу не признался в этом даже Влку, но когда позже узнал, какой объект выделили исполнителям для отдыха, всегда увиливал от поездок сюда).
В оленьем зале – на столиках, сделанных из рогов, стояли полевые телефоны – его ждали трое с бойни, правда, теперь они были в отлично сшитых костюмах. Хозяин черного плаща, назвавшийся полковником Артуром, представил бежевого как майора Богдана, а зеленого – как капитана Владислава. Шимса решил, что это клички, а начальные буквы означают иерархию. Потом командир ввел его в курс дела.
То, что революция победила, начал полковник Артур, не вызывает сомнений. Но это не значит, что реакция побеждена. Революционеры, которым раньше нечего было терять, теперь могут расслабиться и потеряют бдительность, тогда как реакционеры начнут активизировать свою деятельность, поскольку теперь терять нечего уже им. Революция – здесь, реакция – там, но между ними нет четкой границы. В то время как реакционеры, потерявшие то, что имели, могут внедриться в ряды революционеров, революционеры, не достигшие всего, к чему стремились, могут скатиться в ряды реакционеров. Революция стоит на опасном перекрестке, и в такой момент нельзя доверять никому.