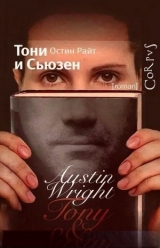
Текст книги "Тони и Сьюзен"
Автор книги: Остин Райт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
м она начинала читать. Тогда она боялась войти в мир романа и забыть действительность. Теперь, покидая его, она боится, что не сможет вернуться. Книга паутиной оплетает место, где она сидит. Чтобы выйти, ей нужно ее продырявить. Паутина повредится, дыра разойдется, и когда она вернется, паутины уже не будет.
Она оставляет книгу. Из гостиной – на кухню. Холодильник, свет, наверх по лестнице, и Тони устраивается на покой на своих страницах. Она вспоминает, – как будто прошло много времени, столетия, неясный ужас по поводу отсутствия Арнольда, но теперь он кажется далеким, как сам Арнольд. Она думает об Эдварде. Оживают детские дела. Когда мы сидели вдвоем на крыльце, глядя через реку на Палисейдс, дети помладше играли в прятки, и мы разговаривали на важные темы, как брат с сестрой. Что потом?
Он уехал учиться. И встретил ее снова через несколько лет в аспирантуре. Ну, детская любовь, возгласила, ничего не понимая, ее мать.
Так что же пошло не так, все время спрашивала ее мать, не спрашивая. Арнольд появился, и все? Но с Эдвардом наверняка что-то было не так, ведь никто не поверит, что Сьюзен Морроу попросту поменяла его на более авантажный экземпляр. Какое злое дело сделал Эдвард?
Официально заверенное объяснение. Оно гласит: не так с Эдвардом всегда было только одно. Его характер. Все обиды быльем поросли, но его характер никуда не делся. По-настоящему его знали лишь самые близкие, потому что снаружи он был хоть куда: ответственный, внимательный, надежный. Застенчивый. Скромный. Приятный. Надо быть с ним день и ночь. Вот тогда от него полезешь на стенку.
Эдвард был привередливый. Он был капризный. Он был придирчивый чистоплюй. Он поджимал губы. Он притопывал ногой. Он говорил регулировщику: что вас смутило, офицер? Он отказывался смотреть поздно вечером телевизор. Им было по пятнадцать лет, лодка, на берегу – большой мэнский дом, они прохлаждались, никуда не правили, и он попросил ее не волочь рукой по воде. Никто не греб, и он все равно попросил ее не волочь рукой. Он был таким с самого начала и, вероятно, таким родился. Правда, Стефани?
Она жалеет, что об этом подумала. Она не хотела думать про поджатые губы Эдварда, когда пытается по достоинству оценить его книгу.
Интерлюдия первая
1
Каждый вечер, прежде чем сойти вниз, в свое сознание, Сьюзен Морроу совершает обряды. Выгул собаки, кис-кис, запереть двери. Трое детей под охраной оставленного на ночь светильника у лестницы. Зубы и волосы, ночник, иногда секс. Откатиться от Арнольда вправо, взбить подушку, ждать.
Эта ночь – другая, потому что Арнольда нет. Свобода, возможность для какой-нибудь блажи. Она гасит блажной порыв и превращает эту ночь в обычную ночь, только вместо того, чтобы повернуться вправо спиной к Арнольду, она раскидывается влево, наслаждаясь безмужним состоянием в безмужнем пространстве. Ей приходит ужасная мысль об Арнольде в Нью-Йорке, но она гасит и ее.
Потом, как каждую ночь, она дожидается своих мыслей, шумящих где-то внизу, в люке. Она кладет голову на подушку и ждет. Ее отвлекают телесные звуки, в ушах меняется сердечный ритм. Дыхание не дает ей забыться. Временами кишечная лаборатория зарабатывается допоздна, приготовляя груз, который нарушит ее сон. Дневные разговоры размывают оболочку ее сознания, как волны в бурю. Время задраиться, упаковать планы и доводы. Она откладывает «Ночных животных» до утра.
Ураган, которого она ждет, приходит, когда слова в ее голове начинают разговаривать сами. Они доносятся из люка – люди беседуют без нее. Ее рассудок уже внизу, она слышит голоса в комнатах с тонкими стенками. Это пугающая минута, потому что она не знает, что ей грозит. Ее рассудок вздымается и утягивает ее вниз, а потом разрастается в целый мир, и хотя эта страна ей знакома, она в ней гость. Каждую ночь она возвращается туда, в те места, где уже бывала, и встречает людей, переменившихся с ее прошлого посещения. Она досадует на свою ущербную память, понимая, что то, чего она не может вспомнить, важнее того, что может. Полученные ею приказы – в запечатанном конверте, который она потеряла, она бродит, босая, с цепенеющими ногами, теряет опору и уплывает вверх, или взбирается на гору к своему классу, а уже прошло пол-урока, или видит своего умершего доброго отца и спрашивает, не жалеет ли он, что умер, или позволяет какому-нибудь тихому студенту сидеть на парте, приближая руку к ее паху, которого он никогда не коснется, – и все пытается не попасть туда, где ее должны казнить.
Белое утро ударяет по ней мгновением полной пустоты. Ее выталкивает в порожний день. Когда она узнаёт голубые цветастые занавески на окне и тонко присыпанные снегом кленовые ветки, люк уже захлопнут. Если она удержала обрывок сна, то, чтобы он не растаял, ей нужно хронологически его разметить и облечь в слова. Но хронология и слова для него смертельны. История, которая останется, не будет сном, сон останется непойманным, вместе с другими снами в люке, из которых весь беспамятный день будет слагаться единый огромный цельный сон, равный всей ее жизни, – он продолжится, когда она в следующий раз спустится вниз.
В пустом прохладном утреннем свете бессонная Сьюзен Морроу, поначалу не помнившая даже своего имени, потихоньку отстраивает новый день. Вторник. Восемь. Арнольда нет, конгресс в Нью-Йорке. Проснись навстречу этому, разом, жизнь срабатывает как будильник. Укол воспоминания об успокоительном звонке Арнольда накануне вечером и о том, что он на самом деле означает. Он означает, что в Нью-Йорке Мэрилин Линвуд, секретарша, или крутит, или не крутит с ним роман. Не иначе как запись ведет в его номере. Мэрилин Линвуд ждет пробуждения Сьюзен: чопорная молодая женщина тридцати с лишним лет, хороший работник, опрятный твидовый костюм, очки, заколотые сзади волосы, бдительное личико. Скрытная; превосходная телефонная барышня. Кое-что из скрываемого ею стало явным во время пикника для сотрудников: желтое бикини, распущенные бронзовые волосы, белые бедра, самую малость худоватые. «Кто это? – спросил доктор Гэспар. Покровительственно. – Неужели наша мисс Линвуд?»
Все изменилось, когда Сьюзен бросила ревновать. Она снова просыпается, припоминая. Свобода, обретенная в решении не думать, принимать неизвестность во имя мира в семье и не интересоваться, есть ли на самом деле что-то, что ей нужно принимать или не принимать. Ради прочного брака, после шестнадцати лет сомнений – крепкого и надежного.
Вернись к наступившему дню, вставай-ка, Сьюзен. Дети пусть спят, потому что сейчас рождественские каникулы. Что я сегодня должна сделать? Ты должна постирать, Джефри – к ветеринару. Сгрести снег? Выгляни в окно, посмотри. Встав в ночной рубашке с кровати, посмотреть на снег (всего лишь пороша, которая скоро сойдет), Сьюзен Морроу уже цела-целехонька. Новый день зашивает ночную рану, словно ее сознательная жизнь и не нарушалась.
Весь день она делает намеченные дела и другие дела. Она принимает душ, одевается, будит детей, готовит завтрак, едет к Берриджам забрать Рози. Относит недельную стирку в машину в подвале, застилает кровати, идет в магазин за маргарином, мясом на ланч и молоком. Ланч для троих детей и для нее. В библиотеку – сдать книги, потом наводит порядок в гостиной, относит наверх подарки Рози, а также – Генри и Дороти, которые должны были сделать это сами. Перерыв на пианино, фантазии Баха. Снова в подвал – загрузить новую порцию стирки. Окорок в духовку, включить посудомоечную машину, накрыть на стол. Ее дневной рассудок, ничего не знающий о другом ее рассудке, занят тем, чего рядом нет, – но он знает, где это: Рози наверху с Кэрол, Дороти на улице, Генри с Майком, Арнольд в Нью-Йорке.
И Эдвард. Перемычка между ее прошлым и теперешними мыслями. Весь день она теряется в догадках – почему я думаю об Эдварде? Отголоски воспоминаний о нем долетают из забытья, как будто эти воспоминания – сон, они мелькают, как скачут по деревьям птицы. Они слишком быстро налетают, слишком скоро упархивают. Чтобы они остались, она должна разметить их, как размечает свои сны. Для них это тоже смертельно. Ее мертвые воспоминания об Эдварде были помещены в сброшюрованные тома много лет назад, а новый, живой Эдвард парит на свободе и не дает себя поймать.
2
Когда Эдварду и Сьюзен было по пятнадцать лет, его отец умер от сердечного приступа, и ее отец с матерью взяли его на год к себе. Его мать содержалась в лечебнице, а мачехе, которая только что развелась с его отцом, до сына никакого дела не было. У него были родственники в Огайо, взявшие его потом к себе, но сначала его взяли ее родители – чтобы ему не уходить из школы в Гастингсе. Были переговоры, междугородние звонки и возмещение затрат, но она всегда считала, что ее родители поступили очень благородно.
Строго говоря, причины брать его к себе у них не было. Они были соседи. Отец Эдварда ездил поездом на работу в Нью-Йорк вместе с ее отцом. Временами он приходил обедать. Это был добродушный, занятный, приветливый человек, игравший для своего удовольствия на скрипке.
Они жили на Эдгарс-лейн, улице с удобными пригородными домами под деревьями, дом Эдварда стоял в начале извилистого ступенчатого пролета, внизу улица ныряла под нависавшие ветви. Улица была историческая – во время Войны за независимость состоялась битва при Эдгарс-лейн.
Она, можно сказать, не знала его до смерти его отца, а если знала, то не помнила. Они ходили в школу по Акведуку, травянистой дороге за домами, отделенной от них оградой и широкой полосой травы. Везде, где земля опадала, были насыпи, чтобы Акведук шел ровно, и там, где он пересекал улицы, люди должны были проходить через деревянные ворота, оставшиеся с давних времен.
Его отец умер солнечным майским днем. В первой его половине Сьюзен шла по Акведуку с Мэрджори Грейбл, – с обеих сторон некошеная трава, дорожка еще сырая, но не слякотная. Эдвард шел в сотне ярдов впереди, при рюкзаке и праздный, жуя акведуковые травинки. Младшие сестра и брат Сьюзен шли позади, сторонясь ее. Тогда Эдвард был худой паренек со светлыми волосами, тонкой шеей и прищуром, похожий на цаплю и слишком застенчивый, чтобы нравиться, – впрочем, Сьюзен не понимала, что это застенчивость, и думала, что это врожденная зрелость, на фоне которой она просто дитя. Они прошли под деревьями Эдгарс-лейн. Эдвард поднялся по ступенькам к своему дому. Мэрджори повернула на углу налево, а Сьюзен пошла домой с Полом и Кенни, так и державшимися позади.
Через несколько минут он был у двери ее дома, его губы шевелились, выговаривая: позови маму. Потом она бежала за мамой и Эдвардом по улице, даже мама бежала. Они вбежали по ступенькам возле каменного сада к фахверковому дому, мама остановилась отдышаться, Сьюзен нагнала и спросила, что случилось. Она осталась, а мама с Эдвардом зашли. Испуганная, потому что никогда не видела покойников, она ждала у двери на каменном парапете с анютиными глазками в ящичке и видом на улицу внизу. Скоро появились люди, они проходили мимо нее в дом. Толстый мужчина, пыхтя на ступеньках, спросил: сюда? Вышла мама и сказала ей идти домой. Уйдя домой, она не увидела, как выносили на носилках накрытое тело, и только потом пожалела, что не видела этого.
Тем вечером Эдвард пришел к ним ужинать, она вспоминает вопросы. Ты знаешь адрес своей мачехи? Бабушек и дедушек нет? Дядей и теток нет? Ты знаешь что-нибудь про папины денежные дела?
Они поселили его в комнату наверху, откуда у него был вид поверх крыш на Палисейдс за рекой и на кусочек самой реки между деревьев, где иногда летом, если повезет, можно увидеть проплывающие катера.
Никто не думал не гадал, что у Эдварда и Сьюзен что-то начнется. Он сказал: давай договоримся. Ты не хочешь, чтобы я жил в твоем доме, и я сам не хочу здесь быть, но ничего не поделаешь и говорить тут не о чем. Не суйся ко мне в комнату, а я не буду соваться к тебе.
Он сказал: чтобы потом не было недоразумений – то, что я мужчина, а ты женщина, ничего не значит, согласна? Ты не ждешь, что я буду звать тебя на свидания, а я ничего не жду от тебя. Просто так вышло, что мы квартируем в одном доме.
Менее великодушная, чем ее родители, она не хотела, чтобы он там жил, поскольку его присутствие нарушало семейную приватность. Когда он сказал это впервые, она обрадовалась, решив, что расставлены точки над i. Потом, когда он это повторил, она раздражилась. Когда он повторил это в энный раз, она по-настоящему разозлилась, но к тому времени ее злило в нем все, и она понимала, что судит предвзято.
Он прожил у них год. Когда никто не пригласил ее на весенний бал, он любезно сходил с нею. Они вместе готовили уроки и хорошо учились. Летом он ездил с ними в Мэн. Бывали мирные минуты, которые она едва замечала. Он ни разу не обмолвился о том, что хочет стать писателем.
3
С того года Сьюзен не видела Эдварда до Чикаго. Восемь лет. Она поступила в аспирантуру. Он уже учился там, изучал юриспруденцию. Мать велела Сьюзен его поискать, но ей не хотелось.
Ей было одиноко и тоскливо в университете, куда она прибыла без друзей и где никого не знала. Дома она оставила кавалера по имени Джейк, который обиделся на ее отъезд и твердо пообещал не хранить ей верность. Она жила в женском общежитии и занималась в массивном готическом здании с толстыми стенами, узкими освинцованными окнами и похожим на дренажную трубу сводчатым вестибюлем, по которому гулял ветер. В каменных залах она вслушивалась в голос архитектуры, в шепот преподавателей, не говоривших громко, в настороженность однокашников, державшихся на расстоянии. Она разумно пыталась отделить обычную осеннюю тоску (серые здания, чуть светлеющие в листопад) от своей собственной тоски (по Джейку, или по детству, или по вольной Сьюзен) и все это – от монастырской тоски интеллектуальных штудий в окружении неспокойных кварталов, слывших опасными.
Где-то в этом деловитом монастыре был Эдвард. Ее неприязнь к нему давно забылась в ностальгии, но она его не искала. Он сам ее нашел, случайно. Она шла по 57-й улице в книжный и услышала сзади: «Сьюзен, подожди!» Как он был хорош, изменившийся, статный, высокий и обворожительный Эдвард, протянувший ей руку: «Я так и знал, что ты здесь». Нарядный, пальто и галстук, очки сверкают, он взял ее под локоть и увлек в «Стейнвей». «Пойдем выпьем колы».
Двое бывших детей, встретившихся после детства. Главная их забота – показать, что они уже не дети, отсюда – дружелюбие и корректность, сверхвежливость. Расспросы о матери и отце, брате и сестре. Демонстрация – как бы невзначай – своего продвинутого ума и настойчивая пропаганда своего жизненного выбора. Никаких напоминаний о том, как все было ужасно. Он занимается юриспруденцией, она – английской словесностью. Он живет в квартире, она – в общежитии. Его благодарность: я никогда не забываю доброты твоих родителей.
Он показал ей где что, они встретились перекусить в Общей столовой, ревизовали прочие местные заведения: в «Айда-Нойес-Холле», в Международном корпусе. Он указал ей букинистические магазины, сводил в Институт востоковедения и Музей науки и промышленности. Научил ее добираться до центра по железной дороге и познакомил с Институтом искусств и Аквариумом Шедда.
Она была поражена переменой в нем: он то ли покрыл себя каким-то новым защитным слоем, то ли сбросил прежний. Он так и сказал: я больше не тот гнус. Он был учтив, вежлив, галантен. Тогда галантность еще не успела выйти из употребления, а у него она была столь неукоснительной, что действовала ей на нервы: хождение по краю тротуара, открывание дверей, отодвигание стульев – старо, избито. Но она находила это чудесным. Спишем на былую неприязнь. У нее остались такие воспоминания о том, как он вел себя раньше, что, когда грубость сменилась благовоспитанностью, благовоспитанность показалась сказкой.
Самая интересная перемена выразилась в том, что теперь он всему изумлялся. Небо и земля по сравнению с тем, что было в пятнадцать лет, когда он знал все и с откровенной скукой взирал на любые чудеса и ужасы. Ныне же для него все было чудо или ужас. Он поражался городу, университету, движению, синеве озера, дымке сталелитейных заводов, опасностям трущоб, мудрости и знаниям преподавателей, сложности юриспруденции, красотам литературы. Некоторое время это ее озадачивало, потому что переворачивало с ног на голову естественный порядок вещей, сообразно которому наивное удивление предшествует пресыщенной скуке. Ясно, что в пятнадцать лет он предпочитал скрывать свое изумление, считая, что благодаря этому выглядит взрослее. Теперь же, в двадцать три, он, напротив, принял для себя установку при случае удивляться сильнее, чем на самом деле. В целом ей это нравилось, хотя потом тоже обрыдло – когда она поняла, насколько это отработанно.
Держался он безукоризненно, но ей вскоре открылось, что ему нанесено тяжкое увечье: ему разбили сердце. Он был помолвлен с девушкой по имени Мария, которая дала ему отставку и вышла за другого. Дала отставку: хорошее старомодное выражение. Он не производил впечатления человека с разбитым сердцем. Он производил впечатление человека, полного сил и чаяний. Разбитое сердце – это тайное ощущение, которое она могла разделить. Ей пришло в голову, что ее сердце тоже разбито – из-за Джейка, который мстил ей за выбор профессии планами путешествий по миру и съема девушек. Они с Эдвардом могли вместе переживать сердечную разбитость. Так у них было о чем поговорить, и так они были защищены друг от друга – брат с сестрой: нечего беспокоиться о сердцах, раз они разбиты.
Этот коварный расклад – целомудренный, платонический – и привел к тому, что Эдвард соблазнил Сьюзен, а может, Сьюзен соблазнила Эдварда; так или иначе, в итоге случился брак, без которого не было бы и развода. Если у тебя разбито сердце, значит у тебя есть некая история, и эти истории их сблизили – они пересказывали их друг другу, повторяясь и расширяя, Эдвард больше, чем Сьюзен, так как ей особо нечего было сказать про Скверного Джейка. Он говорил, а она слушала, выспрашивая и советуя, и оба хорошо понимали, что значение тут имеет не история о Марии, но рассказывание и слушание. Это длилось до зимы и зимой. Она готовила ему обеды в его квартире, это было по-сестрински, и они разговаривали о его ранах до трех ночи. Помолвка. Ветреная девушка, слишком юная для оседлой жизни. Он соглашался со всем, что Сьюзен говорила.
Оглядываясь из всезнающего настоящего, Сьюзен видит, что Эдвардово разбитое сердце было лишь тогдашним проявлением обычного для него состояния, которое он неизменно ей демонстрировал. Якобы он – издавна, навечно – уязвлен жизнью и изо дня в день мужественно превозмогает себя. С какой стати он уязвлен больше всех остальных, она тогда не думала. Хватало обстоятельств, ввиду которых это звучало веско. Смерть отца. Утрата дома – и никого, кто бы о нем позаботился, кроме ее отца и матери. «Отставка» была очень к месту.
Она подметила в его истории лакуну – тему секса, от которой он уклонялся под предлогом ее неважности, пока уклонение не сделало ее важной. Она спросила напрямик:
– Эдвард, у вас был секс?
Вопрос его потряс, но он не утаил: у них с Марией не было секса, потому что у него ни с кем не было секса. Двадцатитрехлетний покровительственно-самоуверенный Эдвард, сняв пиджак и галстук, сознался в столь странной неискушенности. Вообще-то тогда она казалась не такой странной, как показалась бы через двадцать пять лет, после всех революций. (Слово «секс» тогда тоже не говорили. Говорили «заниматься любовью» или «спать», безотносительно к сну как таковому – и спросила она так: ты с ней спал?)
В случае Эдварда были возможны несколько объяснений. Учтивость и уважительность, отменная старосветская чувствительная генетика из девятнадцатого века. А может, он был просто ребенком, рядящимся в джентльмена и боящимся взрослеть. Или имелись какие-то колебания внутреннего компаса, из области того, что на позднейшем жаргоне назовут Сексуальной Ориентацией.
Девственность Эдварда возбудила в ней любопытство и разговорила ее. Если у него не осталось секретов, то и она не имела права хранить свои. Ее понесло. Он снова был потрясен, захандрил так, словно она была героиней романа девятнадцатого века, и уныние, с которым он сказал: мне надо будет с этим свыкнуться, – ее взбесило. Вернее, оно бесит вспоминающую Сьюзен, которая не может вспомнить, взбесилась ли она тогда. Ею в то время владела идея, пусть и не тянувшая на крестовый поход, но достаточная, чтобы ею руководствоваться: Секс – это Естественно. Может быть – вследствие ее боев с Джейком. А в Эдварде она видела убежденность в обратном, Секс – это Неестественно. «Секс – это Естественно» – таков был ее дофеминистический феминизм, поэтому ей претили большие груди, пиво и сигареты в порноупаковках, двойные стандарты для мужчин и женщин, уравнивание романтики с похотью и представление Джейка о различии между женщинами хорошими (брюнетками и шатенками) и плохими (блондинками). (Применительно к Сьюзен верования Джейка означали следующее: с одной стороны, возвышенная любовь требовала, чтобы она ему уступила, а с другой – эта уступка опорочила ее, освободив его от обязательств.) Для Эдварда же вера в то, что Секс – это Неестественно, естественным образом проистекала из его изумления перед всем на свете (все было неестественно). Он не мог поверить, что всамделишные люди делают то, о чем пишут, а его воображение приукрашивает.
Она решила просветить Эдварда. Ей взбрело это на ум одним промозглым днем на ступенях музея. Не думая, она сказала:
– Эдвард, объяснил бы тебе кто, откуда дети берутся.
– Я знаю, откуда дети берутся.
Эта затея засела у нее в голове и возымела серьезные последствия, так как в результате – знай она, что результат будет таким, точно бы удержалась, – Эдвард на ней женился. Тогда она думала, что это будет поучительно и полезно для них обоих. Секс – это Естественно, Эдвард. Это ничего не значит. Он даже у нас с тобою может быть, и никому больше знать не надо. Стояла ранняя весна, кампус был мокрый, молоденькие ветки искрились дождевым осадком, и серые здания под бледным небом казались свежевымытыми. Я могу проскользнуть к тебе в квартиру, и никто не увидит, а когда я вернусь в общежитие, ни мои мама с папой, ни Джейк с Марией, ни твои преподаватели ничего не узнают.
Какая безумная затея. То, наверное, была другая Сьюзен, потому что настоящая Сьюзен помнит, что эти мысли ее коробили. Она помнит, как пыталась проанализировать и тем самым развеять очарование нового Эдварда, в котором благоприобретенный ребяческий пыл соединился с врожденной пресыщенной чопорностью. Помнит, как пыталась убить презрением нехорошее любопытство: интересно, каков будет этот правильный и осторожный Эдвард во власти скрытой в нем неукротимой и неуправляемой стихии.
В кратком содержании воспоминаний Сьюзен говорится, что она, решив соблазнить Эдварда, взяла и сделала это. В полном тексте говорится иное. Она посылала ему намеки, совершенно не понимая, на что намекает. Были порывы нежности. Поглаживания и пошлепывания на улице под дождем. Кокетливые штучки. Она ткнула его в грудь, когда он выходил из библиотеки.
В «Университетской таверне» подошла к нему сзади и закрыла ему глаза руками. За обедом в Общей столовой, после тяжелого дня и трудового вечера накануне – надо было писать работу, – когда они молча ели, ее взгляд остановился на его легких растрепанных волосах, на его невидящих усталых глазах, и она почувствовала удивительную прежнюю теплоту к этому странному юноше, странно ей дорогому, о котором ей хотелось заботиться. Она не знала, что хочет его соблазнить.
Был он расположен или нет? Она думала, что всего лишь высматривает в нем знаки – привлекает она его или отталкивает. Они пили пиво в «Университетской таверне», и она сказала: Эдвард, давай я поживу у тебя. Он рассмеялся, обратив это в шутку и так отказав, и она тоже рассмеялась, думая, что в шутку и предложила.
Она заводила разговоры о цензуре и порнографии, психоанализе и трех стадиях развития – оральной, анальной и генитальной. Она рассуждала о гомосексуальности у Платона и обнаженных атлетах на Олимпийских играх. Она показала ему свой недописанный разбор «Застенчивой возлюбленной»[1]. Пока он читал, она выдала: я все забываю, что ты девственник, и он покраснел и поперхнулся.
Она не задумывала ничего далеко идущего, она думала, что просто пытается стрясти с него самодовольство. Теплым весенним днем они отправились в заповедник на поиски перелетных птиц. Хорошо ностальгически поговорили о семейной жизни, о жизни в Гастингсе и о его будущем. Он собирался, став адвокатом, браться за гражданские дела, которыми никто другой заниматься не будет, и оказывать бесплатную юридическую помощь нуждающимся. Она подумала, какой он хороший человек, и возгордилась, словно это она сделала его хорошим. Потом они вернулись в университет, было поздно и темно, и он пригласил ее к себе выпить кофе перед тем, как он ее проводит. Когда они поднимались по темной лестнице, он отпирал дверь, они входили в комнату, он зажигал свет, она чувствовала невыносимый задор мгновения, ослепительную неотделенность от сейчас, заполненного их присутствием, ее и Эдварда, это мгновение сосредоточило в себе всю жизнь, и ей хотелось кричать или петь. Эдвард подогрел кофе, выставил печенье, сходил к полкам за книгой о птицах, и они сидели, сдвинувшись плечами-руками-бедрами, пока он искал американскую горихвостку и певчих птиц, которых они видели. И весь этот настоящий момент был такой настоящий, что вокруг все гудело, она уже едва это выдерживала и наконец услышала голос, сказавший: давай, теперь можно, и следом свой собственный голос, шептавший Эдварду на ухо приглашение.
Потом у обоих билось сердце, были трепет и дрожь, его большие глаза глядели слишком в упор, чтобы сфокусироваться, его голос охрип: ты не шутишь? Запоздалая осмотрительность и трезвость ее ответа: только если ты этого хочешь. Его ошаление: о господи боже.
У него на тумбочке горела единственная лампа, свет от нее падал вниз и разливался по комнате. На Сьюзен был мягкий светло-зеленый свитер, клетчатая сборчатая юбка, белые носки. Внизу – белый лифчик и белые трусы. Без этого всего она оказалась худой и долговязой, щеки бледные, очков она тогда не носила, волосы легко спадали на спину. Она волновалось из-за своей слишком маленькой груди – пока не увидела восхищения в глазах Эдварда. Он был еще долговязее, чем она. Грудные ребра выпирали, бедра худющие, причинное место – самое массивное из всех частей тела. В комнате было прохладно, и они продрогли, и дрожь не уходила.
В кровати он задыхался, сипел, пыхтел и ревел. Не отпирайся, Сьюзен, ей тоже понравилось, – куда больше, чем потом будут нравиться иные повторения. Он налегал на нее, наддавал и вопил: «Ты такое чудо, поверить не могу, какая ты чудесная». Потом он поблагодарил ее за великодушие.
Далее был длинный голый разговор, во время которого они лениво трогали друг друга. Он открыл ей тайну, которую больше никому не открывал. Он начал писать, сказал он ей. У него есть стихи, рассказы и очерки, и уже исписаны два больших блокнота.
4
Эдвард и Сьюзен: как чудесно, сказала ее мать, он как бы вернулся в семью – мужем. Это было в 1965 году, студеный март, планы не менялись: они продолжали учиться, только теперь Сьюзен жила в квартире Эдварда. Они полагали, что это счастье.
Сьюзен может припомнить кое-что из этого счастья, если постарается. Двадцать пять лет она не старалась, предпочитала держать его за иллюзию, оберегая Арнольда и детей. Она не хотела развенчивать свое разочарование.
Сейчас она припоминает не столько даже счастье, сколько места, где это счастье случалось. Счастье неосязаемо, место делает его зримым. Были летние места, и был Чикаго. Из их с Эдвардом двустороннего счастья ей вспоминаются только два лета – а из них первое, поделенное ими между старым домом ее родителей в Мэне и съемным домиком его кузена на северо-западе штата Нью-Йорк. Мэнскии дом, еще из их детства, высился над холодной заводью в соснах. Он был с фронтонами, с английскими окнами в мелкий квадратик и верандой, и стоял на травянистом уклоне, внизу начинался камень. Она помнит Эдварда в лодке, они плавали на ней в пятнадцать лет и потом, уже поженившись. Ее воспоминания слегка перемешиваются. Она помнит, как в лодке Эдвард-мальчик пробует сигарету и бросает ее в воду. Помнит, как он говорит о своей мачехе, которая развелась с его отцом перед смертельным сердечным приступом, и ей стыдно видеть, как мальчик плачет.
Другой дом, домик его кузена в штате Нью-Йорк, был попроще. Он стоял в густой тени деревьев у лесной речки. В нем была одна верандочка, большая комната с неотделанными бревенчатыми стенами, и две маленькие комнаты в глубине. Она вспоминает, как Эдвард печатает на машинке при настольной лампе, а она, сидя в моррисовском кресле, пытается при этой же лампе читать и не знает, счастье это было или нет. Они пошли купаться – выскочили раздетыми из дома в реку. Трахались потом. Наслаждаясь контрастом с былой неприязнью, играя, как будто им все те же пятнадцать и они дома в Гастингсе – нарушают порядки. Затем вернулись к современным обязательствам: после секса написали письмо матери с отцом и подписались «Сьюзи и Эдвард». Детская любовь, говорила ее мать, совсем как брат с сестрой.
Воспоминания о счастье в Чикаго найти труднее. Эдвардова квартира, где они оба были так заняты. Письменные работы и экзамены, должные засвидетельствовать, как специализировались, углубились и перестроились их умы. Штудируя каждый свое, они уважали потребности друг друга и вели себя вежливо. Они отучились год на стипендии и вспомоществования ее отца. Потом, поскольку Эдвард не хотел зависеть от ее родителей, она начала преподавать английский первокурсникам в городском колледже. Там она с тех пор с одним-двумя перерывами – и работала. Когда Эдвард в марте отказался от стипендии, ее работа стала для них единственным источником средств.
От стипендии он отказался потому, что бросил занятия. Он мог бы дождаться лета, когда срок стипендии истекал, но, перестав учиться, решил, что честнее будет и перестать получать стипендию.
Он бросил юриспруденцию, чтобы стать писателем. Сьюзен это удивило, ей казалось, что надо сначала выяснить, сможет ли он писать. Но Эдвард не сомневался. В долгих разговорах он растолковывал ей свое решение и прояснял их будущее с ее в нем ролью. Ее отец приехал в Чикаго его отговаривать, но Эдвард сказал, что его повлекло к писательству с такой силой, что он не смог готовиться к экзаменам и убедился – юридический факультет был ошибкой. Это другие захотели, чтобы я изучал юриспруденцию, сказал Эдвард. И это я захотел, чтобы я писал.








