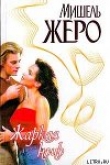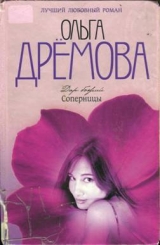
Текст книги "Дар божий. Соперницы"
Автор книги: Ольга Дрёмова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Бессонов не держал обиды на коллег, они имели право развлекаться, как им будет угодно, просто ему такая жизнь была ни к чему, он был другим.
На столе Бессонова зазвонил внутренний телефон.
– Алло!
– Павел Игоревич, к вам пришли родственники Смирновой, они внизу, пустить? – дежурная по регистратуре, Клавдия Ивановна, покрепче прижала трубку к уху плечом, а сама раскрыла журнал, проверяя записи за предыдущие сутки.
– Пусть пройдут, только минут через пять-десять, я у себя, – спокойно отозвался Павел Игоревич и повесил трубку.
– Смирновы! – крикнула регистратор, вытягивая шею к окошку. – Через десять минут доктор вас будет ждать у себя, пятый этаж, пятьсот восемнадцатая комната. Только переобуйтесь, у нас так не ходят.
– Ой, а мы не знали, – виновато сказала пожилая женщина, видимо, мать больной, – Что же делать? Нас теперь не пропустят? – В лице её читались явные огорчение и тревога.
– Почему не пропустят? Пропустят, – доброжелательно улыбнулась Клавдия Ивановна, – только тогда вам придётся при входе у охранника бахилы купить и на обувь сверху надеть. Пять рублей пара.
– Замечательно, спасибо вам большое! – обрадованно проговорила другая женщина, помоложе, аккуратно поддерживающая пожилую под руку. – Ну, вот видишь, мама, ты зря волновалась, сейчас переобуемся, пойдем поговорим с доктором, может, Катюху увидим.
Они удалились по направлению к лестнице. Ещё слышались их голоса, когда к Бессонову пришли ещё двое посетителей.
– Алло, Павел Игоревич, это опять Клавдия Ивановна с первого этажа.
– Я вас слушаю, что-нибудь не так? – Голос его был спокоен, а манера обращения – предельно корректная и выдержанная. Но почему-то Холодовой после разговора с этим доктором становилось всегда как-то не по себе.
– Да нет, всё в полном порядке, просто к вам ещё родственники, Буровы. Сказать, чтобы подождали, или тоже пусть поднимаются?
– Клавдия Ивановна, будьте любезны попросить их подняться на этаж, только тоже не сразу, хорошо?
– Как скажете, – облегчённо закончила разговор она и поспешила повесить трубку.
Посмотрев на мужчину и женщину, по виду супружескую пару, стоящую за стеклом, она громко проговорила:
– Пятый этаж, пятьсот восемнадцатая комната, минут через десять доктор просил подняться, так что не спешите и переобуйтесь пока.
– Спасибо, – поблагодарил мужчина, и они отошли к креслам. Пока они переобувались, от нечего делать Клавдия Ивановна исподтишка наблюдала за ними.
Лет, наверное, сорок пять, а может, и все пятьдесят, к дочке пришли. Точно, Бурова Марина, пятьсот двадцать шестая. Интересно, зачем Бессонов столько народа навызывал, или так сложилось, что в один момент пришли? Одеты-то как здорово, наверно, состоятельные! У него костюмчик – шик, а у ней плащ кожаный, аж до пяток, небось столько стоит, сколько мне за год не заплатят. Да ладно, будет тебе, Ивановна, завидовать, грех! Если хотя бы у одного из двоих есть – и то хорошо, куда лучше, чем когда ни у того, ни у другого, пусть хотя бы она носит.
Посетители переоделись и, сдав одежду в гардероб, отправились наверх, а мать с дочерью временно вернулись к банкетке, стоящей у окна, неся в руках зеленоватые целлофановые больничные бахилы.
Наверное, мать неважно себя чувствует, раз ботинки стоя надеть не может, а дочка – ничего, молодец, матери помогает. Вот что значит дочка, а не сын, от них разве чего дождёшься? Им самим всю жизнь помогать надо. Хотя, дочки тоже разные бывают, да и сыновья порой такие встречаются, что мать всю жизнь как за каменной стеной. А одёжка на них попроще будет, знать, не богатые. Ладно, хватит по сторонам глазами хлопать, дела-то за меня никто не переделает.
Регистратор опустила глаза в журнал, а мать с дочерью не спеша отправились к лифту. Кнопка вызова горела оранжевым светом, наверное, на лифте поднималась та семья, что опередила их, разобравшись со сменной обувью быстрее.
– Постоим или станем пешком подниматься? – спросила мать.
– Мы же не опаздываем, подумаешь, посидим на этаже несколько минут, подождём, пока доктор с ними поговорит, а потом он к нам подойдёт, – успокоила её дочь. – Ты же слышала, он на месте, о нашем присутствии знает, так что не стоит волноваться напрасно.
– Видишь, какая я нескладная стала, без меня ты бы уже давно на месте была, – проговорила мама.
– Ты опять за своё? – нахмурилась дочь.
– Ладно, ладно, не сердись, больше не стану.
– Так, – проговорил Павел Игоревич, складывая документы обратно в папку. – Сначала – Смирновы, вот её бумаги. Потом у меня будут Буровы, это – её. На сегодня – всё, больше никого не предвидится, по крайней мере приёмных часов сегодня нет, а я больше никому встречи не назначал.
На столе и на полках шкафа, стоящего у окна, царил полнейший порядок. Всё лежало на своих местах, ничего не было перепутано или утеряно, все бумаги были надёжно склеены или скреплены стиплером и находились в отдельных файлах. Бессонов любил порядок, он всегда считал, что любое безобразие или недоразумение начинается с беспорядка на столе.
Закрыв за собой дверь, он проследовал в зал ожиданий, находящийся в центре этажа, почти у самого выхода на лестничную клетку. Огромное толстое стекло закрывало фасадную часть комнаты от самого пола и до потолка. Сквозь него было видно, что левый угол помещения занимает чёрный диван, обтянутый блестящей, уже вытертой во многих местах кожей. Вдоль широкого окна в больших и маленьких горшочках располагались цветы. Видимо, в этой комнатке им нравилось, потому что многие из них цвели, раскинув в стороны зелёные восковые листья.
В правом углу стояло несколько больших напольных кадок с массивными стволами экзотических растений. Предметом гордости всего отделения была пальма, подаренная посетителем лет восемь назад. Тогда и пальмой-то её ещё назвать было сложно. Никто не знал, что не особо крупный побег в горшочке средней величины так разрастётся, что менять ему квартиру придётся чуть ли не трижды в год. Любовно разговаривая с пальмой, каждую неделю уборщица проводила влажной тряпкой по её огромным листьям, слегка похожим на резные зонтики, и подвязывала тяжёлые у основания зелёные стволики специально нарезанной в длинные полосы мягкой фланелевой тканью.
Короткие прозрачные шторки слегка прикрывали подоконники, не касаясь радиаторов, накрытых пластиковыми ящичками с мелкими прорезями по бокам. Светлый, почти белый линолеум подчёркивал чистоту комнатки, наполняя её теплом и уютом.
Когда Бессонов открыл стеклянную дверь помещения и вошёл в комнату, супружеская пара поднялась ему навстречу.
– Здравствуйте, Павел Игоревич, – негромко проговорил мужчина, а женщина, стоявшая рядом, кивнула головой.
– Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, – обратился к ним доктор, ставя свой стул напротив дивана. – Разговор у нас предстоит сложный, я вызвал вас вот по какому делу. Ваша дочь, находящаяся сейчас в пятьсот двадцать шестой палате, серьёзно больна, и вы должны непременно об этом знать. Ситуация, я бы сказал, критическая.
– Господи, что с ней такое? – побелела женщина.
– Когда она поступила к нам четыре недели назад на сохранение, диагноз местной женской консультации выглядел обычно – угроза выкидыша. Но за это время изменилось многое и, к сожалению, не в лучшую сторону.
Лицо женщины покрыла бледность, мужчина взял её за руку и крепко сжал её ладошку в своей.
– Нина, успокойся, – твёрдо сказал он. Обменявшись взглядом с врачом, он посмотрел в лицо жене и настойчиво проговорил: – Мы должны знать всю правду, это же наша дочь. Держи себя в руках.
– Да, всё в порядке, – напряжённо проговорила она, пытаясь справиться с волнением.
– Я могу говорить всё, как есть, ничего не скрывая? – спросил Павел.
– Вы должны нам сказать всё, ведь мы за этим пришли, – с расстановкой проговорил отец. – Доктор, простите мою жену, но девочка у нас одна, она поздняя, и с ней у нас связано всё, что только есть на свете, она для нас самое дорогое в жизни, поэтому Нина так переживает. Я прошу вас не скрывать ничего.
– Хорошо, – согласился Павел. – Я бы, наверное, не решился вас беспокоить, но дело действительно серьёзное, не терпящее отлагательств, и без вашей помощи девочке не выбраться.
При этих словах Нина вздрогнула, словно от удара плетью, и подняла на доктора испуганные глаза, полные слёз. Отец крепко сжал губы, и желваки на его скулах заходили ходуном.
– Говорите, доктор, мы вас внимательно слушаем, – произнёс он, старательно выговаривая слова. Давалось ему это нелегко, от волнения лицо будто свело судорогой, а сердце было готово выпрыгнуть из груди.
– Мы провели полное обследование организма, в том числе и компьютерное, – начал Павел. – На стадии исследования почек анализы показали, что правая почка почти не функционирует, а левая работает, но не в полную силу, не справляясь с выпавшей на неё нагрузкой, вот откуда постоянные боли в спине, тошнота, отёки и отторжение пищи.
– Как же так, мы приходили к ней совсем недавно, и вы говорили, что, за исключением небольших отклонений, у неё всё в порядке, – растерянно проговорил отец.
– Болезнь вашей дочери прогрессирует быстро, не забывайте о том, что она беременна и в её положении нагрузка на почки усилилась в несколько раз. Мало того, нужно считаться и с тем, что сейчас ей разрешены не все лечебные препараты. К сожалению, всё то, что могло бы кардинально повлиять на работу почек, для неё в данный момент под запретом, иначе пострадает плод.
– Но когда женщина в положении, тошнота, усталость спины, отёки – дело обычное, – попыталась уцепиться за ниточку мать. – Я сама была в такой же ситуации, но, как видите, всё прошло благополучно.
Она, словно в чём-то извиняясь перед врачом, слабо улыбнулась и с надеждой, граничащей с мольбой, посмотрела в глаза Бессонову.
– Не стоит отодвигать существующую проблему, она уже есть, и она настолько серьёзна, что отмахнуться от неё не удастся. Если вы считаете меня некомпетентным в этой области, вы вправе попросить перевести дочь к другому специалисту, – сказал он и замолчал, ожидая ответа.
– Зачем вы так, доктор? – всхлипнула Нина, но, тут же взяв себя в руки, быстро проговорила: – Извините, если я говорю что-то не то, просто ваши слова так неожиданны, мы находились в полной уверенности, что всё идёт по плану, а оказалось… – Она снова судорожно вздохнула и, вытащив носовой платок, прижала его к носу.
– Доктор, чем мы можем ей помочь? Чем ей вообще можно помочь? – спросил Николай.
– Я вижу в этой ситуации только один выход: чтобы бороться за жизнь вашей дочери, вам придётся пожертвовать внуком. – Раздался двойной слабый вскрик, и мужчина сморщился, крепко зажмурив глаза.
– Это мальчик?
– Да. Ничего иного я предложить не могу. Срок небольшой, если дождаться исхода девятого месяца, то возможно, что внука мы спасти сможем, но только его, а возможно, потеряем обоих. Мне тяжело об этом говорить, но решать должны вы. Я сейчас выйду, а через некоторое время вернусь, вам необходимо побыть наедине.
Павел плавно повернулся и вышел, мягко прикрыв за собой дверь стеклянной аудитории, а родители так и остались сидеть, взяв друг друга за руки, с немым отчаянием, застывшим в глубине глаз.
– Как же нам быть? – нарушила молчание Нина. – Павел Игоревич сказал, что срок пока небольшой. Если мы станем тянуть, то всё может окончиться плохо. Николай, как ты думаешь, почему Марина ничего нам не говорила?
– Наверное, она сама не знает, или просто жалеет нас. Теперь, Ниночка, пришла очередь пожалеть её. Я думаю, выход очевиден.
– Но ведь это не чужой мальчик, это наш внук. Мы так долго этого ждали!
– Я знаю, родная, я всё знаю, – вздохнул Николай.
Павел широкими шагами вышел из застеклённого помещения в тот момент, когда очередные посетители, миновав поворот, показались в отдалении коридора. Узнав врача, мать с дочерью поспешили навстречу.
– Как хорошо, что нам не пришлось вас искать, ведь вы такой занятой человек! – проговорила мать, пытаясь выровнять сбившееся из-за короткого перехода дыхание. – Павел Игоревич, наша фамилия Смирновы, моя дочь, Катя, находится у вас в пятьсот двадцать шестой. Вот, Зоя сказала, – кивнула она головой на стоящую рядом невысокую молодую брюнетку, очень похожую на неё, – что вы просили прийти родственников…
– Как ваша фамилия? – побледнел Павел.
– Смирновы, – хором ответили женщины.
– Тогда… – Павел хотел сказать: «Тогда с кем же я разговаривал две минуты назад?», но вместо этого он вдруг неожиданно для посетителей закрыл лицо ладонями и тихо прошептал: – Боже мой, Боже мой, что же я наделал? Как же я теперь посмотрю им в глаза?
Два противоположных чувства боролись в его душе. Первым его порывом было сорваться с места и что есть силы бежать к несчастным людям, потрясённым до глубины души его словами. Чего бы он только сейчас ни сделал, чтобы вернуть время хотя бы на полчаса назад!
Но другое чувство, сродни трусости, прочно удерживало его на месте. Что он им скажет: извините, я ошибся? Извиняться можно тогда, когда в трамвае наступил соседу по неаккуратности на ногу, а не в том случае, когда ты сообщаешь родным о потере близкого человека. Задержись Буровы внизу хотя бы на пять минут, и ничего этого бы не произошло. Что же делать?
Теперь, в эту минуту, Бессонов ясно и отчётливо понял, что поступок его не имеет извинения. Врач, калечащий человеческие души ложью, – не врач. Конечно, можно свалить всё на ошибку, на стечение обстоятельств, на загруженность. Но главное – не в этом. Главное заключается в том, что все они: и пациенты, и их родственники, – все они для него просто чужие люди, а он чужой для них.
Ватными ногами он отмерил обратные двадцать метров, открыл стеклянную дверь кабинета.
– Простите меня, Бога ради, простите, я ошибся. Ведь ваша фамилия не Смирновы?
– Нет, мы Буровы, – боясь поверить в мелькнувшую на краткий миг безумную надежду о недоразумении, прошептал помертвевшими губами Николай.
– Тогда я говорил не о вашей дочери, родственники второй девочки поднимались с вами одновременно, но случайно задержались, и я принял вас за них.
– Какое счастье, доктор! – лучась улыбкой, проговорила Нина.
– Конечно, жаль эту девочку, – вступил в разговор Николай, – но вы нас не осуждайте, пожалуйста, мы просто очень рады за дочку.
– Осуждать? О чём вы! – горько проговорил Павел, стараясь не смотреть в лица родителей, переживших несколько минут назад такое глубокое страдание, которого бы хватило на несколько лет. – С вашей Мариной всё в полном порядке, – успокоил он их, – чувствует она себя хорошо, ребёнок – тоже, угроза выкидыша полностью миновала. Я и позвал-то вас затем, чтобы сказать, что вы можете забрать её домой, допустим, в четверг или в пятницу, как вам будет удобнее, я не имею права отпускать её одну.
– Спасибо вам, Павел Игоревич, – говорила Нина, с трудом сдерживая слёзы радости.
– Значит, в пятницу, в двенадцать, принесите её документы и одежду, – скороговоркой проговорил он и торопливо вышел.
Поговорив с Буровыми, а потом со Смирновыми, он закрылся в своём кабинете, сел за письменный стол, открыл ящик и вытащил из стопки лист белой бумаги. Через десять минут он стоял в кабинете Вороновского, а его заявление, похожее на белую заплатку на тёмной поверхности материи, ждало своей резолюции.
– Паш, что ты выдумал? – удивлённо проговорил Лев. – Что за блажь такая? Ты подумай, с кем не бывает! Ведь ты же хороший врач с большим стажем, много лет ты в клинике. Скажи, неужели ты это решил серьёзно?
– Серьёзнее не бывает. Это не моё, понимаете? Наверное, сегодняшняя история – только повод, но мне был необходим толчок, чтобы понять это.
– Неужели тебе не жалко потерянных лет?
– Будет обиднее, если я буду продолжать их терять дальше, – флегматично ответил он. – Нет, на самом деле, решение уйти далось мне не только легко, я ощутил от этого удовольствие освобождения от тяжести, столько лет давившей мне на плечи непосильным грузом. Не нужно меня уговаривать, я действительно всё решил.
– И куда же ты теперь? – с грустью поинтересовался Лев. Он понимал, что Бессонов решил верно, но ему почему-то было безумно жаль этого одинокого человека, запутавшегося в собственной жизни.
– Куда? На свободу, Лев Борисович. – Павел впервые за это время поднял глаза на Вороновского и широко улыбнулся. Улыбка вышла доброй и по-детски открытой, и Лев с удовольствием улыбнулся ему в ответ.
– А может быть, ты и прав, – задумчиво проговорил он, ставя подпись на заявлении. – Наверное, каждый в жизни должен найти свой путь.
– Тогда я иду в правильном направлении, – сказал Павел и, кивнув головой на прощание, вышел.
– Вот так всё и было, – закончил Лев.
Картошка давно дожарилась и даже успела немножко остынуть, а Маришка, стоявшая у плиты и слушавшая мужа не прерывая, чему-то улыбалась.
– Знаешь, Лёвушкин, у каждого своя жизнь, Павел большой молодец, если это понял, и вдвойне молодец, если решился что-то в своей жизни изменить. Нельзя вечно играть какую-то роль, даже в театре есть антракт и финал.
– Отшагать столько лет, чтобы понять, что всё это время ты шёл не в ту сторону? Наверное, это обидно, – пожал плечами Лев.
– Я думаю, намного обиднее понимать, что ты шагаешь не в ту сторону, но так и не суметь за всю жизнь найти в себе силы что-то изменить. Я думаю, что теперь у Павла всё будет в полном порядке, – уверенно проговорила Маришка.
– А не можешь ли ты, о моя премудрая жена, сказать мне, куда шагаю я, и правильно ли я это делаю? – улыбнулся Лев.
– Могу, конечно. Лично ты шагаешь к ужину, но делаешь это настолько медленно, что скоро, судя по всему, мне придётся разогревать его ещё раз.
– Тогда мне тоже нужно что-то изменить в своей жизни, – решительно произнёс Лев.
– И с чего ты планируешь начать преобразования?
– Пока – с жареной картошки, а там видно будет.
* * *
Поздно вечером в московской квартире Стаса раздался междугородный звонок. Стас ждал его, потому что от него зависело очень многое, но когда он наконец раздался, от неожиданности Стас вздрогнул.
– Алло?
– Станислав?
– Он самый. – Узнав голос Беркутовой, Неверов нервно сглотнул и прижал трубку ближе к уху.
– Это Ирина. Я согласна.
Беркутова повесила трубку и глубоко выдохнула. Ну что ж, Рубикон перейдён, дело осталось за немногим. Правильно она поступает или нет – рассудит время.
Решение далось ей непросто. Помимо её воли в ней прекрасно уживались два совершенно разных человека.
С одной стороны, всё её существо восставало против этого шага, понимая меру боли и разрушения, которые он за собой повлечёт. Прошло так много времени, они стали старше и мудрее. На своём собственном опыте Ирина убедилась, что ответный удар ещё разрушительнее нанесённого. Измученная душа просила ласки, любви, тепла, избавления от одиночества, окружавшего её, словно тягучий липкий туман. Что бы она сейчас только ни отдала, чтобы оказаться рядом со Львом, чтобы утонуть в глубине его бархатных глаз…
Но Вороновский искромсал её жизнь, изорвал на тонкие лоскуты, не оставив никакой надежды на взаимность. Вряд ли чувство, которое она почти десять лет назад испытывала к нему, можно было назвать любовью, хотя кто знает, что это было, любовь у каждого своя. По крайней мере чувства сильнее она не знала ни к одному мужчине.
Сначала отношения со Львом напоминали Ирине детскую игру в кошки-мышки, ей хотелось обратить на себя внимание, сломить непокорного доктора, никак не желавшего поддаваться чарам и становиться очередным экспонатом её коллекции бывших поклонников. Игра затягивала, наполняя всё своё существо азартом и восторгом одновременно, но в какой-то момент Ирина вдруг поняла, что игра закончилась.
Мысли о Льве преследовали её даже во сне, заставляя сердце сжиматься от сладкой боли, отчаяния и счастья. Его глаза, руки, такие близкие и недостижимые, сводили с ума, хотелось раствориться в нём, вдыхать запах его волос, чувствовать его силу и нежность.
Поманив призрачной надеждой, он оттолкнул её, заставив испить до самого дна полную чашу унижения и стыда. Но самое страшное было даже не в этом: в ту грозовую ночь, стоя у раскрытого настежь окна больничного кабинета, вместе с единственным поцелуем он забрал её душу навсегда. Перешагнув через её чувства, Вороновский вычеркнул её из своей судьбы с такой лёгкостью и непринуждённостью, будто она была лишней графой в нужной таблице, и только.
Прошло десять лет, но обида не уменьшилась, наоборот, словно накапливаясь, год от года обида становилась всё нестерпимей и злей. Пустота, помноженная на годы одиночества, заставляла кричать её душу, содрогаясь от незримых рыданий, и проклинать человека, забравшего её жизнь себе.
Никогда, ни разу за все эти годы он её не пожалел, тогда пусть и он на её жалость не рассчитывает. За всё в этой жизни нужно платить, Лёвушка, и платить полной меркой.
* * *
Согласно народным приметам, если первые два месяца весны были холодными, значит, май должен быть непременно тёплым, по крайней мере все очень на это рассчитывали, поднимая воротники кожаных курток и дрожа на пронизывающем апрельском ветру.
Но май мало чем отличался от апреля. По переулкам и улицам Москвы метался ветродуй, выискивая спрятанное в потаённых уголках дворов тепло. Черёмуха, обычно разбрасывающая без счёта белоснежные духмяные лепестки, отцвела в одночасье, так и не разлив в воздухе свой головокружительный аромат. Неуютно было в городе, холодно, знобко.
Через стёкла квартирных окон казалось, что деревья и дома пропитаны тёплыми лучами солнышка почти насквозь и что вода в лужах у подъездов похожа на парное молоко. Но стоило только выйти за порог, как мягкое весеннее очарование мгновенно пропадало. С высоты своей гордыни безучастное солнце наблюдало за тем, как холодные порывы ветра вылизывают неокрепшие молодые ветки сиреней, перегибая тонкие острые листочки надвое; лужи, не успевшие промёрзнуть за ночь до дна, всё же набрасывали на самые края невесомые слабые ниточки ледяного узора, приклеиваясь ими к асфальту почти до самого полудня. Нескончаемая, затяжная майская карусель цепко держала город в своих холодных руках, надёжно закрыв на семь запоров все входные ворота.
– Мамочка, ты только не волнуйся, – начал издалека Гришка, – потому что ничего страшного не произошло.
– В чём дело? – напряглась Маришка, кладя прихватку на кухонный стол и поворачиваясь к сыну.
Гришка и Андрейка стояли у дверей, держа оба дневника открытыми. И у того и у другого внизу страницы красной ровной полосой было что-то написано, по всей видимости, резолюция учительницы. Судя по взъерошенным чубчикам и поднятым в недоумении бровям было видно, что ребята чувствовали себя не в своей тарелке и страшно нервничали, боясь принести огорчение матери.
Самих замечаний в дневниках они нисколько не боялись: ведь надо же где-то учительнице писать! Нехорошо было то, что из-за этих убористых, с лёгким наклоном строк сильно расстраивалась мама. Отец – тот ничего, подпишет – только головой качнёт, видимо, вспоминая свою бурную школьную жизнь, а вот мама – другое дело.
Хуже всего приходилось тогда, когда, прочитав послание, она, отвернувшись, уходила от них куда-нибудь с глаз долой. В такие моменты ребята знали, что мама сейчас может плакать. Лучше бы выдрала или лишила мороженого, но Вороновские никогда не били детей, считая это самым недостойным делом на свете.
Чтобы не огорчать маму лишний раз, Андрейка даже приловчился расписываться под замечаниями за неё, но почему-то учительнице эта идея совсем не понравилась, и она вызвала Маришку в школу, устроив сдвоенно-комбинированное тотальное аутодафе почти с летальным исходом. После этого печального недоразумения мать взяла честное-пречестное слово, что подписываться в случае чего она будет собственноручно. К сожалению, такой момент наступил, и приключилось это скорее, чем хотелось бы.
– Что у нас на сей раз? – поинтересовалась она, расписываясь внизу страниц.
– Знаешь, мам, если честно, то мы даже не можем предположить, из-за чего весь сыр-бор, – пожал плечами Гришка.
Поскольку Григорий был от горшка прирождённым артистом, способным ввести в заблуждение любого, Маришка перевела глаза на Андрея, владеющего этим необходимым для каждого мужчины искусством не столь совершенно. Одну и ту же историю из уст братьев можно было услышать совершенно по-разному. Если Гришка всегда толковал любой факт в свою пользу, перекручивая события, выворачивая всё наизнанку и ставя происшествие с ног на голову, то Андрей сводил все искажения к минимуму, выдавая приблизительно объективную информацию, иногда даже во вред себе самому. Подобное умение частенько помогало Гришке выйти сухим из воды и вытянуть за собой брата. Зная об этом, Маришка, положив ручку рядом с дневниками, пристально посмотрела на Андрюшку и требовательно произнесла:
– Ну?
Растерянно пожав плечами, точно так же, как до него это сделал братишка, Андрейка глянул на мать и тихонько проговорил:
– Мама, мы и впрямь не знаем, в чём тут дело. Просто Татьяна Николаевна попросила задержаться нас после уроков, а потом сделала запись в дневниках, велев показать это непременно тебе, а не папе.
– Странно, – задумчиво произнесла Маришка. – Может быть, вы припомните что-нибудь такое, что могло бы навести учительницу на мысль пригласить меня в школу, причём срочно?
– Да нет же, мама, мы ничего такого ещё сделать не успели, – уверенно сказал Гришка. – Почему ты нам не веришь?
– Потому что с бухты-барахты маму в школу вызывать не станут. Вы бы лучше всё мне рассказали по-честному, я бы по крайней мере знала, к чему быть готовой, а то буду сидеть, глазами хлопать, срам один, да и только.
– Мы ничего не сделали, – отрицательно качнул головой Андрей. – Школу мы не поджигали, в драках не участвовали, в столовой хлебом не бросались, и вообще, мам, что мы, не понимаем, что ли, что до конца года две недели осталось?
– Конечно, школа – не малина, – вступился за справедливость Гришка, – но уж две-то недели как-нибудь перетерпеть можно, как ты думаешь? – посмотрел он на мать.
– Я думаю, что завтра, после четвёртого урока, меня ждёт учительница, и ещё я думаю, что не только моё, но и своё личное время она зря тратить не станет. Значит, по поводу всего произошедшего существует вполне внятное объяснение.
– Учительница нам ничего больше не говорила, просто просила показать дневники тебе.
– А есть какие-нибудь идеи по поводу того, почему не папе?
– Никаких, – отрезал Гришка, посмотрев на брата.
– Никаких, – уверенно подтвердил Андрей.
На следующий день после уроков Маришка, велев ребятам играть на школьном дворе и никуда без неё не уходить, поднялась на второй этаж к Татьяне Николаевне. Открыв дверь, она увидела, что учительница собирает в папку какие-то бумаги со стола.
– Здравствуйте, Татьяна Николаевна, – произнесла Маришка, входя в кабинет, – вызывали?
– Да, проходите, пожалуйста, Марина Геннадьевна, садитесь.
– Опять что-то мои озорники натворили? – обеспокоенно произнесла Маришка, с тревогой вглядываясь в лицо учительницы.
Обычно, если происходило что-то не столь существенное и кардинальное, Стрешнева могла позвонить по телефону, застав обязательно кого-то из родителей вечером дома, но если разговор обещал быть не только серьёзным, но и официальным (а такое случалось нечасто!), следовал вызов в школу.
– Я даже не знаю с чего начать, – «обрадовала» учительница. – Ситуация настолько неординарная, что опыта работы с подобными происшествиями у меня, признаться, маловато.
Начало прозвучало «крайне оптимистично», и Маришка почувствовала, как по спине пробежали мурашки.
– Случилось что-то страшное? – робко произнесла она.
– Нет, ни в коем случае, – успокоила её Стрешнева. – Не нужно плохих мыслей, я просто вызвала вас поговорить о важном деле.
– Я слушаю, – уже спокойнее вздохнула Маришка, всё ещё с опаской продолжая сжимать ладонями край парты, за которой сидеть было очень неудобно по причине её маленького размера.
– Всё дело в том, что в школе несколько дней назад было произведено своего рода тестирование. Цель теста заключалась в выявлении интеллектуального уровня каждого учащегося класса. Эксперимент этот коснулся пока только начальной школы, но в будущем, я надеюсь, тесты разного уровня помогут учителям в корректировке школьных программ по всем классам, как в средней школе, так и в старшей. Но вернёмся к нашим детям.
Учительница открыла ящик стола и, не переставая говорить, стала что-то искать, тщательно просматривая каждый лист.
– Тест состоял из нескольких заданий, разбитых на отдельные блоки. Я сейчас объясню суть работы и дам вам посмотреть ответы ваших мальчиков.
– Они не прошли тест? – удивилась Маришка.
– Почему же, прошли, – загадочно улыбнулась учительница, – да ещё как прошли-то, администрация гудит после их прохождения, не зная, как теперь со всем этим поступить.
– Да? – только и смогла проговорить Маришка, и щёки её слегка покрылись румянцем.
– Вот, нашла, – отложила учительница два листа, хранившихся в общей пачке классных работ. – Понимаете, существует определённая система подсчёта баллов за каждое задание. Основываясь на ней, производятся вычисления, которые приводят к конечному результату, определяя процент знаний, полученных за три года. Учитывается не только объём умений и навыков, но и сообразительность, эрудиция, способность ребёнка мыслить абстрактно.
Развернув работы, учительница надела очки и, проводя пальцем по строчкам, проговорила:
– Я не скажу, что они показали низкий уровень, скорее наоборот, но некоторые их ответы были настолько невероятными, что никто из составителей программы проверки не был к ним готов. Вот послушайте, Марина Геннадьевна. Первый блок вопросов мы схематично назвали «третий лишний». Школьникам предлагалось три предмета, объединённые по какому-то определённому признаку, нужно было сообразить, что их объединяет и что в таком случае на картинке в эту схему не укладывается, то есть то, что является как бы лишним. Ненужный предмет предлагалось перечеркнуть, только и всего. Я понятно объяснила задание?
– Вполне, – согласно кивнула Маришка.
– Вот работа Андрея. Ему были предложены самолёт, вертолёт и ракета. Как лично вам кажется, что здесь лишнее? – с улыбкой спросила учитель.
– Я думаю, ракета.
– А почему?
– Она уходит в безвоздушное пространство, а самолёт и вертолёт – нет, – неуверенно ответила Маришка.
– На самом деле ответов здесь несколько. Это может быть ракета, как вы и сказали, это может быть и вертолёт, как единственный представитель пропеллера, и самолет, как транспорт, перевозящий пассажиров, да в принципе, ответ годился бы любой, лишь бы ребёнок обосновал его.