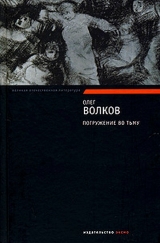
Текст книги "Погружение во тьму"
Автор книги: Олег Волков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
Скупо рассказывал Махмуд об убийствах в бакинских застенках, о сопровождавших дознания избиениях и пытках. Следы их – темными пятнами, шрамами – были на всем теле Махмуда. Тогда эти наглядные свидетельства возвращения к приемам средневековья еще не укладывались в сознании, казались отражением нравов жестокого Востока. Какой-то тамерлановщиной, немыслимой в новой, Советской России.
Впоследствии пришлось достаточно насмотреться и на примитивно зверские, и на изощренные приемы выколачивания "показаний" на следствиях, да и самому пройти через достаточно мучительные искусы... Но тогда, в Бутырской тюрьме, мне даже трудно было поверить, чтобы говоривший со мной спокойный и так дружелюбно относящийся к нам человек испытал дыбу и не досчитывался зубов, выбитых сапогами...
Махмуд был искренен и прост. Мог отдать и последнее. Доверчивость его и доброжелательность удивляли.
...Обширное сводчатое помещение, где формировали этап, походило на восточный базар. Из камер пригоняли сюда смуглых людей в смушковых папахах, обутых в мягкие кавказские ноговицы, нагруженных перинами и ковровыми сумками. Было тесно и шумно. Приветственные возгласы обнимающихся однодельцев с непривычки звучали оглушительно. Я успел выучить несколько фраз на тюркском языке, мог по складам читать арабские слова. На мои "салам алейкум" приветливо отвечали обступившие меня земляки Махмуда, крепко жали мне руку и сочувственно жестикулировали, давая понять, что друг их друга и им дорог и близок.
Разделенные языковым барьером, мы тем не менее ухитрялись выразить радость по поводу конца тюремного сидения, наивно надеясь на лучшее будущее в лагерях. Мусаватисты твердо верили в обещанный им режим политических. Сильные своей спаянностью, они были готовы за него бороться. Среди них были европейски образованные, знающие иностранные языки и историю революционного движения политические деятели, испытавшие гонения в царское время. Они ждали чего-то вроде поднадзорной жизни прежних ссыльных...
Я тоже не унывал, хотя всего неделю назад, расписавшись в ознакомлении с постановлением Особого совещания, порядочно пал духом: я готовился к ссылке [Поясню современному читателю, не посвященному в оттенки тогдашней шкалы мер пресечения: ссылка отличалась от более легкой высылки. Последняя предполагала свободный выбор места жительства, из которого исключалось некоторое количество городов: был "минус шесть" (самое легкое), "минус двенадцать" и чуть ли не до "пятидесяти двух". Ссылка назначалась в отдаленные места и сопровождалась жесткой регламентацией передвижения, периодическими явками на регистрацию, ограничениями вида работы (исключались ответственные и административные должности, ссыльные пополняли кадры чернорабочих) и т. д.], а присудили меня к трем годам заключения в лагерях с последующими ограничениями.
Отчасти утешило тщеславное рассуждение: в лагерь попадают все же личности, сочтенные опасными. Чем я хуже других? В конце концов, я иду по стопам Георгия, разделяю участь многих родственников и знакомых, порядочных людей, которым, говоря начистоту, не по пути с режимом, основавшимся на насилии, лжи и демагогии. Мы в лагере будем вместе – кучка несогласных, не сдавшихся и больше не обязанных притворяться и лгать. Навесили нам ярлыки "контриков" – так будем их достойны!
Не понюхав лагерей, я полагал, что заключенный там может быть самим собой, сохранить свое лицо. И не знал, что попадаю на Соловки в канун изменений, которые должны стереть без остатка следы сходства советских мест заключения с царскими политическими централами. Не знал, что скоро придется захлебнуться в современных удушливых эргастулах, отстаивая, забыв обо всем остальном, возможность элементарно порядочно себя вести, сохранить подобие человеческого облика!
Но что бы ни ожидало впереди, я при вызове на этап испытывал известное удовлетворение: признан политическим противником – не какой-нибудь проштрафившийся чиновник или схваченный за руку растратчик... Я могу и дальше прямо смотреть в глаза людям. Меня беспокоило, что значусь я осужденным по двум статьям: контрреволюционной – за агитацию – вполне меня устраивавшей; и по одному из пунктов 59-й, слывшей в обиходе бандитской; пункту, предусматривающему "незаконное хранение валюты". Основанием послужили отобранные у меня при аресте доллары, какими выплачивали мне в посольстве жалованье. Не бросит ли это, думалось мне, там, на Соловках, на меня тень в мнении "своих" – чистокровных контриков?
Если уж совсем глубоко разбираться в причинах приподнятого настроения, с которым я собирался на свой первый этап, надо сказать об испытываемом на воле неотступном чувстве пригнетенности, подспудной тревоги, переходящей в ожидание беды. Настораживали новости и слухи, взгляды встречных, всюду мерещились соглядатаи. Выбивали из колеи аресты знакомых и газетные глухие сообщения о "раскрытых заговорах". Суживались и рамки жизни: теснили "чистки", становилось трудно прописаться, выбрать работу. Анкеты все глубже всвер-ливались в твою генеалогию, связи, занятия. Словом, чувствовал себя просвечиваемым и подозреваемым. Был окончательно задушен голос церкви, совершенствовались намордники, надетые на печать, сцену, суждения, юмор.
Впоследствии стало очевидным: освобождаясь из лагеря, попадаешь из ограниченной зоны в более просторную. Но тогда, в двадцать восьмом году, это было еще не вполне отчетливым предчувствием. И пусть я еще не был беспросветно затравлен, взнуздан, одурачен и обезличен, как с тридцатых годов, все же имел основание считать: променяв московское свое существование на Соловки, теряю не так-то много. И даже избавляюсь от заячьего своего житья.
Бодрость мою поддерживали и благополучно складывавшиеся условия этапирования. Лучшего состава и желать было нельзя. Уголовники, само собой, с нами были. Но по шакальей своей повадке шкодить только всей стаей, при явном перевесе сил, держались незаметно и даже угодливо.
Надзиратели и конвой потели, терялись, разбираясь в грудах формуляров с неизменными "Ибрагимами-Мах-мудами-Мустафами-Ахмедами-оглы". Обступленные темноволосыми, смуглыми людьми в одинаковых папахах и со сходными чертами восточных лнц, не говоривших или не желавших объясняться по-русски, тюремщики, уже не чая тщательным опросом самостоятельно установить личность сдаваемых с рук на руки арестантов, вверились старшине мусаватистов. И как же подобострастно подсовывали они ему бумаги, ограждали от напирающей толпы. Лишь бы не напутать, справиться к сроку: эшелон должен отойти по расписанию...
Нам с Махмудом из,-за свежих швов нельзя носить вещи. И сколько же рук подхватило наши пожитки! Мы спокойно сидели в сторонке на груде барахла кто-то подменил нас на "шмоне": перетряхивал и укладывал наше добро под воровски быстрыми гляделками обыскивающих. В этой толпе "иноплеменных", так просто и естественно по одному доброму слову своего земляка включивших меня в свой братский круг, я сразу почувствовал себя очень надежно. И бойко объясняющийся по-русски Эйюб Ибрагимов, разрушаемый злой чахоткой молодой бакинский журналист с отбитыми легкими; и молча клавший мне на плечо руку седой муэллим – законоучитель, – не умевший словами выразить отеческое одобрение; и другие, чьи сочувственные кивки и знаки безобманно свидетельствовали искренность, привычку доверять и оказывать внимание незнакомцу, благожелательность, – все они держались как искренние мои друзья. Я до слез, остро и болезненно ощущал тепло человеческой общительности, уже утраченной нашим обществом, разложенным подозрительностью, завистью, натравливанием друг на друга...
x x x
Вышки, сколоченные из хлипких бревнышек. Пятачок площадки, обнесенный оградой из колючей проволоки. На нем, возле примитивного дебаркадера, длинный низкий барак. Это Кемьский пересыльный пункт. Зловеще знаменитый Попов остров – "КЕМЬ-ПЕР-ПУНКТ", зона на каменистом и болотистом берегу Белого моря, недалеко от захолустного деревянного городка Кемь. Место пустынное [Пересыльный городок с рядами бараков, выстроенных вдоль дощатых линеек, с издевательским кумачом "Добро пожаловать!" на воротах был выстроен позднее. В 1931 году в барак у дебаркадера уже не заводили], голое и суровое. Здесь комплектуют партии, переправляемые на остров. Кто погостил тут в конце двадцатых годов, никогда его не забудет...
Эта пересылка учреждена при основании Соловецкого лагеря, когда заключенных считали на десятки и скупые сотни. Сейчас тут столпотворение. Мой этап, окруженный вохровцами, сидит на камнях в стороне от зоны и следит, как идет прием опередившего нас эшелона. Только что выгруженных из теплушек заключенных, ошалелых и растерянных, с великой бранью и зуботычинами построили в колонну и бегом погнали на голый скалистый мысок. Там всем велели бросить узлы и чемоданы, и плечистые вахтеры начали многочасовое учение – муштровку с мордобоем. Мусаватисты встревожены. При выгрузке из вагонов и нас было приняли в кулаки. Однако по чьему-то распоряжению быстро отступились. И все же какой-то особый любитель потешиться над беззащитным успел в кровь разбить лицо замешкавшемуся пожилому врачу. Староста мусаватистов, атлетически сложенный, бешено налетел на охранника, смял его, швырнул на рельсы. И убил бы, не удержи свои...
Набежало начальство, последовали объяснения. Оцепившие платформу вохровцы защелкали затворами. Но, видимо, было приказано обойтись без кровопускания. Быть может, сочли целесообразным на первых порах уважить иллюзии "политических". Вскоре там – за глухими соловецкими стенами – можно будет отыграться сторицей! Переполох был все же большой. Тюрки совещались, вырабатывали тактику, какой бы оградиться от произвола. И наблюдали.
Более суток – первых лагерных суток – мы посвящались в лагерные повседневные порядки: зрителями сидели на валунах и смотрели, будто римляне со ступеней амфитеатра на арену цирка. У нас на глазах людей избивали, перегоняли с места на место, учили строю, обыскивали, пугали нацеленными с вышек винтовками и холостыми выстрелами. Падающих подымали, разбивая сапогами в кровь лицо. Отработанные ловкие удары кулаком сбивали человека с ног, как шахматную фигурку с доски... Трясется седая борода у проделывающего бег на месте коротенького старика с вытаращенными глазами на пунцовом лице; рядом не может подняться присевший по команде толстозадый мужчина и жмурится, отворачиваясь от затрещин; подальше тяжко пинают ногами молодого грузина, отказывающегося повторить упражнения. "Убивайте, сволочи!" истерически кричит он. И его действительно бьют смертно...
Потеряно представление о времени. Ряды приплясывающих на месте, прыгающих и приседающих новоявленных лагерников все чаще расстраивают падающие с нелепыми жестами фигурки, а неутомимые здоровяки в бушлатах все так же бодро похаживают между ними, расправляя плечи, особенно лихо и весело раздавая зуботычины и покрикивая: "Не к теще на блины, сукины дети, приехали, мать вашу так и мать вашу этак!"
В жемчужном небе за нежными облаками висит ночное солнце, серые безмолвные чайки пролетают над скалами; слышен ласковый плеск волн... Воздух над живой гладью моря свеж и целителен. И дико содрогается даль от отрывистого рева "здра!", без конца повторяемого измученными людьми, которых учат хором приветствовать начальников. Беззакатная ночь позволяла конвейеру действовать безостановочно...
Хватало дела и охранникам из заключенных. Эти дюжие, мордастые, отъевшиеся парни со знаками различия на рукавах, окрещенные зубоскалами-урками хлестко и непристойно, упарились и охрипли.. Отбиты кулаки и сел голос – надо оправдать льготный паек, оказанное доверие! И не только это. Безнаказанно чинимое, поощряемое насилие прививает вкус к нему: бить и унижать становится потребностью. Всхлипы и стоны вызывают остервенение. Молчаливо сносимые удары – желание забить до смерти.
И хотя наш этап был отчасти пощажен – нас, когда рассосались потоки принимаемых и отправляемых, "оформляли" сравнительно спокойно, впечатление от такого цинически откровенного метода ударяло обухом по голове. Пусть память и хранила расправы и насилия первых лет революции, да и в тюрьме не миндальничали, но еще не приходилось убеждаться, чтобы произвол возводился в систему. Да к тому же развернутую в таких масштабах...
Сознание своей артельности поддерживало в мусаватистах надежду отстоять права "политических". Я же знал: увиденное – это отражение моей участи.
...Осматривавший этап лагерный врач, грубо и нетерпеливо сорвав прилипшие повязки, освободил меня на три месяца от общих работ. На первых порах это ограждало от тяжелых испытаний. Но в ушах стояли матовые стуки ударов и падений, беспощадная брань и угрозы; но перед глазами – искаженные лица избиваемых, не видящих конца кошмару!
"Тут Соловецкий лагерь особого назначения, там-тара-рам, пере-там-тара-рам! – лихо неслось над онемевшей толпой. – Тут по струнке ходить будете! Дурь выколотят!" И выколачивали. А с "дурью" и душу живу.
Соловецкий лагерь особого назначения... сокращенно СЛОН. Изображение этого мудрого и кроткого животного сделалось официальной эмблемой лагеря.
И вот я – уже заведенный в зону Кемьперпункта зарегистрированный зэк на списочном составе Соловецкого лагеря. В бараке мне указано место на нарах, где, по прочно внедрившейся лагерной традиции, все лежат на боку и повертываются по команде. Прошло несколько дней, и я не чаю, когда выкликнут меня на этап. Многих из прибывших со мной отправили. И в первую очередь неудобных, строптивых мусаватистов. Лица кругом все новые, появляются и исчезают в лихорадочно дергающемся ритме. Как "инвалид" я лагерю не нужен; как трехлетник с ерундовой статьей – не предмет попечения и забот ИСЧ (Информационно-следственная часть – лагерный сыск), сосредоточенных на большесрочниках, и меня не торопятся отправить отсюда, с пересылки.
Колючая проволока охватывает площадку не более 100X100 метров. В бараке – узкий проход и двухэтажные сплошные нары под низким потолком. Я еще настолько зелен, что не могу даже днем ненадолго прилечь из-за фантастического количества клопов. Они ползут по стойкам нар сплошными вереницами, как муравьи по стволу полюбившегося дерева.
Преодолеть брезгливость невозможно, хотя усталость и валит с ног. Я выхожу на улицу – к тем, кто, подстелив что попало на камни с влажными ямками между ними, устраивается там спать. Тут другой враг: тучи комаров, какие еще не приходилось видеть. Северный тундровый гнус, от которого нечем – да еще и не умеешь – оборониться. Как ни закутывайся и ни прячься, комары проникнут и доймут. Тонкое "э-з-з-з" над ухом – и уже ждешь, насторожен. И нельзя ни заснуть, ни уйти в мечтанья. Подумать только: спустя несколько лет, в глухих зырянских болотистых лесах, я уже не замечал их...
С подлинным ужасом слежу за дневальным – всклокоченным мужиком в неописуемых лохмотьях с потемневшим, покрытым коростой лицом и свирепыми непогасшими глазами. Он не говорит по-человечески, только хрипло матерится. Получая хлеб в каптерке на барак, умудряется урвать себе несколько паек. И прячет их в заношенных обносках, грудой наваленных в его углу. Когда, согнувшись над лоханкой с баландой, словно заслоняя ее всем телом, он сидит там и, чавкая, давясь, жадно и торопливо ест, то кажется, подойди ближе зарычит и покажет зубы. И этот изъеденный насекомыми, утративший человеческое подобие отверженный шалеет и суетится, лишь начинают выкликать на этап: боится, что его стронут с места! Он уже два года дневалит в этом, бараке... И перемен не хочет ни за что.
Свыкнуться с этим кошмаром! Жить не в грозном, фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду – помойной яме?! В клоаке, смрадном загоне, выворачивающем наружу подлую изнанку существования, заставляющем дышать испарениями скученных немытых тел, уложенных сплошным слоем на липких, почерневших от грязи горбылях? В аду, перед которым знаменитый "Cour des miracles" [Двор чудес (фр.)] – чинный опрятный пансион.
И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет... Но это наблюдения уже прошедшего не через один лагерь человека. Тогда же я был еще новичком, не поборовшим предрассудков и предубеждений, внушенных воспитанием. С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... И не мог решиться лечь!
В какой-то мере эта закваска, полностью никогда так и не выветрившаяся, служила источником дополнительных осложнений. У охранников всех рангов она вызывала зуд – выкорчевать этакое неположенное чистоплюйство. Но она же помогла мне и сохраниться. И, испытывая танталовы муки голода, я не мечтал попастись на отбросах; не соблазнялся самокруткой за пайку; и в невозможных условиях ухитрялся мыть руки, следить за собой; всегда считал для себя исключенными всякие "мастырки" – членовредительство, снадобья, обморожение, на время спасающие от тягот... Словом, не шагнул на ту нижнюю ступеньку, с которой рукой подать до лагерного шакала, доходяги-фитиля или до одичавшего дневального с Кемьперпункта...
На улице, кроме комаров, были и "попки", как метко прозвала лагерная братия нахохленных и важных караульщиков, порасставленных на вышках. Их надо всегда остерегаться: они могут застрелить запросто. Не только – Боже упаси! – нельзя подойти к проволоке ближе запретных метров, что всегда сошло бы за "попытку к бегству". Но и трижды не дай Бог привлечь их внимание и раздразнить, даже держась на узаконенном расстоянии. Пуля могла достать и тут.
А как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. С вышек беспорядочно палили. У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как ухитрился чеченец проползти под проволокой? Кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железку – так, что тот рта не успел раскрыть? Ведь было светло, как днем.
Со смельчаком ушли еще двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно; прячась за камни, перебегая, ползя юрко и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули – чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого.
Тело лежало под вышкой, в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди: зэки по одну сторону проволоки, обескураженные "попки" – по другую. У заключенных в то утро был более бодрый вид. Зато охрана – в отместку – не знала удержу...
...Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они не называли своего имени, на все вопросы ответ был один: "Бог знает!"; отказывались работать на антихриста. И никакие запугивания и побои не понудили их "служить" злу, то есть власти, распинавшей Христа. И охранники отступились. Но побег, за которым последовали выговоры и упреки сверху – "Просмотрели! Распустили!", – подхлестнул служебное рвение.
И вот кучку державшихся вместе исхудалых, оборванных и немых сектантов загнали в угол зоны и, связав руки, поставили на выступающий валун. Было их человек двадцать: два или три старца с непокрытой головой, лысых и седобородых; несколько мужчин среднего возраста – растерзанных, с ввалившимися щеками, потемневших, сутулых; подростки, какими рисовали нищих крестьянских пареньков передвижники; и три нестарые женщины в длинных деревенских платьях, повязанные надвинутыми на глаза косынками. Как случилось, что сектанток не отделили, а держали в нашей зоне? Быть может, специально привели из женбарака, стоявшего неподалеку.
Командир распорядился: стоять им на валуне, пока не объявят своих имен и не пойдут работать. Тройке стрелков было приказано не давать "сволоте" шевелиться.
Строптивцев поставили "на комары" – так называлась в лагере эта казнь, предоставленная природе. Люди как бы и ни при чем: север, болота, глушь, как тут без комаров? Ничего не поделаешь!
И они стояли, эти несчастные "христосики" – темные по знаньям, но светлые по своей вере, недосягаемо вознесенные ею. Замученные и осмеянные, хилые, но способные принять смерть– за свои убеждения.
Тщетно приступал к ним взбешенный начальник, порвал на ослушниках рубахи – пусть комары вовсю жрут эту "падлу"! Стояли молча, покрытые серым шевелящимся саваном. Даже не стонали. Чуть шевелились беззвучно губы.
– Считаю до десяти, ублюдки! Не пойдете – как собак перестреляю... Раз... два...
Лязгнули затворы. Сбившиеся в кучку мужики и бабы как по команде попадали на колени. Нестройно, хрипло запели "Христос воскресе из мертвых...". Начальник исступленно матерится и бросается на них с поднятыми кулаками.
Продержали их несколько часов. Взмолились изъеденные стражи. И начальник махнул рукой: "А ну их к..."
О пытке комарами мне приходилось читать в книгах о краснокожих Америки, Леонов рассказал в "Барсуках", что к ней прибегали озверевшие деревенские богатеи. Теперь я знал, как это делается. Потом, на острове, мне пришлось не раз видеть эти окаянные комариные пиршества.
x x x
Снова ощущаю благодетельные последствия вспоротого в тюрьме брюха. Меня, как инвалида, не спускают в трюм корабля, а оставляют на палубе. Я сижу, предоставленный себе, на своем "сидоре" – бауле с пожитками. Тут же бутырский сокамерник – инженер Литвиненко. Он затих, усевшись с поджатыми под себя ногами, и лишь иногда по инерции тихо шепчет и вздыхает. Вообще он непрерывно плачет и причитает. На тюремном жаргоне – "косит на психа". Я тоже подозреваю, что он прикидывается. Во всяком случае, предельно растравляет и преувеличивает свое нервное расстройство.
"Миленькие мои, – целыми днями рыдал он в камере после приговора: трех лет лагерей. – Да за что мне такое? Следователи мои дорогие, хорошие мои люди, всегда уважал вас, любил, а-а-а, Советскую власть вот как люблю, о Ленине плачу! Нет его, заступника..." Он всхлипывал у двери, в глазок, чтобы слышал коридорный, охал и стонал, кита-йским болванчиком раскачивался на нарах. И всем надоел. Его одергивали и бранили, урезонивали, стыдили. Он же только продолжал повторять свое "Миленькие вы мои!", ебливаясь слезами.
Внезапная перемена – Литвиненко до того сыпал прибаутками, посмеивался, с аппетитом ел – не убедила тюремного врача. Его продержали десять дней в больнице и, признав психически здоровым, отправили на этап.
В Кемьперпункт он прибыл вскоре после меня. И там уже прочно вошел в роль расслабленного юродивого. Роль, самую неблагодарную в лагерной обстановке. Отказчик и "филон" для нарядчика и охранников, он – беспомощное ничтожество в глазах зэков, затравленных и потому ищущих, над кем безнаказанно поиздеваться. "Психов" обирают до нитки, загоняют в самый грязный угол, выталкивают из очереди за баландой. Самые бессовестные отнимают пайку.
И "психи" быстро доходят – становятся "фитилями", слюнявым, грязным и вшивым отребьем, какое свозят на пропащие инвалидные лагпункты, а оттуда – в яму...
На палубе, кроме нас, нет никого, и Литвшгенко замолк. Сидит, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Разумеется, он болен: мешки под глазами, отечное лицо, дряблые щеки. Три месяца назад это был румяный здоровяк. Поговорить с ним? Отклонить от затеянной безвыигрышной затеи? Но с первых моих слов он начинает плаксиво причитать. А обстановка слишком исключительна, чтобы долго хлопотать о судьбе этого горюна.
Боже мой! Облитая солнцем гладь моря, свежий его запах, наносимый ветром, легким и ласковым... Вереница мягких сверкающих облаков, улегшихся у самой воды. Крупные чайки лениво машут крыльями, летят рядом, так близко, что различаешь всякое перышко... Простор, воля! Корабль идет плавно и бесшумно, скользит по бесконечной равнине, оставляя позади белеющую пеной дорогу, не исчезающую, сколько хватает глаз. День жаркий, но от воды тянет прохладой. И все вокруг – свет, тепло, тишина – охватывает, словно ласковыми руками, баюкает, врачует...
Но язвит душу память о бараке и его грязи, о стойкой пронзительной вони скученных тел, заношенного платья и давленых клопов. Вечной зарубкой на сердце – память об измученных, распухших от укусов лицах, о подростке с крепко закушенной губой и размывшими кровь на лице слезами... Память о конвоирах, ударами приклада наотмашь – куда попадет! – подбадривающих выводимых за зону арестантов. Об "убитых при попытке к бегству"...
...С настойчивостью отчаяния приступал этот паренек к нарядчику. Я прислушался. И всего-то вымаливал он разрешение идти на работу с другой партией! Не взлю-бил его конвоир и, если отправят на работу с ним, застрелит. Не перевели. Как бедняга ни втискивался в середину строя, ни хоронился, конвоир таки подкараулил, когда тат неосторожно отделился за нуждой. И застрелил – в двух шагах от строя. При повытке к бегству, разумеется...
Только что оставленный подлый и грязный – ничего возвышенного – ад не иокидает меня и здесь, на палубе. А тут еще этот малодушный, слабый человечек, уцепившийся за юродство, как за сдаеение. Досадно за собрата-интеллигента, играющего такую комедию, применяемую уголовниками, но и осуждать ие велит совесть: не хватило стойкости!
Из-под вздетого форштевня обозначились очертания берега – темной неровной линии над обрезом моря – с четким белым пятном строений. Как ни мало интересовались мы, русские люди начала века, историей своей церкви, как ш равнодушно, а то и предвзято, ни относились к монашеству, – обаяние Соловецкого монастыря пережило наводнение трезлых позитивных воззрений. И в то безвременье молва о тунеядцах монахах, корыстью, ленью и блудом порочащих православные обители, обходила Соловецкую. И в чуждом древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках – строгий устав и Ч!ин служб едва не дониконовские. Что туда стекаются мужики из разных губерний – молиться и работать на святых угодников Зосиму и Савватия. А когда началась война с Германией, монастырь откликнулся по-минински: тряхнул богатой казной, открыл в столице лазарет на шестьсот коек. По примеру монастырей XVII века оплотов веры и государства – жертвовал отечеству крупные суммы.
Вход в бухту вешили каменные глыбы с огромными крестами из лиственницы. Открылись белые силуэты обезглавленных соборов и колокольни. Купола заменены пирамидальными тесовыми крышами. Но неизменными, такими же, как на старых гравюрах, высились на монастырской стене тяжелые башни с конусным верхом. Эта сложенная из гранитных валунов ограда, казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь ее видеть, первое впечатление вечности созданного – не сглаживалось.
Прежние путешественники на Соловецкие острова рассказывали о слезах, о сиявших счастием лицах богомольцев, при виде седой обители забывавших беды многотрудной жизни. Я был слишком человеком своего времени, закрытым для подобного просветления, и все-таки... И все-таки с невольным трепетом всматривался в несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым покушениям...
Корабль вплыл в тень каменных громад монастыря. Этап, сбиваемый кулаками, оглушаемый святотатственной бранью, сошел на берег. И еще сильнее, чем на палубе, я ощутил, что здесь святыня длинной чреды поколений моих предков: точно незримо реяли вокруг их душевные устремления, их смиренные помыслы.
Кто искал здесь утешения, приходил за очищением, кто усердной молитвой и обращением к религиозным началам жизни надеялся помочь людям в их скорбях. Почти шесть веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы. Молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно веровавшие в добрую людскую суть. И тщились побороть силы зла, вывести к свету и радости с темных перепутий жизни.
Теперь, что не стало больше окутывавшей остров оберегаемой от века тишины; что место смирных монахов и просветленных богомольцев заступили разношерстные лагерники и свирепые чекисты; что уже меркли тени прежних молельников за Русь и на развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа, – душа и сердце продолжали испытывать таинственное влияние вершившейся здесь веками жизни... несмотря ни на что! Влияние, заставлявшее вдумываться в значение подвига и испытаний.
x x x
В Преображенском соборе находилась тринадцатая – карантинная – рота: сюда помещали привезенных на остров этапников.
Нары в три яруса заселены сплошь. Люди шевелятся как тени, говорят вполголоса, и тем не менее в высоком куполе древнего храма этот сдержанный шум и случайные возгласы отдаются несмолкаемым гудением... Некий чудовищный улей.
Улей этот в непрерывном движении: одних угоняют, другие поступают, соседи то и дело меняются. Много преступников – воров и убийц, однако здесь же и тесные кучки мужиков в тяжелых овчинных полушубках: они крепко держатся друг друга. В темные углы забились сектанты с изможденными лицами, лихорадочными глазами и нательными крестиками, сделанными из связанных ниткой палочек, висящими на гайтанах из женских волос. Попадаются старцы с сенаторскими бакенбардами и старомодными пенсне на потертом шнурке.
Окрики вахтеров заставляют всех оторопело вскакивать, бестолково бросаться с готовностью выполнить любое приказание. Одни сектанты сидят по-прежнему отрешенными, словно ничего вокруг их не затрагивает.
По проходу между нарами медленно идет в окружении целой свиты начальник пересылки – легендарный Курило, с ногами колесом, как у заправского кавалериста, и со стеком в руке. У него неторопливые жесты, негромкий голос, глаза прищурены. Иногда он, приостановившись, начинает кого-нибудь пристально в упор разглядывать. Молча. И вдруг молниеносно хлестнет наотмашь стеком, норовя рассечь лицо. Потом продолжает обход.
И каждую ночь в бывшем притворе происходят расправы. Оттуда доносятся вопли и выволакивают в кровь избитых людей. Их бросают в карцер – огромное подземелье под собором.
Но вот Курило остановился против меня. Я сижу на краю нар. Разглядываю его сблизи. У него подчеркнуто офицерская выправка, он слегка подергивает обтянутой галифе ляжкой, небрежно играет стеком. На нем тонкие кожаные перчатки – не марать же руки!
– Не вставайте, ради Бога, – предупреждает он мою попытку подняться перед начальством. Курило слегка, по-петербургски, грассирует. – Мне про вас говорили. Я тоже петербуржец, хотя служил в Варшавской гвардии...
Мы вспоминаем Петербург, находим общих знакомых, называем дома, где обоим приходилось бывать – мир тесен! Курило, оказывается, второй год в заключении, устроен сносно, "насколько возможно в этих условиях, ву компренэ...", и готов оказать содействие. Пять минут назад он на моих глазах хлестал по лицу, кощунственно матерясь, подвернувшегося старого еврея, вероятно, провизора или мелкого почтового чиновника в прошлом.








