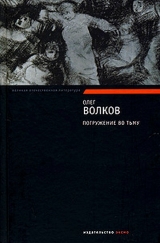
Текст книги "Погружение во тьму"
Автор книги: Олег Волков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
Однако отец и слышать не хотел ни о каких отъездах – даже "временных", как рисовалось тогда. Не то чтобы он оставался глух к предупреждениям Шклявера или сам не видел бессилия умеренных политиков спасти Россию от крушения, каким ему представлялся переход власти в руки крайних партий. Но крысы, покидающие обреченный корабль, – образ для русского интеллигента неприемлемый... Допустимо ли оставлять родину в беде?.. Были, кроме того, смутные упования на какие-то непредвиденные благоприятные обстоятельства "авось да все образуется", несомненное предубеждение к жизни эмигранта, боязнь лишиться родных стен, милой русской земли... Словом, целая цепь причин и обстоятельств, делавших для отца расставание с Россией невозможным.
– Как это переводить деньги иностранным банкам? Государственный долг России и без того огромен, – убеждал он не только меня с братом, приступившим к нему с просьбой отправить нас учиться в Англию. – Мы русские или нет? Недалек конец войны. А тогда сам собой устроится порядок. Даже смешным покажется, что из-за каких-то демагогов, вроде Троцкого и Ленина, мы поддались панике. Все эти агитаторы и понятия не имеют о России! Жили себе за границей, высасывая из пальца теории, а русского народа и в глаза не видели. Да и все их схемы еще Достоевский развенчал... Ах, Боже мой, если бы мы были чуть более образованными! Тогда понимали бы, как опасна для народа эта социальная демагогия... Ну что они могут дать России? Гражданскую междоусобицу, анархию, тиранию и – реки крови... А в результате тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты... Нет, нет, нельзя удирать, нельзя допустить, чтобы авантюристы обманули народ.
Это настроение в отце поддерживали вести из деревни: приказчик отписывал, что дом к приезду подготовлен, весенние работы в огородах и оранжерее идут своим чередом... Все-де благополучно и спокойно. И было решено: семья – мать с младшими детьми – отбудет в положенное время, в середине мая, в деревню. Мы же с братом – моим близнецом, поедем вслед за ними после экзаменов. И мы перестали думать об Англии.
Еще несколько ранее, в марте, для нас открылось новое поприще – весьма привлекательное в семнадцать лет. Несколько недель мы выполняли обязанности городовых, а кто постарше – околоточных, в рядах новоявленной милиции, заменившей разогнанных чинов полиции. Юнцам – старшеклассникам и студентам импонировала роль увешанных оружием всамделишных стражей города, властных остановить прохожего, проверить постояльцев в номерах, обыскать трактир, заподозренный в торговле запрещенными спиртными напитками.
В моей семье, исповедовавшей добротный российский либерализм, это служение новым порядкам рассматривалось как выполнение патриотического долга и укрепление законности, преграждающее путь анархии и беспорядкам. Однако наши рассказы о ночных похождениях чрезвычайно смущали мать: какая опасность для нравственности от соприкосновения со всякими вертепами и их обитательницами! И быстро сдавшийся отец предложил нам вернуться к нашим прямым обязанностям: я вновь углубился в латинские склонения, брат Всеволод за.частил в студию Рериха. Он надеялся осенью поступить в Академию художеств.
x x x
После отъезда семьи в квартире сделалось очень тихо и пустынно. Отец уезжал с утра и чаще всего давал знать, что не вернется к обеду. Всеволод, решив воспользоваться отсутствием докучного домашнего надзора, порхал по знакомым, участвовал в не совсем праведных загородных прогулках – словом, еще не приобщившись к миру богемы, стал заранее познавать ее нравы.
Его дела в студии, кстати, шли отлично. Он уже считал себя питомцем Академии. Надолго исчезали из дома пожилая наша кухарка и шустрая горничная. Очереди у булочных – хороший предлог для отлучек. Неметеные пыльные улицы Петрограда в начале этого лета стали подлинным клубом, где праздная за отъездом господ прислуга, отмененные дворники и пропасть досужего люда на все лады толковали и перетолковывали вороха новостей и слухов, щедро просыпавшихся на столицу.
Я был настроен серьезнее брата (его вдохновляли натурщицы, меня доблести римских консулов) и усидчиво занимался за своим столом или рылся в шкафах отцовской библиотеки. Изредка гулкую тишину пустой квартиры нарушало пронзительное дребезжание телефона – тогдашние аппараты трещали на манер старинных будильников. Звонили знакомые и родственники – все сообщали об отъезде. "Передай маме или папе, что мы уезжаем туда-то тогда-то"... Вечером я докладывал отцу: Ефремовы или Игнатьевы просили дать им знать в Новочеркасск, когда и куда мы соберемся; снова звонили от бабушки – она все же решилась переехать "на время" к младшей дочери в Орел; такие-те обнимают и надеются на скорую встречу в Париже... Начинался великий исход российской интеллигенции за рубежи ощетинившейся отчизны...
Отец, и без того расстроенный и утомленный – заводы замирали и администрация была бессильна остановить развал, – выслушивал меня молча и спешил уединиться в своем кабинете. При каждом таком бегстве он падал духом. Его мучило, хоть он и не признавался, что он отказался укрыть семью от грядущих превратностей. Прав ли он, что не едет за границу?
Особенно поразило отца внезапное решение эмигрировать нашего домовладельца Николая Степановича Цвылева, его приятеля с отроческих лет. Тот принадлежал к старинному роду богатых новоторжских купцов, с которыми отец состоял в дальнем родстве по материнской линии. Едва ли не каждый вечер они играли в винт, большей частью у Николая Степановича, благо мы жили на одной лестнице.
Мне никогда прежде не приходилось видеть отца таким удрученным и озабоченным, как в день, когда его друг объявил, что "собрался бежать, пока нас тут всех не перерезали". Отец долго потом ходил мрачным и молчаливым.
Тучи вокруг сгущались. В начале июня семнадцатого года этого нельзя было не ощущать, особенно в Питере, уже раскипевшемся и забурлившем всеми выплеснувшимися наружу страстями. В стрельбе на Невском можно было различить призрак грядущей гражданской смуты. Именно тогда отец принял ничего не разрешающее половинчатое решение: перевел в иностранный банк часть своего состояния. Но покинуть Россию не решился...
Ах, кабы Волга-матушка да побежала вспять да кабы можно было жизнь сначала начать!
Я лежу на своих досках, тесно ужатый с двух сторон соседями, и гадаю: как бы обернулась жизнь, последуй отец совету своего друга-банкира?
Идет одиннадцатый год революции. Многое определилось. Многое утрачено безвозвратно. Есть ли приобретения? Разве горькое удовлетворение по поводу оправдавшихся ожиданий: раскаиваться в своем неприятии "октября" не приходится – все обернулось именно так, как предчувствовалось тогда, при виде первых начиненных мстительной ненавистью людских потоков, заливших проспекты Петрограда... Поманив мужиков землей и призывом "Обогащайтесь!", уверив пролетариат, что он сам – власть (а раз так, то какие протесты?), спаянные круговой порукой правители стали лихорадочно расправляться с возможными конкурентами. Внушив страх, покорность и немоту, развязали себе руки для экспериментов. Да, это все виделось и тогда, сквозь мишуру слов о новой, какой-то особой свободе и демократии в пролетарском государстве.
Члена Думы Половцова, владевшего стихом и написавшего политическую сатиру – поэму о дуре Федоре, распустившей уши на сладкие посулы, – давно нет в живых. Как, впрочем, и Ленина, чье имя стало знаменем и вывеской, за которыми закладываются основы правления – самого непререкаемого и авторитарного, какое только можно себе представить.
Тогда, в 1917 году, Половцов заметался. Убедившись, что ему, бывшему предводителю дворянства Могилев-ской губернии, туда лучше не показываться, а оставаться в Петрограде опасно, он в конце лета приехал к нам, в Тверскую губернию.
В нашей благословенной Никольской велости было спокойно. Окрестные мужики не проявляли враждебных чувств. Но в Торжке, нашем уездном городе, обстановка сильно накалилась. После октябрьского переворота там сразу появился эмиссар новой власти – как выяснилось потом, самозванец – матрос Клюев, дебютировавший расстрелом десятка заложников и конфискациями, смахивавшими на грабеж.
Иван Федорович снова метнулся в Питер – со смутными планами о чем-то договориться, что-то предпринять. Но ни к каким заранее обреченным замыслам приступить не удалось: он вскоре захворал и умер в своей нетопленой холостяцкой квартире... Без единой души, какая бы напоследок с нем позаботилась... Жившая у него экономка поспешила, едва ее барин слег, съехать, прихватив, что только удалось, из его добра. У Половцова была собрана коллекция ценного охотничьего оружия.
Давно умер и отец – вдали от семьи, однако в доме доброго человека, старого священника села Михаила Архангела на Волхове. После бегства из усадьбы, как раз во время бесчинств Клюева, отец провел там зиму: возле того села закладывались сооружения Волховской электростанции. Строительством руководил друг отца генерал Кривошеий, пригласивший его на должность своего заместителя.
Отцу, наверное, пока он брел пешком со своей по-повки в контору строительства – одинокая прямая фигура, темнеющая на глади волховского льда, – не раз сквозь тревогу за оставленную в деревне беспомощную и беззащитную семью, вспоминались упущенные возможности. Мучили страхи за нашу участь. Мы не переписывались – боялись выдать отцовский адрес, и он мог вообразить любые беды. Как бы легче было ему, знай он, что нас, и в самом деле неприспособленных, растерявшихся – Всеволод и я оказались опорой, кормильцами младших сестер и братьев, восьмидесятилетней бабушки, привезенной к. нам после тяжких мытарств, матери, всю жизнь прожившей огражденной от забот, – знай он, что нас опекали знакомые мужики! Те самые, что приходили к нему со своими нуждами и бедами, помнили его с детства, водили на охоту, наконец, служили у него на усадьбе. Мужики, уважению к которым он учил нас с детства и доверием которых гордился...
Какой-нибудь задиристый и взбалмошный Иван Архипов, старый волчатник Христофор или" молчаливый длиннобородый Самойло, прежний конюх, заходили к нам как бы невзначай, по пути в лес или в лога, чтобы не приметили новые власти. И, расспросив барыню о. здоровье, задержавшись по этикету за спотыкливым разговором, уже прощаясь, в последнюю минуту, неловко вынимали из-за пазухи или кузовка завернутые в тряпицу хлеб, кусок солонины или рыбину, яйца, банку меда, совали, спесняяеь, кому-нибудь иа детей: "Нате-ка деревенского гостшщаЬ. – и торопились уй.ти.
Чаще мужики присылали своих баб с меркой картофеля или мукой. Бабы сокрушались открыто: "И какая вам жизнь пришла! Хлеба доеыта не стало!" И мать, как ни держалась, плакала. Должно быть, не только растроганная, но и от горького сознания, что всегда была предубеждена против мужиков: она всю жизнь боялась деревни...
И не передать, до чего было дорого тогда это сочувствие, прорывавшее замыкавшееся вокруг нас кольцо недоброжелательства и отчуждения.
Отец об этом не знал, хотя верил в прочность своих добрососедских отношений с окрестными деревнями. Должно быть, надеялся, что. "свои" мужики не обидят. Но знал он и то, что они. от власти не защита. Да и время настало, когда сын от отца отрекается, друг предает друга...
Так и умер, снедаемый тревогой, пришибленный крушением своей веры в Россию. Умер скоропостижно, разуваясь после возвращения из конторы. Об этом мы изве-стились много спустя: священник не знал нашего адреса, письмо его долго плутало.
Темной осенней ночью 1919 года пешком через границу ушли в Финляндию генерал Гри-Гри, как прозывался у нас Григорий Григорьевич Кривошеин, с женой – грузной дамой возраста моей матери, дочерью – гимназисткой, старших классов и двумя сыновьями – военными инженерами. Те несли мать на руках...
Отец умер в феврале девятнадцатого года, когда уже бушевала гражданская война. Когда от жуткой расправы с царем и его семьей пахнуло возвращением к временам опричнины и казням Ивана Грозного. Когда более лишений и голода Россию придавила проводимая беспощадной рукой ломка прежних устоев. И ошеломленная кровавыми расправами страна, отученная молиться, погрузилась в страх и немоту. И уже явственно обозначилось крушение иллюзий, свойственных людям его среды и поколения.
Родился отец в 1861 году, за две недели до отмены крепостного права. Рос и мужал в разгар Великих реформ. Корнями принадлежал тем средним слоям провинции, где прочно уверовали в пользу просвещения, земских учреждений и спасительность постепенного преображения жизни. Где воспитывалось сознаиие в высшей степени – своего долга перед "младшим братом".
Так случилось, что рано осиротевшего отца, оставшегося без всяких средств, увезла из Вышнего Волочка к себе дальняя тетка, богатая вдова новоторжского промышленника Красноперова. Она более заботилась о подготовке племянника к практической деятельности, чем поощряла обучению наукам. Закончив в шестнадцать лет городское училище, отец стал заниматься делами тетки, вскоре поручившей ему управление своими паровыми мельницами и небольшим имением.
Решающее влияние на отца оказало общение с семьей соседних помещиков Петрункевичей. Оттуда вышли будущие столпы российского либерализма, составившие впоследствии партию конституционных демократов. Там молились на Кони и Ковалевского, были в ходу близкие к народничеству взгляды на крестьян. И отец, деятельный и увлекающийся, то унаствовал во Всероссийском съезде мукомолов – самым юным его делегатом от уезда, – то в качестве гласного городской управы хлопотал об открытии школ и больниц, добивался учреждения стипендий у местных тузов-благотворителей.
Женившись в последние годы века на моей матери – племяннице соседки по имению, вдовы известного ученого-артиллериста генерала Н. В. Маевского, отец расстался с деревенским житьем и переехал в Петербург. Поприщем избрал службу в частных компаниях, хотя связи, приобретенные благодаря родне жены, и открывали ему облегченный путь продвижения по ступенькам табели о рангах. Думаю, что в этом сказывалось предубеждение к касте чиновников, свойственное вольнодумцам того времени, чтившим авторитет шестидесятников, Успенских и Михайловских. Деревня была оставлена, но не забыта: теперь туда приезжали, как на дачу, в летние месяцы.
Уже в юношеском возрасте я узнавал от старых крестьян о большой вальцовой мельнице, где работало и кормилось несколько окрестных деревень, сгоревшей в первые годы столетия; об изведенной стае гончих и былых волчьих облавах; о распаханных отцом в пору его увлечения хлебопашеством полях, теперь заросших лесом. В запущенном парке высилась Негрова могила сооруженная из крупных валунов пирамида над любимым черным пойнтером отца Негром; в сарае лежали ощетинившиеся зубьями заморские цепные бороны и монументальных размеров остовы плугов, некогда бороздивших от века спящие десятины лесных пустошей. Крестьяне рассказывали о "Василь Ляксандровиче" как о человеке понятном и доступном. Поминали добром прожитые с ним годы. Мужики намекали, что-де, женившись на "генеральской дочери", как величали они мою мать (хотя дед мой по матери вышел в отставку в капитанском чине), отец распростился с вольной деревенской жизнью. И многозначительно вздыхали: то ли было не житье – с охотами, лошадьми, веселыми разъездами! Особенно отмечалось прежнее пристрастие отца – неутомимого охотника и меткого стрелка – к полевым досугам. На удивление всем, он вскоре после женитьбы решительно покончил с охотой, перестал интересоваться выездами и пристрастился к цветоводству. Да еще завел всевозможную рыболовную снасть.
Впрочем, более этого изменения вкусов отца мужики про себя отмечали наступившее разобщение, конец привычных отношений. Словно не стало прежнего "своего" деревенского соседа, с которым сжились, несмотря на разность положения и состояний. Когда живут долгие годы бок о бок, помещик начинает знать и вникать во все мелочи домашней обстановки жителей своей деревни. Может посочувствовать терпящему от сварливого или гулли-вого нрава его бабы, помочь советом и делом. Мужику же становятся известны все обстоятельства событий на усадьбе, и он не без лукавства заводит разговор о зачастившей туда барыньке из недалекого сельца... Каждодневное общение сменилось редкими встречами с наезжавшим из столицы петербургским барином, которого надо посвящать в местные дела... А у него и времени для этого нет, обстоятельно не побеседуешь!
Однако охотничьи собаки были раздарены и ружья пылились на стойке не потому, что "подрезали соколу крылья", как полагали в деревне, а из-за исканий отца. Пора увлечения проповедью Толстого сменилась значительным интересом к входившим в моду теософам и индусским учениям. Отец не только не ездил по праздникам с семьей в церковь, но избегал присутствовать на молебнах, устраиваемых по разным случаям на дому. И сделался вегетарианцем. Замечу, однако, что эта новая направленность убеждений и правил отца была не способна окончательно заглушить в нем страсть охотника – во всяком случае, он позаботился, чтобы у нас с братом, когда мы подросли, были ружья и собаки. Немолодой егерь Никита был приглашен направлять наши первые шаги в лесу, хотя мать, по сочувствию своему ко всему живому, не одобряла нашего посвящения в Немвроды.
Потом, когда отца не стало, обстоятельства надолго отгородили меня от потока деятельной жизни. Это способствовало длительным размышлениям. И я, перебирая в памяти вехи его жизни, известные мне, к сожалению, лишь в общих чертах, все хотел угадать: был ли он в душе удовлетворен тем, как она сложилась? Радовали ли его успешная карьера делового человека и приобретенное состояние? Заполнили ли они целиком его жизнь? Или не покидало никогда подспудное сожаление о минувших деревенских заботах и радостях? Не томило ли когда воспоминание о запахах земли, первых весенних движениях жизни в природе? Заменили ли ему наконец легкие городские связи и приятельства прежнюю близость с земляками? Я все вспоминал, каким оживленным и помолодевшим возвращался отец из своих долгих лесных прогулок, с каким добродушным юмором передавал беседу с встреченным ненароком деревенским знакомым стариком, укорявшим его за то, что ходит он по своему лесу не с ружьем и собакой, а с топориком и метит им сухостой...
– И без тебя знают, какое дерево на дрова рубить: ишь, дело себе нашел... За пастухом бы своим лучше глядел, чего он скотину по покосам распускает!
Но отца решительно не занимало кое-как ведущееся хозяйство. Он попросту не входил в его заботы, поручив их приказчику, своему бывшему крупчатнику, то есть самому значительному лицу на его мельнице. Зато лес бтец любил! Берег и в случае нужды распоряжался покупать бревна у лесопромышленников, но своего не сводил. Если он неизменно велел отпустить с миром деревенских коней и коров, пойманных ретивым работником на наших угодьях, то порубщика он вряд ли легко простил бы!
Зато как хороши были эти несколько сот десятин нетронутого леса! Они тянулись по правому берегу Осу-ги с ее глубокими плесами и заросшими утиными заводями. Мохнатые непроницаемые опушки, светлые, залитые солнцем сосновые боры, густые темные ельники, веселые березовые рощи... А какие укромные, говорливые родники прятались в тихих ложках! Что за чистая, студеная вода бежала по разноцветным, сверкающим камушкам... В светлые майские дни осинники и разнолесье полнились голосами птиц. Отец знал, как поет каждая пичуга. Мог рассказывать о любом цветке и травке...
И мне представлялось, что в родных деревенских местах душа у отца распахивалась шире. В каждодневное существование вливались тепло и покой узнанной с детских лет деревенской жизни. Она же рисовалась ему прибежищем и исходом в роковые месяцы семнадцатого года. Отправив семью в деревню, отец, подавленный грозным оборотом дел в столице, приехал туда и сам. "Переждать бурю в тихой гавани" – так, вероятно, рисовалось ему отсиживание в имении, пока бушуют яростные городские стихии. И вынужденное бегство оттуда было для отца окончательным крушением, утратой веры в ценность и правду своих идеалов: он мог убедиться, что в день испытаний оказался не в одном стане с дорогим ему крестьянским миром, а отнесенным к его врагам. Отец, я не сомневаюсь, до последнего своего часа считал мужиков,не враждебными ему лично, а жертвами искусной пропаганды, манившей немедленной раздачей земли и обогащением за счет буржуев. И все же он должен был переживать горчайшее разочарование. Не мирных и обходительных земских деятелей, сельских врачей и учителей, посвятивших себя деревне, послушались мужики, не им поверили. А слепо и безрассудно потянулись за теми, кто больше сулил, звал мстить и "грабить награбленное".
Как и значительная часть старой русской интеллигенции, отец более всего ценил непопранное человеческое достоинство, право свободно мыслить. И в старых порядках отвергал прежде всего ущемление этого права, насильственные пути. Он верил в силу убеждения, рисовал себе свободные, открытые трибуны, форумы, где из столкновения мнений рождается истина!
За те два с лишним года, что отец прожил после революции, уже отчетливо и бесповоротно определилось: захватившие власть большевики озабочены в первую очередь подавлением свободного слова, проблесков самостоятельной мысли, истреблением всякого сопротивления. Им нужно заставить признать себя единственным выразителем воли народа и вождем, которому все обязаны слепо подчиняться. Круто укрощаемый мужик и несколько мягче взнуздываемый рабочий должны были отождествлять себя с властью.
Но говорить об этом, разоблачать самозванство и обман, растолковывать, что железная решетка новых ио-рядков ведет к закабалению и образованию олигархии, уже было нельзя. Да и бесполезно: в первые годы революции язык разума и сердца не мог быть понят и услышан. В возбужденной толгае всегда восторжествует дерзкий демагог, льстящий ее настроениям, и будет посрамлен разумный, увещевающий голос.
Очень тяжелыми, трагически грустными должны были быть размышления и переживания русских просвещенных людей, оказавшихся у разбитого корыта своих человеколюбивых бескорыстных идеалов, какими они жили вплоть до октябрьского переворота семнадцатого рубежного года. Тем более тяжелыми, что темным и гибельным виделся им путь, на который столкнули Россию новые правители. Им, мечтавшим о пробуждении и расцвете русской души. И где-то в глубине сознания должно было томить раскаяние, понимание своей, пусть косвенной, вины перед царем Освободителем, мудро и бесстрашно направившим Россию по верному пути справедливого устройства, процветания и дэстойной жизни...
И, быть может, милостью Божией был для отца сердечный приетуп, унесший его в могилу на пятьдесят восьмом году жизии. Он увидел только цветки, еще мог держаться слабой надежды... Ягодки завязались ч"рез десяток свирепых и кровавых лет.
Глава
ТРЕТЬЯ
В Ноевом ковчеге
Здесь тихо. Почти просторно. И – главное – дверь в коридор постоянно не заперта. Можно, когда вздумаешь, без надзора проследовать в отхожее место. И там никто за тобой не присматривает и не торопит: свобода! После толкотливой и душной камеры тюремная больница была курортом. Повезло и с соседями: тихие, спокойные люди – все больше молчат, лежат с книгой или, как я, отсыпаются.
Мне удалили аппендикс. Операция прошла легко, и я полеживаю расслабленно и умиротворенно. Отчасти потому, что расписался в уведомлении об окончании следствия. Иначе говоря, знаю, что меня не станут больше таскать на допросы и дополнительно "шить" – по перенятому у уголовников словечку – какое-нибудь состряпанное дело. Следователи, видимо, решили: наскреб-лось достаточно, чтобы Тройка или Особое совещание уцепились за видимость провинности и могли "по совести" влепить мне срок. Приобретенные за четыре месяца тюрьмы опыт и знания позволяли угадать исход: мне предстоит трехлетняя высылка, к какой обычно присуждают "болтунов", как окрестили "агитаторов" – рассказчиков анекдотов и веселых неосмотрительных людей, отпускающих острые шуточки по поводу порядков. С такой перспективой я вполне примирился. С воли передали, чтобы я выбирал Ясную Поляну, где меня устроят друзья семьи.
Итак, я ждал. Коротал как мог время и воображал будущее. Судьба, думается, распоряжается так, чтобы я взялся всерьез за дело: от дилетантских попыток писать перешел к серьезной литературной работе. Скрашивал ожидание и близкий мне человек.
Георгий Михайлович Осоргин был несколько старше меня. Уже в четырнадцатом году он новоиспеченным корнетом отличился в лихих кавалерийских делах. Великий князь Николай Николаевич лично наградил его Георгиевским крестом.
Осоргин принадлежал к совершенно особой породе военных – к тем прежним кадровым офицерам, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский, средневековый лад, как некий возвышенный вид служения вассала своему сюзерену. Осоргин боготворил великого князя. Шеф полка, да еще царский дядя, член священной семьи помазанников Божиих, Николай Николаевич облачался Георгием в какие-то недоступно-чистые ризы, и всякий поступок великого князя, его высказывания, привычки и манеры в передаче Георгия приобретали особый, высший смысл.
"Его высочество", как нередко называл он Николая Николаевича, был и лучшим наездником в русской кавалерии – "А это что-нибудь да значит, дорогой мой, при наших-то кентаврах!", – обожаемым командиром и отцом солдатам, примером преданности традициям русской армии.
В роковые первые месяцы войны гвардейская кавалерия, заведенная бездарным генералом Безобразовым под немецкие пушки, была разгромлена. Уцелевшего Георгия ненадолго причислили к штабу Верховного Главнокомандующего – великого князя, – и он "имел счастье" выполнять собственные приказания Николая Николаевича. К традиционному преклонению прибавилась личная преданность. То был кульминационный период жизни Осоргина.
Всякую крупицу воспоминаний о великом князе он берег свято.
...Вот Николай Николаевич, задержавшись в дежурной комнате, напомнил Георгию, что они однополчане – великий князь не только был шефом Конного полка, но некогда командовал им, – и расспросил его о старых офицерах. И Георгий, воспроизводя эту краткую сцену, переживал ее неповторимость. Голос его звенел... И мне видятся со стороны саженная сухопарая фигура, суровое лицо главнокомандующего и миниатюрный, худенький Георгий, вытянувшийся в струнку и снизу вверх взирающий на своего кумира. Он – кумир, – всегда резкий и требовательный к офицерам, тут, при встрече, напомнившей молодость, оттаял и говорит вежливо, мягко, как умели все Романовы...
Убежденный, не ведающий сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной царской семьи. Как раз он был в числе офицеров, участвовавших в попытке ее спасти, был выдан и присужден к расстрелу. По какому-то случаю его амнистировали, а спустя немного лет снова схватили.
Приговоренный к десяти годам, Георгий отбывал срок в рабочих корпусах Бутырской тюрьмы. Должность библиотекаря позволяла ему носить книги в больничную палату. Будто перечисляя заглавия иностранных книг, он по-французски передавал мне новости с воли, искоса поглядывая на внимательно и тупо слушающего нас надзирателя.
Именитый, старинный род Осоргиных вел свою генеалогию от св. Иулиании. Приверженный семейным традициям, Георгий наследственно был глубоко верующим. Да еще на московский лад! То есть знал и соблюдал православные обряды во всей их вековой нерушимости – пел на клиросах и не упускал случая облачиться в стихарь для участия в архиерейском служении...
Как-то Георгий зашел проститься.
– Слава Богу, удалось-таки выхлопотать перевод в лагерь, – с облегчением сказал он. – Отправят на Соловки. На Соловецкие острова! Чистое небо, озера... Святыни наши. Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа...
От него же я узнал: справлявшиеся обо мне в прокуратуре близкие подтверждают, что меня вышлют.
Воистину, "что нашего незнанья и беспомощней, и грустней..." Я отбыл на Соловках два неполных срока – и вернулся. Осоргин нашел там свою смерть. Вскоре после своего водворения в лагерь... "Кто смеет молвить "до свиданья" чрез бездну двух или трех дней?"
...В один день со мной такую же операцию аппендицита сделали моему соседу по койке Махмуду Мамедову, уроженцу Закавказья. Случайная и недолгая эта встреча запомнилась навсегда.
В то время в Бутырке их было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусаватистов. Цвет тюркской – по-позднейшему, азербайджанской интеллигенции... Мне открылся мир неведомый и своеобразный.
Мир небольшого народа, отчаянно отстаивающего свою самостоятельность. Свои традиционные воззрения и обычаи дедов.
Когда потом пришлось бок о бок жить с мусаватистами на Соловках, я видел, каким сыновним уважением окружены у них седоголовые, как заботливо следят старшие, чтобы никто не был обделен за братской трапезой, как внимательны к тем, кто ищет уединения для молитвы... По ним я мог судить, насколько далеко зашло за минувшее десятилетие одичание русского общества. Как ожесточились характеры по сравнению с окраинным народом, куда позднее проникли и где на первых порах осторожнее внедрялись заповеди новой морали.
Смуглый, почти черный на белизне постели, Махмуд сидит, скрестив по-восточному ноги. Он рассказывает о своем крае.
Хотя Махмуд был учителем в районном городке, в нем так очевидна слитность с природой. И чудились мне в певучих интонациях его голоса приглушенные звуки пастушьего табора, разносящиеся над горными пастбищами и пустынными ущельями его родного Карабаха.
Веснами всей семьей, с барантой, коровами, с навьюченными домашним скарбом лошадьми откочевывали в горы, на пастбища, к заснеженным вершинам. И там, в шатрах, устланных коврами, подолгу жили, изготовляя сыры и молясь Аллаху. Месяцы жизни под близкими звездами, в сосредоточенной тишине пустынных гор – и осеннее возвращение в долины, к людям, в мир насилия и противоречий. Они вступали в него, и постепенно размывались накопившиеся в душе примиренность и покой, меркли ощущения сына земли, смиренно склоненного перед начертаниями правящей миром Высшей Духовной Силы...
События захлестнувшей Россию революции разливались по Закавказью, наслаиваясь на местные соперничества и национальную рознь. Обстановка эта развязывала руки для сведения счетов между кланами и общинами, для расплаты по старым обидам. Махмуд видел в преследовании мусаватистов кровавую расправу с личными врагами ставленника Москвы Багирова, тогдашнего азербайджанского проконсула.








