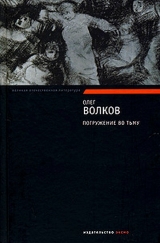
Текст книги "Погружение во тьму"
Автор книги: Олег Волков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Волков Олег Васильевич
Погружение во тьму
Олег Васильевич Волков
Погружение во тьму
Белая книга России
Выпуск 4
Автобиографическое повествование Олега Волкова охватывает период с 1917 года по семидесятые годы. В книге воссозданы обстоятельства жизни человека, подвергавшегося незаконным преследованиям, но сумевшего сохранить чувство человеческого и гражданского достоинства, любовь к Родине, много потрудившегося на ниве отечественной культуры.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Несколько вводных штрихов. (Вместо предисловия)
Глава первая. Начало длинного пути
Глава вторая. Я странствую
Глава третья. В Ноевом ковчеге
Глава четвертая. Гаррота
Глава пятая. В краю непуганых птиц
Глава шестая. На перепутье
Глава седьмая. Еще шестьдесят месяцев жизни
Глава восьмая. И вот, конь бледный
Глава девятая. И возвращаются ветры на круги своя
Глава десятая. По дороге декабристов
Послесловие
Э.Ф. Володин. Послесловие
...Я поздно встал, и на дороге Застигнут ночью Рима был.
Ф. И. Тютчев. Цицерон.
И я взглянул, и вот, конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним...
Откровецие св. Иоанна (гл. 6, стих, 8)
Ольге, дочери моей, посвящаю
НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ ШТРИХОВ
(вместо предисловия)
...Голые выбеленные, стены. Голый квадрат окна. Глухая дверь, с глазком. С высокого потолка свисает яркая, никогда не гаснущая лацпочка, В ее слепящем свете камера особенно пуста и стерильна; все жестко и четко. Даже складки одеяла на плоской постели словно одеревенели.
Этот свет – наваждение. Источник неосознанного беспокойства. От него нельзя отгородиться, отвлечься. Ходишь ли маятником с поворотами через пять шагов или, закружившись, сядешь на табурет, – глаза, уставшие от знакомых потеков краски на параше, трещинок штукатурки, щелей между половицами, от пересчитанных сто раз головок болтов в двери, помимо воли обращаются кверху, чтобы тут же, ослепленными, метнуться по углам. И даже после вечерней поверки, когда разрешается лежать и погружаешься в томительное ночное забытье, сквозь проносящиеся полувоспоминания-полугрезы ощущаешь себя в камере, не освобождаешься от гнетущей невозможности уйти, избавиться от этого бьющего в глаза света. Бездушного, неотвязного, проникающего всюду. Наполняющего бесконечной усталостью...
Эта оголенность предметов под постоянным сильным освещением рождает обостренные представления. Рассудок отбрасывает прочь затеняющие, смягчающие покровы, и на короткие мгновения прозреваешь все вокруг и свою судьбу безнадежно трезвыми очами. Это – щк луч прожектора, каким пограничники вдруг вырвут из мрака темные береговые камни или вдавшуюся в море песчаную косу с обсевшими ее серокрылыми, захваченными врасплох морскими птицами.
Я помню, что именно в этой одиночке Архангельской тюрьмы, где меня продержали около года, в один из бесконечных часов бдения при неотступно сторожившей лампочке, стершей грани между днем и ночью, мне особенно беспощадно и обнаженно открылось, как велика и грозна окружающая нас "пылающая бездна..." Как неодолимы силы затопившего мир зла! И все попытки от-городиться от него заслонами веры и мифов о божественном начале жизни показались жалкими, несостоятельными.
Мысль, подобная беспощадному лучу, пробежала по картинам прожитых лет, наполненных воспоминаниями о жестоких гонениях и расправах. Нет, нет! Невозможен был бы такой их невозбранный разгул, такое выставление на позор и осмеяние нравственных основ жизни, руководи миром верховная благая сила. Каленым железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милосердия – а небеса не разверзлись...
x x x
В середине тридцатых годов, во время генеральных репетиций кровавых мистерий тридцать седьмого, я успел пройти через круги двух следствий и последующих отсидок в Соловецком лагере. Теперь, находясь на пороге третьего срока, я всем существом, кожей ощущал полную безнаказанность насилия. И если до этого внезапного озарения – или помрачения? – обрубившего крылья надежде, я со страстью, усиленной гонениями, прибегал к тайной утешной молитве, упрямо держался за веру отцов и бывал жертвенно настроен, то после него мне сделалось невозможным даже заставить себя перекреститься... И уже отторженными от меня вспоминались тайные службы, совершавшиеся в Соловецком лагере погибшим позже священником.
То был период, когда духовных лиц обряжали в лагерные бушлаты, насильно стригли и брили. За отправление любых треб их расстреливали. Для мирян, прибегнувших к помощи религии, введено было удлинение срока – пятилетний "довесок". И все же отец Иоанн, уже не прежний благообразный священник в рясе и с бородкой, а сутулый, немощный и униженный арестант в грязном, залатанном обмундировании, с безобразно укороченными волосами – его стригли и брили связанным, – изредка ухитрялся выбраться за зону: кто-то добывал ему пропуск через ворота монастырской ограды. И уходил в лес.
Там, на небольшой полянке, укрытой молодыми соснами, собиралась кучка верующих. Приносились хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей антиминс и потребная для службы утварь. Отец Иоанн надевал епитрахиль и фелонь, мятую и вытертую, и начинал вполголоса. Возгласил и тихое пение нашего робкого хора уносились к пустому северному небу; их поглощала обступившая мшарину чаща...
Страшно было попасть в засаду, мерещились выскакивающие из-за деревьев вохровцы – и мы стремились уйти всеми помыслами к горним заступникам. И, бывало, удавалось отрешиться от гнетущих забот. Тогда сердце полнилось благостным миром и в каждом человеке прозревался "брат во Христе". Отрадные, просветленные минуты! В любви и вере виделось оружие против раздирающей людей ненависти. И воскресали знакомые с детства легенды о первых веках христианства.
Чудилась некая связь между этой вот горсткой затравленных, с верой и надеждой внимающих каждому слову отца Иоанна зэков и святыми и мучениками, порожденными гонениями. Может, и две тысячи лет назад апостолы, таким же слабым и простуженным голосом вселяли мужество и надежду в обреченных, напуганных ропотом толпы на скамьях цирка и ревом хищников в вивариях, каким сейчас так просто и душевно напутствует нас, подходящих к кресту, этот гонимый русский попик. Скромный, безвестный и великий...
Мы расходились по одному, чтобы не привлечь внимания.
Трехъярусные нары под гулкими сводами разоренного собора, забитые разношерстным людом, меченным страхом, готовым на все, чтобы выжить, со своими распрями, лютостью, руганью и убожеством, очень скоро поглощали видение обращенной в храм болотистой поляны, чистое, как сказание о православных святителях. Но о них не забывалось...
Ведь не обмирщившаяся церковь одолевала зло, а простые слова любви и прощения, евангельские заветы, отвечавшие, казалось, извечной тяге людей к добру и справедливости. Если и оспаривалось в разные времена право церкви на власть в мире и преследование инакомыслия, то никакие государственные установления, социальные реформы и теории никогда не посягали на изначальные христианские добродетели. Религия и духовенство отменялись и распинались евангельские истины оставалидь неколебимыми. Вот почему faK ошеломляли и пугали открыто провозглашенные принципы пролетарской "морали", отвергавшие безотносительные понятия любви и добра.
Над просторами России с ее церквами и колокольнями, из века в век напоминавшими сиянием крестов и голосами колоколов о высоких духовных истинах, звавшими "воздеть очи горе" и думать о душе, о добрых делах, будившими в самых заскорузлых сердцах голос совести, свирепо и беспощадно разыгрывались ветры, разносившие семена жестокости, отвращавшие от духовных исканий и требовавшие отречения от христианской морали, от отцов своих и традиций.
Проповедовались классовая ненависть и непреклонность. Поощрялись донос и предательство. Высмеивались "добренькие". Были поставлены вне закона терпимость к чужим мнениям, человеческое сочувствие и мягкосердечие. Началось погружение в пучину бездуховности, подтачивание и разрушение нравственных устоев общества. Их должны были заменить нормы и законы классовой борьбы, открывшие путь человеконенавистническим теориям, породившим фашизм, плевелы зоологического национализма, расистские лозунги, залившие кровью страницы истории XX века.
Как немного понадобилось лет, чтобы искоренить в людях привычку иЛи потребность взглядывать на небо, истребить или убрать с дороги правдоискателей, чтобы обратить Россию в духовную пустыню! Крепчайший новый порядок основался прочно – на страхе и демагогических лозунгах, на реальных привилегиях и благах для восторжествовавших и янычар. Поэты и писатели, музыканты, художники, академики требовали смертной казни для людей, названных властью "врагами народа". Им вторили послушные хоры общих собраний. И неслось по стране: "Распни его, распни!" Потому что каждый должен был стать соучастником расправы или ее же отвой.
Совесть и представление о грехе и греховности сделались отжившими понятиями. Нормы морали заменили милиционеры. Стали жить под заманивающими лжи
выми вывесками. И привыкли к ним. Даже полюбили. Настолько, что смутьянами и врагами почитаются те, кто, стремясь к истине, взывает к сердцу и разуму, смущая тем придавивший страну стойловый покой.
И когда я в середине пятидесяых годов – почти через тридцать лет! вернулся из заключения, оказалось, люди уже забыли, что можно жить иначе, что они "гомо сапиенс" – человек рассуждающий...
Глава
ПЕРВАЯ
Начало длинного пути
Московская моя жизнь оборвалась внезапно в феврале тысяча девятьсот двадцать восьмого года. И как оказалось – на очень долго. Неполных шесть лет в Москве прошли без особых тревог. Даже относительно легко. Так бывает, когда живешь со дня на день, без ясной цели, какую ставят себе люди, прочно стоящие на земле.
Я считал свое существование зыбким, сравнительную обеспеченность счастливой случайностью, поскольку не раз убеждался в обманчивости всяких предположений на будущее. На попытках вновь поступить в университет я ожегся и, испытав процедуру чисток, примирился с положением и обязанностями переводчика – поначалу в Миссии Нансена, потом у корреспондента Ассошиейтэд Пресс, у каких-то концессионеров, пока не поступил в греческое посольство, где ежедневно читал посланнику по-французски московские газеты и составлял пресс-бюллетень. Денег было немного, но свободного времени достаточно. А главное – мне была предоставлена комнатка в помещении консульства, благо для меня несравненное, заставляющее ценить обретенное положение.
Я много читал, что-то сочинял, ходил в театры и концерты, любил "круг друзей" и вечера, где можно было, приодевшись, щегольнуть не вполне утраченной светскостью. В мои двадцать с лишним лет все это выглядело настоящей жизнью, в чем-то перекликавшейся с тем, как некогда жили отцы и деды.
Правда, время от времени действительность напоминала о себе: быстро облетала знакомые дома весть о чьем-нибудь аресте. Круг наш сужался. Но чекисты тогда только набивали руку, кустарничали. Массовые "coups de filet" [Облава, прочесывание (фр.)] были еще впереди. И я, хоть гадал при каждом таком случае – когда наступит мой черед? – все же не испытывал постоянного гнетущего ожидания. Не зная, что возле тебя берет разгон страшный жернов, назначенный раздавить и перемолоть все неспособное немо и обезличенно служить целям власти, не подозревая, что в среде друзей уже предостаточно завербованных агентов, готовых предать, донести, участвовать в любой провокации с ревностью новообращенных, – будучи в неведении всего этого, нехитро считать игрой случая то, что становилось ежедневной принадлежностью жизни. Я, кроме того, жил в экстерриториальном доме. И мог, затворив за собой парадную дверь, вполне по-мальчишески показать нос любым филерам и агентам ЧК. Не переоценишь ощущение безопасности и надежности у человека, в те времена ложащегося спать без страха ночного звонка!
x x x
Был пасмурный, словно растушеванный, февральский день. Городские шум и движение тонули в мягком снегу. Дома стояли отрешенные и угрюмые. Зима уже растратила свой блеск, силу и стужу и вяло доживала положенные сроки. Но еле уловимый, радостно отдающийся в сердце признак близкой весны еще не обозначился.
Я остановился на тротуаре возле Сухаревой башни, ожидая, когда можно будет перейти улицу. Очутившийся рядом человек в пальто с добротным меховым воротником незаметным движением вытащил из-за пазухи развернутую красную книжечку и указал мне глазами на надпись. Я успел разобрать: "Государственное политическое управление". Тут же оказалось, что по другую сторону от меня стоит двойник этого человека – с таким же скуластым, мясистым лицом, бесцветными колючими глазами и в одинаковой одежде. К тротуару подъехали высокие одиночные сани. Меня усадили в них, и один из агентов поместился рядом. Лошадь крупной рысью понесла нас вверх по Сретенке на Лубянку...
Все произошло настолько быстро и буднично, что сознание мое не успело перестроиться. Я не полностью понимал, что не просто так вот еду по московской улице, как если бы нанял лихача прокатиться, а уж опустилась между мною и прохожими – возможностью остановиться у киоска, зайти в магазин, заговорить с кем хочу – невидимая преграда, прообраз того железного занавеса, о котором спустя два десятилетия так верно скажет Черчилль.
И люди на тротуарах не видели ничего особенного в санях с двумя седоками в штатском, не могли предположить, что у них на глазах вершится воскрешенной постыднейший обычай. – рожденное произволом, и самовластием Слово и Дело!
Впрочем, в ту минуту я был далек от исторических аналогий. В голове, лихорадочно проносились обрывки мыслей, соображения – в чем можно меня обвинить? Вернее, что может быть известно чекистам о моих делах, образе мыслей, не слишком осторожных высказываниях? Как отвечать и держать себя на следствий? Не то чтобы я был совершенным новичком в этих делах. Еще в первые годы революции, пока я жил на усадьбе, мне пришлось дважды побывать в уездной тюрьме – об этом я, может быть, расскажу в свр,ем месте. Но название "Лубянка" звучало достаточно здовеще и не могло не вызвать смятения. Резко, грубо оборванные живые нити – интересы, начатые деда, привязанности, на полуслове оборванные общения – болезненно отдавались в сердце, полня его тревогой и тоской...
Где-то возле Кузнецкого моста сани наши прибились к тротуару и замедлили бег. Я не сразу сообразил, что именно мне кивали с бровки, насмешливо, приветствуя, два праздно стоящих субъекта в темных ладь-то. Они-то наметанным глазом сразу признай знакомого рысака из конюшен оперативного отдела и своего дружка в сопровождавшем меня седоке. Знали, вероятно, и ожидавшую меня участь. Я подумал об улицах, кишевших агентами. И о том, что не вздумай я прогуляться из дома до посольства, а воспользуйся приглашением консула поехать на его машине, этим молодцам не пришлось бы сегодня доставлять меня в свои застенки. Не случилось ли однажды, что посланник, опасавшийся козней ЧК, пожалуй, более моего и сочувствовавший их жертвам, напуганный слухами об очередной волне арестов, запретил мне выходить из дома и приезжал за мной в своей машине. А потом увез меня на длительный срок в турне по греческим колониям на юге России и таким образом спас от возможного ареста. "Са fait toujoufs plaisir de narguer les flics lorsqu'ils embetent les braves gens" [Всегда приятно подразнить шпиков, когда они досаждают порядочным людям (фр.)], – посмеивался он.
Это произошло около полудня. А глубокой ночью меня, после бесконечной процедуры опроса, обыска, отбора вещей, завели в камеру внутренней тюрьмы.
Более полусуток провел я в кабинете следователя. Если и до этого искуса у меня не было иллюзий – еще в самом начале, еще в семнадцатом году, мне, юноше, стало очевидно, что отныне беззаконие займет место закона, лишь для видимости порой рядясь в его одежды, – то Диалог с подручными Дзержинского, "рыцаря революции", убедил окончательно: правосудием тут и не пахнет. Петрово зерцало лежало, разбитое вдребезги, у порога этого управления главного блюстителя новой классовой справедливости!
Мне цинично и неприкрыто был предложен выбор: сделаться сексотом, то есть доносчиком, "шпынем", – или садиться за решетку.
– Видите ли, – вежливо и толково, не опуская глаз, точно рассуждая о выборе профессии или места жительства, объяснял мне щуплый и говорливый человек лет сорока, в военной форме с петлицами, похожий одновременно на давешних агентов и на интеллигента средней руки, – иностранцы относятся к вам с Доверием, вам легко завести среди них связи, которые окажутся для нас полезными. От вас потребуется только слушать, иногда выспрашивать, запоминать и... передавать нам.
Тщетно было бы возмущаться подобным предложением: обрабатывавшим меня то в одиночку, то вместе двум следователям попросту нельзя было бы объяснить отвращение к ремеслу доносчика. И я, как умел, отговаривался неспособностью играть роль тайного агента, неизбежностью провала.
– Коль на то пошло и ПЫ настаиваете, чтобы я делом доказал свою лояльность, – отбивался я, – пригласите меня на гласную должность, без нужды маскироваться: надену форму, буду у вас переводчиком.
Они попеременно взывали к моим патриотическим чувствам – я должен был помогать им парировать вражеские замыслы; соблазняли картинами легкой жизни – они могут и материально обставить мое существование достаточно привлекательно; показывали когти: "Берегись! Знаем о тебе достаточно, чтобы упечь!" Теряя выдержку или разыгрывая негодование, грозили: "Расшлепаем в два счета – как замаскировавшегося беляка!" Наскакивали с матерной бранью.
И снова и снова подсовывали подготовленную расписку и перо: я должен был подписать, что отныне обязуюсь сообщать обо всем виденном и слышанном некоему лицу, с которым буду встречаться по его указаниям, при непременном условии "тайны" нашего сговора. Я соответственно отшвыривал или спокойно клал на стол ручку, им в тон грубо или вежливо отказывался подписывать бумажонку.
Диалог затягивался, и я с радостью ощущал в себе нисколько не слабевшую силу сопротивления. Во мне укреплялось и ширилось некое упрямство, бесповоротная решимость не уступать.
Чем более ярились и изощрялись в дешевых доводах следователи, страшнее и реальнее звучали их угрозы, тем тверже и находчивее я отбивался. И овладевал мною веселый азарт выигрываемого поединка: Кукиш вам! Не попадусь я в ваши тенета, и ни черта вы со мной не сделаете!"
Потому что про себя я все-таки заключил: нет у них материалов, чтобы состряпать и самое пустяшное обвинение. Пусть рыльце и было у меня в пуху пользуясь добрым расположением некоторых иностранцев, я пересылал подписанные псевдонимами статьи и фельетоны в некоторые французские и греческие газеты на темы нашей действительности, – но проделки эти ускользнули от всевидящего ока бдительной власти. Прочих грехов за мною не водилось, и я не допускал, чтобы мне могло что-нибудь серьезно угрожать. Подмоченная биография – нашли чем пугать!
Были тут и самоуверенность молодости, и убежденность – со школьной скамьи – в позоре репутации фискала, и вполне реальный страх связать себя с ведомством, не брезговавшим провокацией и самыми вероломными путями для своих целей, мне чуждых и враждебных.
...Случалось потом, в особо тяжкие дни, вспоминать эту пытку духа на Лубянке в феврале уже далекого двадцать восьмого года. Перебирая на "се лады ее обстоятельства, в минуты малодушия я жалел, что в тот роковой час не представилось другого выхода. Но никто больше никогда никаких сделок мне не предлагал, и обходились со мной как с разоблаченным опасным врагом. Впрочем, я всегда безобманно чувствовал: повторись все – и я снова упрусь, уже ясно представляй, на что себя обрекаю...
Убедившись наконец, что своего им не добиться, очередной следователь вдруг сделался подчеркнуто формален и деловит. Достал из ящика заготовленный ордер на мой арест, демонстративно подписал и, молча показав мне его, вызвал конвоиров. Двум тотчас появившимся свежим, подтянутым и таким сытым парням в форме, лучившимся готовностью выполнить любое приказание, он кивком указал на меня, процедив в виде напутствия:
– А теперь мы вас сгноим в лагерях!
– Ни хрена вы со мной не сделаете! – дерзко бросил я ему, уходя между двумя стражами.
Но – Боже мой! Сколько раз пришлось мне впоследствии вспоминать эту угрозу! Ведь и вправду – едва не сгноили...
x x x
Когда в глазке раздалось: "Собирайся с вещами!", – я понял: воли мне не видать. Предстоит Бутырка. И стало страшно жаль покидать свое двухнедельное пристанище – чистую, тихую камеру в бывшей гостинице во дворе старейшего страхового общества "Россия". Огромное здание, обращенное во внутреннюю тюрьму, стало подлинно глухой могилой, из которой никогда не было совершено ни одного удачного побега.
У заключенного вырабатывается страх перед всякой переменой, как бы дурно и убого ни было место, где он как-то обжился и приспособился. Звериное чувство норы. Неведомое впереди выглядит грозным и коварным. Всякие переводы и переезды – ступенями лестницы, сводящей все ниже и ниже.
И когда я собрался и присел с узелком в руках в ожидании, мне уже не вспоминалось, какой жуткой клеткой показалась мне в первые мгновения эта тесная комнатенка с оконной решеткой во всю стену. Страшило предстоящее.
Мне было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации – статья УК 58, пункт 10, предусматривающий широчайший диапазон кар: от кратковременной высылки до многолетнего заключения и даже высшую меру при отягчающих обстоятельствах. Следователь раза два нудно и вяло меня допрашивал. Я от-вечал односложно, никак не поддаваясь его попыткам вызвать на спор о власти и порядках, где бы он мог подловить ме.ня на антисоветских взглядах. Протоколы получались пустопорожними, и я продолжал считать, что "побьются, побьются, да и отступятся". В крайнем случае запретят на три года проживать в Москве...
Но при таком исходе обычно сразу освобождают – следователь отбирает расписку с обязательством выехать в указанный срок. Вызов с вещами безо всякой расписки означал: из-за решеток меня не выпустят. И стало не по себе, когда дверь распахнулась и из коридора мне сделали знак выходить. Помимо дежурного, там стоял конвоир с бумажкой – накладной, без которой меня в дальнейшем, как ценный груз, уже больше не перемещали.
Подобные мытарства описаны многажды. За рубежом и в самиздатовских рукописях рассказывается о большевистских тюрьмах, в советских книгах – о порядках у фашистов и диктаторов. Однако суть их и подробности неразличимы, и "еще одно" повествование о набитых арестантами машинах, обысках и вошебойках, раздевании с отбиранием ремней и очков, отпарыванием пуговиц, о перенаселенных камерах, о двух-, а то и трехъярусных нарах, тюремщиках-садистах и угрюмых коридорных, об издевательствах и избиениях, об изощренных способах превращать человека в мычащее безвольное существо, обо всей усовершенствованной технике содержания наловленных противников и подавления личности – обо всех кругах ада, через которые прошло за советские годы в России больше народу, чем, вероятно, на всем земном шаре за всю историю человечества, – такой рассказ не откроет никому ничего нового...
...В толстом невысоком человеке с подстриженной седой бородкой и пенсне на шнурке, суетливо раздевавшемся рядом со мной перед тюремными обыскивателя-ми в синих халатах, я неожиданно узнал Якова Ивановича Бутовича – тульского помещика и коннозаводчика. О нем много толковали в Москве как об удивительном эквилибристе: Яков Иванович не только остался хозяином своего завода в новой ипостаси заведующего, но и стал главнейшим консультантом по конному делу в Наркомземе, у Буденного и еще где-то. Им из своих коллекций был создан музей истории коннозаводства в России; он будто бы разговаривал из кабинетов губернских властей по прямому проводу с самим Троцким; ездил по-прежнему в коляске парой в дышло. И держал в черном теле назначенного к нему на завод с великими извинениями комиссара: "Нынче иначе нельзя, Яков Иванович! Уж не обижайтесь – с нас тоже спрашивают!"
Было известно, что Яков Иванович резко одергивает называющих его "товарищем Бутовичем".
Надо сказать, что этот барин и тут, в унизительной для человека позиции, вынужденный догола раздеться, раздвинуть ягодицы и приподнять мошонку под пристальным взглядом тюремщика, что он и тут, переконфуженный и жалкий, старался держаться с достоинством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопрос анкеты, он с некоторым вызовом бросил на все помещение: "Сословие? Дворянин, конечно!"
Мы с Бутовичем были более связаны общими знакомыми, чем личными отношениями, и все же оба встрече обрадовались! Но вида не подали: пронюхав о нашем знакомстве, надзиратели непременно поместили бы нас по разным камерам. Нам же сейчас ничего так не хотелось, как очутиться вместе: в этих условиях становится дорог и мало-мальски свой человек.
Нас уже обволакивала мутная и зловонная тюремная стихия с ее суетой, многолюдием, окриками... И с острым ощущением утраты права собой распоряжаться. Команда строиться парами, команда оправляться, разбирать миски со жратвой, ложиться, замолкать...
В приемном помещении набивалось все больше разношерстного народа. Нас переписывали, загоняли партиями в баню, выстраивали у вошебойки, тасовали, сортировали. Потом стали разводить по камерам.
Поначалу особенно поражала вонь ношеной прожаренной одежды, вызывавшая тошноту, – арестантский стойкий запах, исходивший от каждого из Нас. Он за
помнился на всю жизнь: я и сейчас, через полстолетие, узнаю его изо всех – этот тюремный кислый и острый тряпичный дух. Дух нищеты и неволи.
x x x
Моим соседом по нарам оказался польский ксендз пан Феликс, напомнивший мне выведенных во французских романах прошлого века деревенских кюре мягких в обращении, благожелательных и опрятных. Он выслушивал собеседников учтиво, ответы свои взвешивал. Очень заботился о чистоте сутаны – она у него сильно обносилась, кое-где порвалась, но пятен на ней не было. Выговаривал русские слова пан Феликс правильно, но подбирал их медленно и часто заменял польскими. Познаний моих в латыни было недостаточно, чтобы перейти на язык Тацита, но к французскому мы оба прибегали охотно, хотя патер невесело шутил, что ему необходимо упражняться по-русски, так как впереди неизбежная отправка "во глубину России".
Образованный, как все католические священники, пан Феликс был интересным собеседником. Но, пускаясь с ним в длительные рассуждения, я всегда был настороже: в моем эрудированном друге болезненно кровоточили обиды, нанесенные некогда национальному самолюбию поляков русскими монархами. Я опасался неосторожным словом их разбередить. Тем более что современные преследования поляков в Западном крае заставляли меня чувствовать себя отчасти "ненавистным москалем", угнетателем и душителем его народа. Хотя мне и незачем было, находясь с ним на одних нарах, отмежевываться от советских жандармов, опустошавших цвет польской интеллигенции и духовенства. С прошлым же обстояло сложнее.
Однажды в разговоре я упомянул о тетке своей, урожденной Новосильцовой, – фамилии, столь же одиозной для поляков, как и Муравьев. И убедился, насколько – более чем через полвека – свежи воспоминания о карателях. Следы их грубых сапог навсегда оттиснуты в народной памяти. Забываются подробности, точные факты, но общее ощущение недоверия, опасливого неприятия, неуважения к потомку насильников сохраняется. Пан Феликс заметно волновался, задетый за живое случайным упоминанием фамилии сподвижника Муравьева-вешателя, неотделимо слитой со штурмом
Варшавы, с казаками, разведенными на постой по усадьбам польских панов... Очень много лет спустя я встретил венгра, с гневным презрением и неостывшей ненавистью поминавшего Николая I, душителя венгерского восстания 1848 года. Это было, правда, года через четыре после появления советских танков на улицах Будапешта...
И я не уточнял своего отношения к романам Сенке-вича, пан Феликс придерживался того же в разговорах э Пушкине. Любое прикосновение к прошлому вело к пороховому погребу взаимных претензий и соперничеств, способному взорваться и повести к разрыву. Я же ценил возникшую взаимную симпатию и наши хоть и хрупкие, но искренние отношения, основанные на одинаковости нравственных критериев.
Пан Феликс был перепуган, оскорблен и глубоко несчастен. Так и чувствовалась его привычка к одиноким медитациям, к размеренному обиходу в скромных стенах дома при костеле и к безграничному уважению прихожан. Мог ли он когда представить себя в общей камере, среди грязи и матюгов, среди людей чуждых и страшных! Хождение в уборную "соборне" оставалось для него пыткой... Он заливался румянцем, стыдясь под чужими взглядами справлять нужду. А много ли находилось народу, достаточно милосердного, чтобы отвести глаза от пана Феликса, наконец решившегося забраться с подобранными полами сутаны на толчок! А тут еще надзиратель с порога уборной поносит "бар", не умеющих оправиться по-солдатски...
Бедный, бедный пан Феликс! Как ни был он сдержан, в его рассказах прорывалась тоска по канувшим бестревожным дням, по выхаживаемым им цветам, украшавшим убранные комнаты и запрестольный образ Мадонны в алтаре. Как беспомощен был этот старый холостяк, живший в оранжерейной обстановке, созданной заботами служанки, наизусть знавшей его вкусы, слабости, привычки! Этот взрослый ребенок целомудренно конфузился при малейшем фривольном слове, не подозревал подвоха и насмешки в лицемерно почтительном вопросе о вере, заданном заведомым хамом с тем, чтобы сказать сальность по поводу Непорочного Зачатия.
И вдвойне, втройне трагически бедный и несчастный, если подумать, что Бутырская тюрьма была лишь промежуточной ступенью между предшествовавшими ей мытарствами по узилищам и дальнейшей тяжкой участью... Пан Феликс не ведал сомнений – он искренне и безраздельно исповедовал свою веру, знал, что жизнь его в руках Божиих. И это авось да и помогло ему перенести лютое мучительство, доставшееся на его долю перед концом.
...Что за тоскливые, трудные воспоминания! И даже страшно, что я не могу с уверенностью назвать фаМи-лию пана Феликса: Любчинский ли, Любчевский... не помню уже! Так стирается бесследно память об отцах Иоаннах, панах Феликсах... О тысячах подобных подвижников. Хотя именно они не дают угаснуть огоньку, еще не окончательно поглощенному потемками...
Чтобы отключиться от чадной обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, полнящих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку. Я скоро начинаю сносно читать, улавливаю смысл: это нехитро для русского, знающего латынь. И мой учитель умиленно внимает классическим периодам прозы Сахновского или Ожешко. В тюремной библиотеке отличная коллекция старых польских книг – память о прошедших через Бутырку партиях польских повстанцев, ссылаемых в Сибирь.








