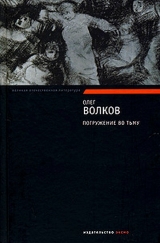
Текст книги "Погружение во тьму"
Автор книги: Олег Волков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
С брезгливостью! рассказывал Михаил Дмитриевич о хапугах-командирах, спешащих первым делом, едва приняв часть, к каитернармусу и на швальню, чтобы приказать доставить себе на квартиру "штуку" материи, сапоги, кожу, что только приглянется: себе, супруге, деткам, деревенской родне– По облику, понятиям и духу он был белым; эмигрантом, па характеру – фрондером, кем угодно, но не красным командиром, подчиненным Троцким, и гамарникам со всеми прочими ненавистниками русского офицерства. Бредихин не захотел встретиться с графом Игнатьевым, когда тот, потерпев неудачу в эмиграции, отправился прислуживать новым хозяевам, шшаниншим его генеральской папахой! "Пятьдесят лет в строю – " ни одного дня в бою", – с презрением цедил Михаил Дмитриевич, отзываясь об опубликованной, книге воспоминаний бывшего царского военного атташе. Прямой, мужественный и честный, Бредихин, если и не хотел, по каким-то принципиальным или личным соображениям, примкнуть к Деникину или Врангелю, не мог, не кривя душой и не вступая в конфликт с совестью, служить в Красной Армии. Внутренний разлад и недовольство собой были неизбежны. И довольно коротко узнав Михаила Дмитриевича, я именно этим разладом объяснял его повышенную раздражительность и неровное поведение, срывы, еле сдерживаемые прежними вышколенностью и воспитанием грубые выходки.
Бредихина я впервые увидал в больничном халате, с забинтованной головой. В дверях палаты вольнонаемных он что-то выговаривал санитару. Тон его, начальственно-уверенный, вежливо-снисходительный, однако безо всякого хамства, привлек мое внимание: так журит слугу желчный, но воспитанный барин. Отметил я и умные, жесткие глаза, и надменное выражение лица со следами породы и холи.
Я расспросил о нем Ровинского, – ему доктор рассказал обо мне. И Бредихин как-то пришел в мою палату. Сближение – в возможных границах произошло быстро. Михаил Дмитриевич любил вспоминать о своих походах, был отличным рассказчиком, я охотно слушал. Так я узнал подробности многих событий начала революции, со дня отречения Николая II, и узнал от участника, обладавшего острым и проницательным взглядом. Развал, разложение старой армии обретали в рассказах Бредихина звучание национальной драмы. Не раз побуждал я его взяться за записки, он этого, однако, насколько я знаю, никогда не сделал. Возможно, как раз из-за необходимости объяснить мотивы, побудившие его встать на сторону большевиков.
Бредихин был обвинен в соучастии в армейском заговоре и более двух лет просидел под следствием. Но военный туз, которого надо было свалить, скончался в тюрьме, расправляться с мелкой сошкой сочли ненужным. Оправдывать и освобождать, разумеется, тоже не стали – не в обычаях такое в этом ведомстве. И Михаила Дмитриевича, дав ему минимальный срок – три года, отправили досиживать оставшиеся несколько месяцев в Ухту. Когда я его узнал, он уже освободился и был назначен – не совсем по своему желанию начальником строительного отдела лагеря.
Он часто приезжал в проектный отдел, где опекал эффектную панну Жозефину, работавшую вместе с Любой и жившую в одной с ней палатке. Вот к нему-то и обратилась она по поводу Яши. Бредихин обещал ей выяснить и сделать возможное. Однако вскоре сказал, что вряд ли может быть полезен: случай был, по его словам, особый.
Деликатность положения заключалась в том, что Бредихин рисковал, заступившись за Яшу, восстановить против себя местную Иродиаду – жену начальника УРЧ, остервенелую партийную активистку, как раз мстившую музыканту за отзыв о ее пении. Та была способна отыграться на прекрасной полячке: за связь с вольнонаемным Жозефину могли крепко наказать. И решительный и самовластный Бредихин спасовал, боясь подставить под удар свой негласный, но всем известный роман.
По характеру и из-за внутренней убежденности в своем превосходстве, Михаил Дмитриевич не стеснялся переступать установленные для лагерного начальника рамки поведения. На виду у всех он подкатывал на грузовике к проектному отделу, вызывал оттуда Жозефину, усаживал ее с великими знаками почтения в кабину и увозил к себе в Чибью, орлом поглядывая на всех с высоты кузова! И это под завистливыми, оскорбленными взглядами вольняшек: его пренебрежение запретами, для них обязательными, унижало и оскорбляло их. Да и чулли они в нем чужака, белую косточку, поэтому, несмотря на занимаемую Бредихиным крупную должность, с ним и тут в лагере никто из коллег не поддерживал отношений, кроме служебных– В конфликте с партийкой он был обречен на поражение.
И все же положение вольнонаемного, даже на самых подчиненных ступенях, было настолько выделено, настолько вознесено над массой зэков, что и самый ничтожный служащий Управления был персоной. Бредихин же, в ранге руководителя ведущего отдела, обладал, при всей своей непопулярности, большими полномочиями и возможностями. Его всесильное и благотворное вмешательство в мою судьбу я ощутил в полной мере.
Михаил Дмитриевич предупредил меня, что в кассирах я долго не продержусь, так как на эту должность прочат вольняшку. Да и в Сангородке, как только истечет срок инвалидности, не оставят. И тогда греметь мне снова по предательским лагерным дорожкам. Он поэтому заранее переговорил с начальником геологической разведки: тот согласился взять меня наблюдателем в геофизический отряд. Есть, мол, такой прибор – вариометр, определяющий подземные структуры и нефтяные купола. Игрушка эта стоит целое состояние в валюте, и потому лицу, к ней приставленному, обеспечено прочное положение, едва ли не экстерриториальность – по крайней мере, против посягательств начальственной мелюзги.
– Не боги горшки обжигают. Там есть милейший молодой геофизик, он до полевого сезона вас натаскает в лучшем виде! Станете незаменимым: маг таинственных крутильных весов Этвеша... Так что решайтесь, а я все устрою.
Перспектива бродить по тайге кружила голову. Но расстаться с Любой?
– Выхода нет, милый мой, – твердо и печально сказала она. – С лесоповала уже не вырвешься. А геологи расконвоированы, живут за зоной. Из Чибью ты всегда можешь прибежать меня навестить – всего два километра. – Она с усилием, неловко улыбнулась.
Но как мне было решиться? Я все изыскивал разные предлоги, не давал Бредихину ответа. Не только хотелось продлить горькое наше счастье, но было суеверно страшно оставлять Любу, как-никак живущую с сознанием, что она не одна, есть под боком родная душа. Но одно происшествие побудило меня внять голосу благоразумия.
Экспедитор Сангородка, лицо всемогущее, попался, по-лагерному – погорел на подделке документов, присваивании денег и посылок заключенных. Его увезли в центральный изолятор, и все считали, что мошеннику не выпутаться. И были ошеломлены, когда через короткое время он вернулся – следствие прекратили, и поганца восстановили на прежней должности!
Он обходил контору и самодовольно, как бы ожидая поздравлений и одобрения, протягивал всем руку. Изо всех, не исключая простоватого начфина Семенова, один я оставил его руку висеть в воздухе, демонстративно заведя свою за спину. Он переменился в лице. Сипло выматерившись, триумфатор вышел с угрозами в адрес чистоплюя, брезгующего честным оклеветанным пролетарием. Этой донкихотской выходкой я нажил себе опасного врага.
Экспедитор вскоре получил повышение – стал зав-складом и все сулил проучить меня на всю жизнь: "Будет помнить, как оскорблять Марка Семеновича!" И когда в моем департаменте произошло ЧП – с кассы была сорвана печать, – мне сразу шепнули, откуда направлен удар. Меня спас на этот раз счастливый случай: кто-то спугнул грабителей, и сейф остался цел.
Я помнил судьбу Воейкова на Соловках. И решил не искушать свою.
В эти последние свои дни в Сангородке я запасся впечатлениями, язвящими меня до сих пор.
...Жарко, как бывает на Севере в начале лета, когда солнце круглые сутки не заходит за небосклон. В окошечке вахты – прилепившегося у ворот зоны бревенчатого домика – нудно звенят комары, и по стеклу упрямо ползают серые от пыли слепни– Они будут искать выхода, пока не погибнут от жажды.
Дежурному вахтеру они надоели до смерти. Дотянуться, чтобы их передавить, лень, да и новые скоро наберутся. Впрочем, у него есть занятие. Он макает перо в пузырек с чернилами и, остыскав на исчирканных листках потрепанной книжки пропусков свободное место, выводит свою подпись. Пишет старательно, навалившись грудью на стол, сопя и высовывая кончик языка. Пухлые пальцы крепко сжимают тонкую ручку у самого пера, а росчерка, какого хочется, не получается... С. Хряков... С. Хряков... С. Хряков...
"С" выходит здорово, не хуже, чем у начфина Семенова, а вот завиток после "в" – никуда, закорючка какая-то, не поймешь, к чему, и всякий раз по-иному! Хряков отшвыривает книжку, затыкает пузырек бумажкой, с огорчением замечает чернила на указательном и большом пальцах, про. себя легонько матерится и уставляется в окошко.
Что там увидишь, чем развлечешься? В зоне Сангородка и вообще-то народу раз-два и обчелся, все только калечь, инвалиды, а в выходной день и вовсе пусто. Вызвать, что ли, кого?.. Рассыльный тут – худой бестолковый старикашка в засаленной телогрейке. Он с ней не расстается и в такую жару торчит вон напротив на лавочке на самом солнцепеке, свесил голову и не шевельнется. Чурка чуркой! Окликни, вскочит как чумовой, зашамкает беззубым ртом, засуетится, а сразу понять, куда посылают, не может. Пуганый какой-то. Забормочет "гражданин начальник, гражданин начальник", словно каша в слюнявом рту. Такому дай раза по кумполу – и дух вон! Какой это рассыльный? Ни расторопности, ни вида – вонь одна!
А Хряков содержит себя в чистоте, любит баню. Белье от прачки принимает дотошно.
– Опять небось вместе с вашим вшивым кипятила? Смотри у меня...
Жара размаривает, томит... Сеня, попав в охрану Сангородка после хлопотливой конвойной службы, на диво быстро отъелся и раздобрел. Вот бы в деревню таким заявиться! Кожа на щеках и округлившемся подбородке натянулась и лоснится, что твой сатин; складочки появились на запястьях, как у новорожденного. За что ни ухватись – не уколупнешь! Гимнастерка, штаны, все в обтяжку. Зато Сеня стал сильно потеть, под мышками всегда растекшиеся темные пятна.
Что придумать? Пол в дежурке вышаркан и выскоблен – его уже два раза мыли с утра, а еще нет десяти... Двор прибран, выметен; песок граблями изузорен; пройди вдоль и поперек – не подберешь обгоревшей спички, не то что чинарик, можно поручиться! Насчет порядка – народ вышколенный, не придерешься... Даже Жучка, что прижилась у заключенных, и та в зоне ни-ни! У вахты встанет, хвостом повиливает: ждет, когда кто пройдет в калитку, чтобы прошмыгнуть наружу. И таким же манером обратно в зону: вежливенько в стороне дожидается, пока пустят. Тоже школу прошла, шельма! Голоса никогда не подаст: знает – нельзя. Начальство и так сквозь пальцы смотрит: не положено зэкам держать животных– Вот она – улеглась в тени каптерки против проходной, прижалась к завалинке, так что не вдруг заметишь. Тварь, а свое место знает.
Стрелки ходиков еле ползут. Хряков не дает гирькам спуститься, то и дело подтягивает. Потом подолгу, упорно смотрит, как идут часы после подводки. Забастовали они, что ли? Часовая стрелка – туды ее растуды! – на месте стоит. До смены, как ни верти, три часа с гаком.
В распахнутую настежь дверь идет раскаленный воздух, если затворить ее – вовсе нечем дышать. В носу, во рту пересохло; ладони влажные, прямо наказание! За Квасом в вохровскую столовую посылать рано. Повар не поглядит, что ты дежурный по лагпункту, и пошлет твоего рассыльного с кувшином подальше: знай время! Можно бы прогнать старикашку на кухню зэков за пробой, да на эту жратву Хрякова не тянет. Ему сейчас кисленьких да солененьких заедок, жирненького, запить компотцем: если похолоднее, враз ведро бы осадил! Или нет – сперва лучше помыться. В предбаннике полутемно, скамья застлана простынями, припасен свежий веник. Примешься не спеша разбираться и на дверь поглядываешь: сейчас принесут белье прямо из-под утюга, чистый таз. В прачечной знают, кого посылать к Хрякову. Там, на воле, и не поглядел бы на такую бабенку, а в лагере сойдет. Да и парить мастерица...
Хряков вздрогнул от нахлынувших ощущений. Ему, сытому, двадцатисемилетнему, в самом соку, ему ли сидеть тут зазря? Он с досадой потянулся за книжкой, но больше негде пристроить ни одной подписи. И откуда эта чертова духота взялась? Чем займешься? На беду, раздавил карманное зеркальце. Хряков любит, усевшись поудобнее и облокотившись на стол, не торопясь, обстоятельно освидетельствовать свою физиономию – участок за участком. Портрет, ничего не скажешь, правильный. Возьми хоть глаза острые, так и сверлят, голубенькие; тот же нос – не задранный какой-нибудь, а с горбинкой, небольшой. Верхняя губа тонковата, к зубам прилипла, зато нижняя полная, валиком. И кожа всюду гладкая, чистая, не как у некоторых, в веснушках да угрях! Про зубы и говорить нечего – все до единого целы, ровные, крепкие – недаром их Сеня на дню по несколько раз спичкой прочищает. Только вот брови огорчают – чего-то не растут и светлые, не видать совсем...
Сеня долго и дотошно осматривает ногти: обкусаны так, что ни единой заусеницы не оставлено, хоть грызи живое мясо!.. Хряков потянулся, снова взглянул на часы и вышел наружу.
С верхней и единственной ступени вся зона как на ладони. По-прежнему ни души. Все словно нарочно попрятались по баракам: ни один не выйдет. Боятся, выученные черти, как бы ради выходного не попасть в кан-дей! И для чего только зэкам выходные? Ни на что они им, баловство одно. Приподняв фуражку со звездочкой, Хряков стал обтирать платком обритую наголо, с плоским затылком и маленькими, мясистыми ушами голову. Заодно обтер лоснящиеся щеки, подбородок, тоже свежевыбритый. Исайка не зря трудился – намыливал, скоблил, оттягивал тугую кожу, подчищал, тер, парил компрессами и напоследок освежил "Ландышем".
– Только для вас, гражданин начальник, достал!
– То-то, обрезанный, знаешь!..
Капельки пота, скопившиеся между лопатками, струйкой потекли по спине. Сеня расстегнул пряжку ремня – авось дунет чуток, пахнет под рубаху...
И Хряков стоит, прислонившись к косяку двери,
взмокший и взведенный неопределенной, не находящей выхода досадой, смутной неудовлетворенностью плоти, и слегка пощелкивает сложенным пополам ремнем. Распоясанный, он выглядит еще более плотным, налитым.
Что бы такое сделать, чтобы скорее пришло время банного блуда, жирного обеда с компотцем? Маета одна...
А этому дохлому рассыльному жара нипочем: все сидит на солнце и не шевелится. Наверное, задремал. Да что ему – забота, что ли? Сиди себе день-деньской, жди, когда куда сгоняют, на кухню, к нарядчику или каптеру. Ему небось везде обламывается: повара, каптер, хлеборез – не дураки – знают, что около начальника трется!
Старикашка, впрочем, не спит. К нему подобралась собака, стоит возле, положив голову ему на колени, и еле-еле, деликатно помахивает опущенным хвостом; а он темной, с крючковатыми пальцами рукой водит у нее но спине гладит с головы, вниз по шее и дальше, потом снова и снова. Хряков даже недоумевает: перестанет ли он когда гладить, а дворняга шевелить хвостом? Они, похоже, позабыли обо всем на свете, даже его, дежурного, не замечают, даром что он стоит тут же, почти навис над ними в пяти шагах. Старику что надо? Рад, дурень, теплой собачьей морде на высохших коленях, а ей, твари, только бы приласкаться к лагерникам! Они ее кормят, балуют, каждый норовит погладить, полакомить. Эта ихняя Жучка зато разжирела, обленилась, будто так положено: живет в холе, сыта по горло, спит сколько вздумается, лебезит перед зэками. Ведь что, стерва, придумала: как подходит время к шабашу, садится возле вахты и ждет. Только начнут работяги из-за зоны возвращаться, к каждому подходит, о ноги трется, хвост так и работает... Ни одного не пропустит!
... – Жучка, подь сюда! Чего, дура, боишься? Ко мне!
Старик вскочил с лавки, как ужаленный, заморгал на солнце. Хвост у Жучки сразу замер. Уши ее с вислыми кончиками насторожились. Хряков сошел со ступени, шагнул к собаке.
– Не тебе, что ли, сказано – подь сюда?.. Дура упрямая... Поучить тебя, что ли...
Ошейника на Жучке нет. Хряков поглядел кругом, вдруг вспомнил про свой ремень. Он пропустил его сквозь пряжку и подошел к собаке вплотную. Жучка стояла неподвижно и следила за ним, поджав хвост. Вахтер, нагнувшись, надел ей на шею петлю и легонько потянул за конец.
– Ну что, и теперь не пойдешь? Уперлась? Сила на силу? Да ты никак укусить вздумала, сволочь?
Собака мотнула головой, норовя освободиться от ремня, уперлась четырьмя лапами: петля сдавила ей шею, и она, испугавшись, метнулась прочь. Потом, замерев, с тоской уставилась на Хрякова. Он начинал входить во вкус.
– Ты вот как – не хочешь? Обленилась? Ну так я научу тебя, краля, вьюном вертеться! Ты у меня, стерва, побегаешь...
Он с силой потащил за собой собаку, она поволоклась по песку, упираясь лапами. Петля затянулась туже, тогда Жучка побежала, стараясь не отстать от своего дрессировщика. Он, забыв о жаре, обливаясь потом, стал бегать взад и вперед, круто менять направление. Полузадушенная собака сбивалась с ног, висла и тогда волочилась по земле.
– Бегай, сволочь, бегай! – хрипел он, запаленно дыша. И тут, на крутом вираже, с силой развернутая собака на миг отделилась от земли. Хрякова осенило.
Он остановился, расставил ноги и стал вертеться на месте, все быстрее и быстрее. Жучке уже не удавалось пробежать – она падала, тащилась по песку. Шея у нее неестественно удлинилась, сделалась тонкой. Дергаясь всем туловищем, она сделала несколько судорожных последних усилий.
– Я те научу, я те устрою карусель, – свистел Хряков. Говорить он уже не мог. Весь в пене, он бешено вертелся. Лицо его налилось кровью, дышал он с всхлипами и клокотанием, бормотал что-то косноязычное и страшное. Жучка, с вывалившимся языком и вывернутыми белками, крутилась вокруг него по воздуху, как праща.
Хряков приседал и качался, удерживаясь на месте. Наконец, внезапно ослабев, выпустил ремень. Собака шмякнулась на песок, странно длинная, с вывернутой не по-живому головой.
Вахтер в изнеможении опустился на лавку. Бегавший все время вокруг него старикашка тоненько верещал, давясь слезами!
– Гражданин начальник! Гражданин начальник! – так что и не разберешь.
Хряков отдышался:
– Ремень, падло, подай!
x x x
...Летний дождь шумит по заплатанному брезенту палатки. В ней, как в теплице, и влажная одежда льнет к телу, а глаза слезятся от едкого дыма. Старенький брезент для комаров не преграда, они пролезают в тысячи мелких и крупных прорех, не дают отдохнуть. Дымарь их несколько угомоняет, но и нас доводит до одури.
Я – в сердце печорских дремучих заболоченных лесов. Всю кладь мы переносим на себе – от лошадей в этих дебрях пришлось отказаться. Солнце светит почти круглые сутки, и круглые сутки донимают комары, в дождь и ведро – одинаково. Духота в густых ельниках такая, что в накомарниках нельзя работать. Изнурительная ходьба по кочкам и бурелому: за день еле удается справиться с работой, на отдых – и какой! – остаются скупые часы, так что я выматываюсь вконец. Но настроение легкое, даже веселое. Осточертевшие лагпункты с поверками, людными бараками, обысками, стукачами, тупыми и придирчивыми вахтерами, с вечным страхом козней – от начальства и своего брата каторжника – в сотне километров отсюда. И я готов как угодно уставать, кормить таежный гнус, лишь бы туда подольше не возвращаться. Жизнь у костров, без крыши над голевой, с ложем из лапника и умыванием в студеных ручьях мне по сердцу. Терпкие запахи трав, изначальный мир нетронутого леса, такой далекий нашей скверны! Не окажется ли и в будущем моя вновь обретенная специальность средством устроить жизнь? С охотой, вольным кочеванием, за тридевять земель от городов-предателей, недосягаемым для очередных репрессий...
Отряд невелик – человек десять притершихся друг к другу техников и рабочих. Со мной в партии – профессор математики Бауманского института в Москве Сергей Романввич Лящук и бывалый штурман дальнего плавания Егунов, оба с небольшими сроками. Они не утратили интереса к материям, далеким лагерного житья-бытья, и у костров оживают отголоски забытой жизни. Стихи, Анатоль Франс, миры и звезды...
Снабжение неплохое: чаю с сахаром и махорки хватает. Немало добываем сами. В таежных ручьях пропасть хариусов: я научился ловко подсекать их на мушку. Проводник – местный охотник – дает мне контрабандой ружье, и я приношу рябчиков и глухарей. А когда он дал мне патроны с пулей, я с подхода застрелил лося. Мясо жарили, коптили впрок. У костров – пиро-вание. А сколько ягод! Едва сошла черника, стала поспевать черная смородина, за ней кислица, потом брусника, черемуха, клюква... До затяжного осеннего ненастья мы живем благодатной таежной жизнью. Наконец снега и мороз заставляют выбираться из леса. Нам отведен дом за зоной. Мы вычерчиваем свои маршруты, составляем векторные схемы. На ватмане возникают загадочные очертания подземных структур. Нефтяники по ним укажут, где бурить.
Новенький наш бревенчатый дом оказывается неконопаченым: сколько ни топи, вода в помещении замерзает. Но мы крепимся: лишь бы не переселяться в зону. Весь день уходит на пилку дров – печь ненасытна. Да еще обороняешься от крыс – их полчища. Они и белым днем снуют по стеллажам и кернам – мы живем в казарме брошенной буровой вышки, – по столам с картами и готовальнями и разъяренно пищат. Эти умные твари, как и козлы, сродни нечистой силе. Они способны сблизи злобно смотреть в глаза, причем безошибочно угадывают мгновение, когда надобно отступить.
Вот одна уселась на краю стола, за которым я работаю, и сверлит меня своими бусинками. Я в метре от нее. Замахиваюсь – сидит, не шевельнется: крупная, разъевшаяся. Хватаю припасенный камень, швыряю: она сидит, словно знает, что я промахнусь. Глазки впились в меня, горят – вот-вот подпрыгнет, вцепится. Вскакиваю, бросаюсь к ней. В последнюю секунду она мягко соскальзывает по ножке стола, тяжело шлепается об пол и исчезает. Крысы, когда их много, вызывают мистический страх.
В исходе ноября два наших вольнонаемных руководителя – славные молодые люди, нисколько не похожие на лагерных начальников – добились перевода профессора, штурмана и меня в Ухту и пристроили нас в геологический отдел. Поселили над речкой Чибью, на окраине поселка, в теплой, просторной избе. Так мы и профилонили зиму.
Меня нередко приглашал в свою пустую квартиру Бредихин, и я по два-три дня жил у него в совершенном затворе... Длинные тихие часы одиночества и размышлений. Хозяин не обзаводился ни вещами, ни книгами, жил как на биваке и сам дома не засиживался – все разъезжал по ближним и дальним лагерным стройкам.
Убирал квартиру и приносил обеды из столовой молчаливый, исполнительный Франц. Покончив с пустяш-ными своими обязанностями, он уходил проведать земляков из приволжских колоний. Возвращался под вечер. Это был настоящий бауэр – с сильными, тяжелыми ручищами пахаря, тосковавший по своим волам, запахам хлебов, разделанной как пух земле и вечерним беседам у пастора, завершаемым пением псалмов.
В двадцать шесть лет Франц стал инвалидом: потешаясь над наивным, плохо понимающим по-русски парнем, надзиратели швырнули его в камеру с отпетыми уголовниками. Оттуда его вынесли обобранным, с тремя сломанными ребрами, заикающимся. Напуганным и потрясенным навсегда. Врачи поставили ему инвалидную категорию, и Михаил Дмитриевич взял его к себе. Франц служил с таким рвением, с таким страхом не угодить, что становилось пронзительно его жалко. Из-за явного моего сочувствия и возможности говорить со мной на родном языке он тянулся ко мне и был по-детски, подкупающе доверчив. Когда Бредихин наконец добился увольнения из лагеря и засобирался в Москву, Франца удалось устроить к нам в геологический отряд – поваром и завхозом.
С отъездом Михаила Дмитриевича я потерял влиятельного покровителя, что, впрочем, не возымело на первых порах для меня дурных последствий. Возглавлял геологию в лагере пожилой петербургский ученый Тихонов (Тихонович?). Лагерные начальники им очень дорожили: ухтинская нефть должна была их вознести до счастья рапортовать Вождю народов. Тихонов мирволил заключенным и не дал переселить нас в зону, как ви мозолили глаза начальственной шушере зэки, жившие в поселке наравне с ними. Тихонов твердо заявил, что мы бываем ему нужны во всякое время и ему удобно, чтобы мы были у него под рукой. И начальство уступило, хотя его очень раздражали зэки, не утратившие пристойного облика и замашек гнилой интеллигенции.
Сам начальник управления часто заходил в геологический отдел расспрашивал и обхаживал Тихонова: не терпелось доложить в Москву о найденных неслыханных запасах нефти. И как-то вздумалось ему взглянуть на магический вариометр. Аппарат стоял в пристройке к чертежной. Рядом с помещением для драгоценного прибора – светлая комнатушка-закуток, отведенная мне.
В моей келье было чисто и прибрано. Расстеленный половичок у кровати и букет черемухи на самодельном столе делали ее уютной и привлекательной. Начальник поинтересовался, кто тут живет. Ему назвали мое имя. Он помолчал, что-то припоминая.
– А-а, этот барин...
Зловещие эти слова были тотчас переданы мне прибежавшим в контору дневальным. Он запричитал надо мной, как над покойником. Я тут же все бросил и побежал прощаться с Любой. Как было сомневаться, что барину пропишут кузькину мать?!
Гроза, однако, счастливо не разразилась. Как потом стало известно, властелин лагеря не преминул в разговоре с Тихоновым ввернуть ядовитую фразу о заключенных, столь, очевидно, необходимых, что их поселяют в квартирах-люкс. Добрый мой начальник сухо заявил, что должен быть спокоен за прибор с золотыми деталями и рад, что нашелся человек, заслуживающий доверия.
Будь у начальника власть, он и Тихонову показал бы, как разговаривать на равных с ним, владеющим не одним десятком тысяч заключенных душ. Да вот позарез нужны знания оставленного по недоразумению на воле старорежимного специалиста – недобитой контры, какой были, несомненно, для таких вот выкормышей Железного Феликса русские дореволюционные интеллигенты. Ненависть и подозрительность к белым воротничкам и чистым рукам успешно прививал своим сподвижникам и народу с первых дней революции ее вдохновитель и вожак, сам, между прочим, никогда не расстававшийся с галстуком, видимо, – считал, что тем отдает достаточную дань своей репутации интеллигентного человека.
x x x
Наступала весна 1941 года. Я был вправе считать на дни и недели оставшиеся до конца срока месяцы: после пятидесяти семи "высиженных" – три "до звонка". Как будто так мало! Но – это давно отмечено – для заключенного эти последние, поддающиеся счету дни особенно тягостны: они тянутся бесконечно, наполнены страхами, предчувствием внезапной беды. Хотя я суеверно боялся строить заранее планы на. будущее, все же про себя решил остаться в лагерной геологической разведке вольнонаемным. Как ни манило очутиться подальше от зон и лагпунктов, не соприкасаться больше с их начальниками и буднями лагерей, я бы остался, даже если бы не было Любы. Начинать жизнь приходилось с нуля, и чтобы мало-мальски опериться, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Всеволод, освободившийся из Воркутинских лагерей в марте, советовал мне не торопиться с возвращением в родные места и стараться зацепиться на Севере. Брату не разрешили вернуться в Москву, а в городишке под Калугой, где он поселился, не принимали на работу. Он жалел, что отказался от предложения остаться в Воркуте.
Передал мне с оказией совет не стремиться из Ухты и Бредихин, которому какие-то военные связи помогли устроиться в Москве. Он, кстати, оказался одним из немногих ухтинских знакомых, с которым мне пришлось встречаться несколько лет спустя, в обманчиво-улыбчивые хрущевские времена. Покидая Ухту, Михаил Дмитриевич очень смело взялся доставить моей сестре кое-что из скопившихся у меня тогда заметок, так что если у меня и сейчас в архиве сохранилась тощая пачка пожелтевших, истершихся на сгибах страничек, этим я обязан ему. Вид их воскрешает его отъезд из Ухты, Франца, пришибленного расставанием, с полными слез глазами; холеную, светски выдержанную панну Жозефину, с кресла молча наблюдающую за последними сборами. Сам Михаил Дмитриевич громогласно командует отправкой вещей: он в необычно приподнятом, нервном настроении. Однако с панной Жозефиной особенно учтив и предупредителен – манера рыцарски-вежливвгв преклонения перед дамой ему никогда не изменяет. Угадывалось, впрочем, что обе стороны расстаются спокойно, без надрыва.
В Мвскве Бредихин с налета покорил сердце подруги моей сестры Натальи Голицыной – Ольги Борисовны Шереметевой и на правах мужа поселился в бывшем графсквм особняке на углу Воздвиженки и Шере-метевского переулка (ныне пр. Калинина и ул. Грановского), с комнатами для прислуги, населенными уцелевшими потомками прежних владельцев. Там жил Александр Александрович Сивере, отец погибшего в соловецкую бойню приятеля Натальи Михайловны Путиловой. Старый Сиверс-отец благодаря редким знаниям геральдики и генеалогии опекался Академией наук в качестве незаменимого специалиста. Но об этом дотлевающем очажке старой Москвы когда-нибудь потом...
Люба работала теперь только урывками. Она почти не выходила из больницы. Кончилось тем, что ей определили постоянную инвалидную категории". Это означало перевод на особый лагпункт, куда свозили нетрудоспособных. Начальник проектного отдела заступался вяло, хотя и ценил искусство Любы: ему был не нужен постоянно болеющий сотрудник. Вмешалось и бдительное начальство, заставившее выписать Любу из Сангородка – у нее был декомпенсированный порок сердца.
Страшны своей обстановкой и царящей в них атмосферой советские дома для престарелых (если говорить о предназначенных для простонародья, а не для элиты!) и на "воле". Небольшой лагпункт неподалеку от Чибью представлял как бы убогую и зловещую пародию на эти "приюты".
В нескольких ветхих бараках, окруженных забором, с караульной будкой у ворот, помещали свозимую со всего лагеря калечь и искали, как и тут выжать из нее возможную пользу. Старики плели корзины и вязали метлы; женщины чинили и штопали всякую рвань – арестантскую одежду и белье. Не пригодным ни для каких работ предоставляли медленно умирать на сверхэкономном пайке.
Эти инвалиды "загибались" на диво быстро, и в сторонке от зоны на глазах заполнялся могильными холмиками, величиной с кротовый бугорок, пустырь, поросший редкими сосенками. Закапывали мелко, без гроба, раздетыми догола, безо всяких табличек. К зиме вырывали несколько просторных ям, как в эпидемию тифа на Соловках, чтобы не долбить мерзлую землю, и уже не хоронили каждого отдавшего Богу душу отдельно, а сбрасывали в общий котлован.








