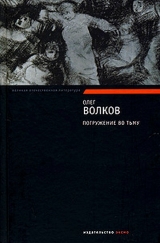
Текст книги "Погружение во тьму"
Автор книги: Олег Волков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Предчувствия мои скоро оправдались.
К окнам моим прибили снаружи дощатые щиты, я стал жить в полупотемках. Исчез Фигаро. Его место заступил широкоплечий полукарлик с изрытым оспой мясистым лицом, никогда не глядевший в глаза и молчаливый. Я должен был сам догадываться, для чего страж сей, отперев дверь, стоит в проеме. Помедлив, он выговаривал что-то вроде "оп" (оправка) или "пер" (передача). Чувствовалось, что этот человек раз и навсегда озлобился на весь свет.
Предупреждал и брат: его стал допрашивать – напористо и предвзято старший следователь Мирошни-ков. "Их лучшая ищейка", – подчеркивал Всеволод. Тон записки был тревожный, призывал быть начеку. Было очевидно, что брат чего-то недоговаривает, опасаясь, как бы не перехватили записку.
И только я успел ее уничтожить, как камеру мою тщательно обыскали. Изъяли бумагу, карандаш, металлическую ложку, даже спички. Словом, все, что накопилось понемногу в нарушение режима "строгой изоляции". А среди ночи я был разбужен и отведен в большой дом.
Степунин, до того державшийся в общем корректно, даже вежливо, круто изменил повадку. Надо сказать, в облике его почти не проскальзывало то отталкивающее, циничное, хамски грубое, что кладет такую четкую печать на людей его профессии – даже когда эта дрянная сущность лишенных совести и чести людей прячется за внешним благообразием, совмещена с умом, окрашена способностями, образованием и т. д. Был Степунин худощавым блондином несколько старше меня, с мелкими чертами безбрового лица и белыми руками с плоскими пальцами и обкусанными ногтями. Пенсне без оправы придавало ему интеллигентный вид, да и обмолвился он как-то, что "знает с мое", так как окончил гимназию.
Для начала он, отпустив кивком конвоира, углубился в чтение газеты, предоставив мне с полчаса праздно сидеть на стуле. Вдруг поднял голову.
– А, это вы! Ну что ж, будем разговаривать по-настоящему.
Отшвырнув газету, резко выдвинул верхний левый ящик стола, достал пистолет. Положил перед собой, повертел. Вынул обойму, вставил обратно, заслал патрон в ствол, поиграл предохранителем и снова положил на стол, уже справа от себя. Несколько раз перекладывал, демонстрируя, что подбирает место, откуда способнее всего было бы схватить его. И снова на меня уставился. Потом вдруг разразился:
– Еще долго будешь, сволочь белогвардейская, морочить голову? Отпирается, говнюк, когда свои давно кругом обос.ли! Открыли, что ты за гад продажный... На... на... гляди...
И он стал быстро перелистывать страницы знакомой мне папки с моей фамилией, каллиграфически выведенной на обложке. Прежде тощая, теперь папка наполнилась подшитыми бумагами, исписанными разными почерками; он подсовывал ее мне, тыкал пальцем в подписи, в какие-то строки – впрочем, так, чтобы я ничего прочитывать не успевал. Мелькнули знакомые фамилии: Козлов, Голицын, Арсеньев, Савкин...
И пошло. Угрозы, ругань, крики... Требование признать себя шпионом. Форменный штурм, так что я и слова вставить не мог.
– Так ты, выходит, честный советский гражданин? Стоишь за власть? Да того, что тут есть, – он с размаху хлопнул ладонью по папке, – хватит, чтобы тебя... расшлепать!
"Шлепнуть", "дать вышака", "отправить на луну" – последнюю метафору Степунин особенно любил, – "пустить в расход" или "на распыл" варьировались на все лады, подкрепленные чтением статьи 58 УК, пункт шестой, как раз предусматривающий "вышака".
Нечего говорить, что подавленный всем виденным и пережитым за последний месяц, выбитый из равновесия одиночным сидением в глухой камере, снедаемый тревогой за брата и за себя, я был, пока Степунин читал газету, далеко не спокоен. Даже с трудом подавлял поднимавшуюся откуда-то изнутри противную дрожь. "Скажу, что со сна", – мелькнуло в голове, когда показалось, что может заметить.
Но едва он стал орать и материться, прицеливаться из пистолета в лампочку, яриться, как во мне – не милость ли Божия? – резко сменилось настроение. Я успокоился и как-то со стороны оценил, что ломает он в общем комедию, призванную прикрыть полное отсутствие улик. Да и перебарщивал он, недооценивал некоторую мою бывалость: первое следствие и лагерь снабдили как-никак известным опытом. Ссылка же на Всеволода, якобы топившего меня своими показаниями, была глупым промахом Степунина, очевидно, порядочного дуба во всем, что касалось истинно человеческих отношений и чувств!
Больше всего я боялся, что будет бить: чем я лучше тех десятков мужиков, которых тут до меня избивали? Возьмутся вдвоем-втроем дюжие отъевшиеся парни с пудовыми кулаками и излупят до полусмерти. Не отобьешься и не загородишься. И особенно свертывалась кровь при мысли, что будут бить по лицу – казалось, это непереносимее всего. Но Степунин был один: признак успокаивающий. Поединков в этом учреждении не устраивали...
Начинало светать, когда в кабинет вошел Мирошни-ков – высокий, крепкий, с медно-красным лицом и жестко торчащим ежиком волос. Было в нем что-то неистребимо солдафонское, привитое казармой. Он нагнулся к Степунину и долго тихо с ним переговаривался, то и дело пристально на меня взглядывая. К этому времени я не только справился с волнением, но решил от обороны перейти к активным вылазкам.
– Ваш коллега, – дерзко обратился я к Мирошни-кову, – требует от меня сознаться в шпионаже, говорит, что у него в руках все доказательства. Так давайте, выкладывайте, пункт за пунктом: там-то я встречался с тем-то, получил или выкрал то-то, передал тому-то... А я буду всякий факт подтверждать или приводить доказательства в опровержение. Вот и сдвинется воз с места. А так голословно можно в чем угодно обвинить. Вот... сажайте Степунина – он взяточник. А вы, – обратился я к Степунину, – его хватайте: он педераст...
– Умничаете? – только и бросил в мою сторону старший следователь и снова зашептал что-то Степунину.
В камеру меня завели уже белым днем. С трофеем: пока Степунин тряс передо мной папкой и забавлялся с пистолетом, я "увел" его карандаш. И тотчас сел писать записку брату: угол камеры с койкой не просматривался из волчка. Инстинкт самосохранения подсказывал, что от грозного шестого пункта нужно отбиваться всеми силами. И я решил испробовать единственный вид протеста, которым располагал: голодовку. Надо было как-то подготовить к этому брата.
События следующей ночи утвердили меня в моем решении.
...Дав как следует разоспаться, резко разбудили. Пока я одевался, все торопили и едва ли не бегом поволокли в большой дом. Вели вместо обычного одного – два конвоира, и не к подъезду, как всегда, а к боковому входу с полутемной лестницей вниз, в подвалы.
Там повторилось вчерашнее. Только вместо Степунина за меня взялись два впервые увиденных парня, лет по двадцати пяти, еще вовсе неотесанные и неумелые, но работавшие старательно, от души. Вероятно – стажеры. Один из них разыгрывал в дымину пьяного. Он неправдоподобно раскачивался, и рука с пистолетом, каким он тыкал в меня, ходила ходуном. Второй, за столиком, уговаривал товарища повременить, а меня, пока не поздно, признаться. Арсенал обоих молодцов оказался очень скоро исчерпанным. Они выдохлись, повторяя: "В последний раз предлагаю...", "Застрелю как собаку!", "Сознавайся" считаю до трех: раз..." Меня ни на одну минуту не покидала уверенность, что вся сцена дутая и ничем мне их пистолет не грозит, даже когда оглушил выстрел: чубатый хлюст с пистолетом разрядил его в низкий свод над моей головой. И этим заключил представление. Устало рухнув на табуретку, он рукавом гимнастерки утер взмокший лоб. Вызванный конвоир повел меня в камеру.
Большие, чистые звезды, усеявшие небо, поразили меня. Выбираясь из подвала" мы словно поднимались к ним. Над крышей архиерейского дома темнели купы старых лип. Они осеняли его, еще когда тут неслышно шныряли служки. В такой ранний, предрассветный час владыка вставал на молитву перед образами, блестевшими в огоньках лампад. Молитву о тишине, мире, братстве и любви...
Я замедлил шаги, а перед дверью и вовсе остановился. Конвоир не торопил. Молчал. Так мы простояли с минуту.
– До чего легкий воздух, – сказал я и, чтобы не дожидаться понукания, шагнул к двери. Я был благодарен этому, вероятно, хорошему деревенскому пареньку, давшему на мгновение человеческим чувствам осилить вбитое муштрой, оголтелой пропагандой и запугиванием.
В тот же день я потребовал лист бумаги и карандаш и настрочил заявление на имя начальника тульского НКВД о начатой мною голодовке. Я требовал предъявить мне материалы, уличающие меня в шпионаже, или отказаться от обвинения по ст. 58 УК пункт 6. И не принял подаваемую мне в окошко пищу.
Продержался я тринадцать дней. И, как ни удивительно может показаться, – без особых терзаний. После первых нескольких суток, наиболее томительных по неопределенному ощущению какой-то неловкости, стремлению что-то предпринять, куда-то пойти, по нервному ожиданию вызова для объяснений, потекли часы ровного бездумного лежания на койке. И бестревожного: жребий был брошен – оставалось набраться терпенья. Коридорного, в положенные часы неизменно появляющегося с мисками супа и каши, я жестом отсылал обратно. Но на оправку ходить не упускал – для передачи успокоительных слов брату... Он же обертывал в бумажки крохотные кусочки сахара, чтобы я мог его посасывать незаметно для тюремщика и дольше продержаться.
Восприятие было притуплено общей вялостью, даже не манила особенно еда. Мысли разбредались, цепляясь за случайные вехи. Иногда назойливо всплывало вычитанное из книг. Помню, какой чепухой представились голодные мучения, будто бы испытываемые заваленными в штреке шахтерами, как их расписал Золя в "Жерминале"! Нарастала слабость, а с нею – и твердая готовность не уступать. Стоял перед глазами пример соловецких мусаватистов. "Не вызывайте, черт с вами, – мысленно обращался я к своему следователю. – Не дождетесь, пусть пройдет еще десять дней, да сколько угодно..."
И в исходе тринадцатого дня я своего добился. Степунин, едва меня ввели и я сел наискосок от него через стол, остро блеснув стеклышками пенсне в мою сторону, небрежно перебросил мне потрепанную книжицу – Уголовный кодекс РСФСР.
– Не нравится шестой пункт? Возьмите любой другой – на выбор. Нам все равно – их там достаточно. Освобождать вас мы не собираемся.
И тогда же я расписался в ознакомлении с бумажкой, по которой привлекался по десятому – старый знакомый! – и одиннадцатому пунктам той же незаменимой пятьдесят восьмой статьи. Поединок за жизнь был выигран.
Дальше все пошло убыстренным темпом. Спустя несколько дней мне дали свидание с Всеволодом – в присутствии Степунина. Тот произнес короткий назидательный спич: "ГПУ, мол, как всегда разобралось – проверенного брата, ни в чем не замешанного, освобождает; меня, уличенного в контрреволюционной деятельности, вынуждено содержать под стражей и судить". Под "судом" Степунин подразумевал заочные решения Особого совещания или пресловутой Тройки.
Брат огрызнулся довольно резко, указав, что все-таки провел тут три месяца, да еще дали насмотреться на избитых стариков. Всеволод присел на стул рядом со мной. Нам дали поговорить с час. Степунин делал вид, что занят бумагами, и не мешал. Потом вызвал моего конвоира. Мы обнялись с братом крепко и с отчаянностью. Словно понимали, что это одна из чрезвычайных милостей судьбы. Мы виделись с ним в предпоследний раз...
x x x
Продержали меня в архиерейском подворье еще десять дней, причем кормили отменно – я получал обеды и ужины из комсоставской столовой: тогда, по отсталости своей, еще сентиментальничали! И сочтя, что я достаточно окреп после голодовки, отправили в тюрьму. Никаких допросов больше не было следствие закончилось.
Тульская губернская тюрьма высилась на выезде из города рядом с кладбищем и огромным корпусом водочного завода. Это дало повод – так гласит легенда – Толстому, ездившему мимо по пути в Ясную Поляну, произнести несколько обличительных слов в адрес царских порядков: народ спаивают, прячут за решетку, и единственное избавление – в сырой земле. Это было сказано, когда тюрьма на три четверти пустовала, крестьяне берегли копейку и шкалики водки позволяли себе лишь в самые большие праздники, а на кладбище обходились без братских могил и глубоких ям, куда сбрасывали трупы расстрелянных.
А что бы нашел сказать Лев Николаевич, проведи его современный Вергилий по тем же местам спустя неполную четверть века после его смерти? Если бы, взяв старого графа под руку, он предложил ему переступить высокий порог калитки в тюремных воротах и под лязг отпираемых и запираемых бесчисленных запоров повел по гулким коридорам и лестницам, распахивая перед ним одну за другой двери камер, набитых под завязку? Вглядитесь пристальнее, граф! Среди этих сотен и сотен грязных, истерзанных и забитых существ – ручаюсь! многочисленные ваши знакомые, мужички вашего Крапивенского и соседних уездов, их дети, сколько раз окружавшие вас, чтобы поговорить, а то и поглазеть попросту на диковинного барина-мужика, изъездившего и исходившего все их иути-дорожки... Они не только наверняка пожалуются вам, что вот, мол, дожили до такого срама, сделались острожниками, но робко попросят объяснения: "За что это нас так, ваше сиятельство? Ведь и вы нам говорили, что труд наш святой и мир кормит... Вот мы и старались, пахали землю..." А далее ваш проводник повел бы вас, задохнувшегося от духоты, смрада, устрашенного видением бесчисленных потухших, яростных, отчаянных, безумных, скорбных глаз, – на задний двор и через неприметный проем с железной дверью вывел вас на "волю" – безлюдный, заросший бурьяном пустырь, и показал бы на свеженары-тую землю. И если бы вы, граф, сами не догадались, подсказал бы вам шепотом, что тут зарывают тех, кого в одиночку, а иногда и пачками, связанными приводят сюда ночами и стреляют в затылок... И если бы можно было только узнать имена, вы бы и тут встретили своих земляков... Должно быть, вы, Лев Николаевич, огорчились бы, услышав назидательный рассказ вашего Вергилия о многократном увеличении перегонки уже не только картофеля и хлеба, но и "архангельского сучка" на водку! Помните вашего кустаря-винокура? Но это, пожалуй, вы почли бы все-таки мелочью по сравнению с потными стенами переполненного советского острога с импровизированным кладбищем...
Я не могу вспомнить ни одного лица, ни одного имени из тех, с кем просидел почти два месяца в крохотной одиночке тульской тюрьмы, вместившей около двадцати человек! Не оставалось и вершка незанятого пола; нельзя было глотнуть воздуха, хотя рама в окне, на высоте человеческого роста, была выставлена. В узком помещении – не более двух с небольшим метров шириной мы сидели сплошным строем, плечо к плечу, прислонившись спиной к стене, с вытянутыми, переплетенными ногами. Если визави на миг подбирал затекшие ноги, можно было расслабить свои, чуть переменить положение. Из камеры было вынесено все, кроме параши, стоявшей у двери. Край ее был на уровне лица того, кто сидел подле, а подходившие оправляться искали между стиснутыми ляжками промежутка, куда поставить ногу. На тех, кто не мог потерпеть с нуждой между утренней и вечерней оправками, обрушивались упреки, оскорбительная брань.
Не хватало тюремщиков. С раздачей обедов опаздывали – их не успевали варить; прогулки укоротили до нескольких минут, частенько вовсе отменяли. Тогда в камере поднимался вой, барабанили в дверь, требовали начальника. Случались истерики. Разумеется, ничего не добивались...
Мы все сидели в одних перемазанных кальсонах, потные и ошалевшие от духоты и безысходности. Про себя каждый лютел под тяжестью сморенного усталостью-, навалившегося соседа, но терпел, зная, что настанет и его черед погрузиться в каменное, изнурительное небытие. На мгновения, само собой: будили нестерпимо нывшие суставы, отекшие из-за неподвижности члены, чья-то больно наступившая стопа. Мы ненавидели друг друга. И, связанные круговой порукой, не смели в чем-либо ущемить соседа: по молчаливому общему уговору и строго соблюдая очередь, подбирались по одному к окну и там жадно курили. У самых бойких и говорливых не хватало заряда на связный разговор. Изредка перекидывались репликами; чей-нибудь вопрос чаще всего повисал в воздухе без ответа... Молчали, скорченные, опустошенные и настороженные: сутками напряженно прислушивались к звукам в коридоре. Ждали, всем существом ждали каждый своего. Порой самый жестокий конец рисовался желанным исходом. О самоубийстве не думали из-за невозможности найти способ, как покончить с собой. Ах, Боже мой! – растянуться бы на чем угодно, хоть на миг, сладко ощутить возможность шевельнуться, повернуться на бок, расправиться... Потянуться так, чтобы косточки хрустнули!
В общих камерах всегда найдутся люди – по большей части, уголовники, рецидивисты, знакомые с местными порядками. От них мы знали, что в нашем коридоре – камеры смертников. Кто-то даже утверждал, что он целиком отведен под них. Могло быть и так – своей участи никто не знал... И сознание, что рядом томятся обреченные, окрашивало особой жутью любой доносящийся из коридора шум.
Вскоре пришлось пережить подлинно страшную ночь.
После нескольких часов гробовой тишины коридор внезапно загудел от топота. Было за полночь – в тюрьме развивается обостренное и верное чувство времени. Затем донеслись стуки отпираемых в дальнем конце дверей, короткие слова команды: "Выходи по одному!"
Описывать дальнейшее пусть и возможно, но вряд ли следует: все это слишком страшно, слишком жестоко, подводит к полной утрате веры в добро. Со смертной казнью за бесчеловечные преступления разум может примириться: убийцу, грабителя или растлителя, вероятно, справедливо отправить на плаху... Но как уложить в сознание хладнокровные массовые казни для "устрашения"? Из страха перед политическими противниками?
Уводили долго. Каменные стены и своды беспощадно усиливали всякий звук: переступание сапог, шум борьбы, протесты, крики, отчаянные, затыкаемые тряпьем вопли, остервенелую ругань палачей... Было и несколько взвинченных, отчаянно-звонких возгласов: "Прощайте, братцы, ни за что..." Договорить не давали. Донесся и грохот падения; кого-то, уже не по-человечески повизгивавшего, бегом проволокли мимо по полу...
Прильнувшие к окну слышали слабые, как хлопки, выстрелы.
На следующий день по тюрьме прошел слух о восемнадцати расстрелянных. То были как раз односельчане Артемия, которых при мне привезли на подворье. Около половины всей партии отпустили домой – это я потом узнал от тех, кого приговорили к лагерным срокам. Вернувшиеся в деревню должны были свидетельствовать, какие завелись порядки. И, не пикнув, покорно влечь в надеваемый хомут. Придушенный русский мужик впрягался в колхозное неизбывное ярмо.
...Я упустил упомянуть, что был как-то вызван к начальнику тюрьмы, крупному пожилому человеку с холеными большими усами старого служаки. Он тянул лямку в тюремном ведомстве еще с царских времен, был тульским старожилом, знал хорошо Козлова и Мамонтова. Тот, оказывается, повидался с ним, просил что-нибудь для меня сделать.
– Я рад бы уважить его просьбу, – говорил, разводя руками, начальник, да не в моей власти: предписано держать вас именно в этом корпусе, он считается штрафным. Нас ведь тоже проверяют. По секрету скажу: ВЦИК не утвердил приговора по вашему делу, а там скверным пахло... Вам дадут срок. Боюсь, что тремя годами не отделаетесь. Если бы впервые, а то вы уже побывали в лагере. Так что наберитесь еще немного терпения – бумаги на вас пришли, я справлялся. На днях вам, по-видимому, дадут расписаться в обвиниловке. Худшее для вас позади... Эх, голубчик, и в лагерях люди живут, поверьте! Только бы из нашего сундука живым выбраться; прощайте, и – молчок! Иначе меня, да и себя подведете.
Этот дружеский разговор подбодрил. Переживая задним числом едва не постигшую меня участь, я и вправду стал думать о лагере, как о вытянутом счастливом билете. И потом – там Георгий, отец Михаил, преосвященный Виктор. Я был уверен, что снова окажусь на Соловках. Да и что ни говори, человек создание, способное притерпеться к любым условиям: он приспосабливается, смиряется и... выживает! Там, где погибло бы любое четвероногое или крылатое существо, даже насекомое! Гордиться ли этим?
Словом, я втянулся в свое ужатое сидение, попривык к грязи, духоте; вызывался вне очереди дневалить, чтобы оставаться одному в камере во время прогулок. Подметешь пол, протрешь сырой тряпкой – и несколько минут постоишь у окна, спокойно подышишь, оглядывая помещение, вдруг сделавшееся не таким тесным... Но уже затоптались перед дверью, в замке гремит ключ...
В исходе сентября меня вызвали с вещами – а у меня даже не было зубной щетки! И в канцелярии дали расписаться на обороте бумажки с приговором: пять лет исправительно-трудовых лагерей. И сразу сдали вместе с личным делом начальнику этапа. Уже через него я получил передачу – одежду и продукты, принесенные, как я догадывался, Козловыми. Свидания не разрешили: "Даем только родственникам". И в тот же вечер я уже трясся в зарешеченном купе столыпинского вагона. Ехали на Москву.
Глава
ПЯТАЯ
В краю непуганных птиц
Некошеный болотистый луг спускается по косогору к реке, не очень широкой, но полноводной, окаймленной кустами: это Свирь. Повыше, в жидкой опушке мелкого леса, из осенней листвы выглядывают товарные вагоны. Там не то разъезд, не то тупик ветки, где нас недавно выгрузили. На непримятую траву. Вокруг – ни малейшего признака станционных построек, платформы: пустынный участок лесного безлюдного края, со словно случайно здесь оказавшимися заросшими травой рельсами.
Распоряжавшиеся выгрузкой охранники отвели нас на сотню метров от опушки на чистый луг и, тесно сгрудив, приказали садиться на вещи. В некотором отдалении поставили часовых с винтовками. Доставивший нас паровоз ушел, и все замерло. Оказалось, надолго.
Было безлюдно, тихо; ветер шуршал пожухлой травой, река блестела против солнца. И среди всего ненаселенного простора – серая, тусклая толпа понурых, смолкших человечков, обтерпевшихся и почти равнодушно ожидающих, как распорядятся ими. Никто не знал, чего и кого мы дожидаемся долгими часами, под открытым небом, по милости Божией, ясным в виду необозримо раскинувшихся лесных далей. Каждого занимало, где примоститься со своим сидором, чтобы было посуше: чавкающая, податливая почва не держала, и под ногами выступала вода. Что-то всухомятку жевали; с разрешения и под надзором попки отходили на десять шагов в сторону и присаживались в траву; лениво гадали, где мы и куда погонят. Смутно знали, что в этих местах разворачивается Медвежка: новые лагеря для постройки канала. Но если так, почему не видно бараков? Колючей проволоки? Следов езды?
И лишь под вечер, когда село солнце и от реки пополз холодный туман, откуда-то появилось несколько военных. Начались переклички, сортировка, развод в разные группы. Меня выкликнули последним, когда я уже волновался что за такую исключительную участь мне готовят? Присоединили меня к партии человек в сорок; все до одного – воры. Я, считавший себя все же политическим, оказался один среди отборной шпаны – карманников и прочей уголовной шушеры, подростков и вовсе юнцов, без "паханов", матерых преступников-профессионалов, диктаторствующих над коллегами по ремеслу.
Мою партию повели к железной дороге и погрузили в классический телячий вагон, красный, двухосный, с крепко заколоченными люками. Пересчитали, убрали доску, по которой мы, балансируя, с разбегу забирались внутрь, и с треском задвинули дверь. Сделалось темно.
Понемногу оглядевшись в проникающем через щели свете, начали кое-что вокруг себя различать. Порассе-лись, а потом и улеглись на полу, прижатые друг к другу, однако не так плотно, как в тульской тюрьме. Оценив положение, я заключил, что мне лично ничего не грозит, но с драгоценными своими запасами придется распрощаться.
Подозвав пацана повзрослее, я отдал ему для раздачи без малого все содержимое своего мешка: хлеб, сахар, сухари. Все, что удалось в то голодное регламентированное время – я представлял себе, ценою каких жертв и усилий! собрать моей родне и что всегда так дорого заключенному не только как огромное подспорье и средство выжить, но как свидетельство заботы и любви, олицетворение непорванной нити с отторженным от него миром. Об этих передачах, предосудительных, компрометирующих – что, кроме подозрений и придирок, мог навлечь на себя помогающий осужденному врагу народа? собранных живущими по-нищенски близкими и друзьями, об их подвижничестве, мужестве должна быть написана героическая поэма...
Но дрянной народец вокруг меня был все же голодным, и нельзя было с ним не поделиться, как бы мало сочувствия ни вызывала у меня эта братия. Увы, не христианские чувства говорили во мне, а понимание, что лучше самому отдать добровольно, нежели быть ограбленным. Я постарался и сам поужинать как можно плотнее – в запас. Оставшиеся крохи – пригоршня-другая сухарей, несколько кусков сахара, еще что-то – увязал в опустевший мешок с кое-каким барахлом, положил его себе под голову и растянулся на полу. Наступила темнота, и надо было спать.
Вагон долго стоял. Из-за тонкой обшивки доносились шорохи – шелест деревьев под невзначай набежавшим ветерком, возня ежей или мышей в опавших листьях, неведомые шуршания и потрескивания. Стоял ли возле нас караул? Было похоже, что мы в своем запертом ящике погружены во вселенскую темноту, окутавшую мир, и нет нигде ни единой живой души...
Я стал задремывать. И, уже засыпая, почувствовал, как осторожно выдергивают у меня из-под головы мешок. Я сразу двинул кулаком куда-то в потемки, угодил во что-то мягкое. Попытки через некоторое время возобновились. Я посылал удары в никуда – иногда кого-то задевал, чаще – в пустоту. В промежутках боролся с одолевавшим сном.
Я проснулся от толчков идущего вагона, белым днем. Голова моя лежала на полу, рядом валялся опустошенный до дна мешок. Я снова закрыл глаза и долго лежал так из-за брезгливого чувства – неодолимого отвращения к своим спутникам. Случившееся, правда, только подтверждало мой давнишний вывод насчет вздорности литературных суждений о романтике и благородстве, присущих будто бы уголовному миру, и все-таки... И все-таки было мерзко думать, что существа, способные обобрать до нитки спящего товарища, только что поделившегося с ними последним, почитаются людьми. И в те сутки, что тряский наш вагон катился к цели – уже знакомой мне станции Кемь, – я не мог себя заставить разговаривать со своими соэтапниками, отвечать на их вопросы. Злые тогда владели мною мысли... От нашей выгрузки в Кеми сохранилось очень резкое ощущение своей вброшенности в ворочающееся, беспорядочно понукаемое, куда-то направляемое многолюдие, тесноты, необходимости что-то выполнять под непрерывные окрики и брань. Высаживали из вагонов не только нас, но одновременно из других эшелонов, так что все вокруг кишело людьми с мешками, сумками, деревянными чемоданами, толпившимися в оцеплении солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Нас выстраивали впритык друг к другу, тесными рядами по десять человек. Когда составилась колонна, погнали куда-то по пустынной дороге...
Начальники шли сторонкой, в ремнях и при пистолете, подтянутые и заносчивые. Они то и дело покрикивали: "Шире шаг!", "Не растягивайся!" Это приводило к тому, что усердствовавшие в хвосте колонны конвоиры насовывали задние ряды на идущих впереди, люди оступались, роняли вещи, падали... И от растянувшейся по грязному осеннему проселку на добрый километр колонны шел беспорядочный глухой шум, в мутном прибое которого вдруг четко выделялся окрик, отдельный вопль или вычурное длинное ругательство в Бога, в мать, в жизнь...
После длившегося бесконечно ожидания у обвитых колючей проволокой ворот зоны – тут этапы принимала целая ватага лагерного начальства, писари из УРЧ сверяли списки с записями в формулярах, опрашивали, выясняли, – я наконец оказался в бараке, широком, низком и длинном, с двумя продольными проходами между тремя порядками капитально сооруженных двухъярусных нар... И тут снова – общее воспоминание о толчее, брани, грязи, стоянии в очередях у столовой и уборной, перекличках, вызовах, драках, буйстве, слившееся за много лет с длинной чредой однородных передряг. Все эти пересылки и этапы более или менее на один лад. Заключенные тут как пересчитываемые в гурте головы скота: их надо подкормить, не дать вовсе запаршиветь в дороге, чтобы было что сдать в конце приемщику.
Как и нары для заключенных, вся пересылка была построена прочно, с расчетом на долговременный разворот деятельности. Просторные, добротно срубленные бараки тянулись вдоль прямых улиц с дощатыми настилами, называемыми, как у пионеров-ленинцев, линейками. В центре поселка, обтянутого колючей проволокой в несколько рядов, с вышками и прожекторами, находилась уборная на четырнадцать очков, с дежурившими круглые сутки уборщиками с метлами и ведрами извести. Зэки выстраивались на линейках не один раз в день – для проверок, при выводе на работу. Из них тут же составлялись партии для дальнейшего следования.
Линейки служили и для муштры. Темпы приемки-сдачи – жизнь не замирала ни на секунду круглые сутки, этапы принимались и отправлялись во всякое время – не давали охранникам развернуться по-настоящему, но они все-таки выкраивали время для издев.ательских учений, а то и для расправ.
Как-то под утро я был разбужен шумом. Со двора доносился топот множества ног по гулким доскам, крики, изощренная, разнузданная, кощунственная брань. Я выглянул из тамбура. В неясном предутреннем освещении по линейкам грузно бежали, в одиночку и группами, серые тени, грохоча башмаками и запаленно дыша. Вдоль мостков, неподалеку друг от друга, стояли охранники с "дрынами" – увесистыми березовыми дубинками, какими они с размаху лупили отстающих, а то и просто удобно подвернувшихся зэков.
Этап гоняли вкруговую, по двум параллельным линейкам, одни и те же фигуры пробегали мимо вновь и вновь. Иной падал, отползал на четвереньках, кое-как поднимался и устремлялся бежать дальше. На того, кто медлил встать, набрасывались вахтеры. И мелькали дрыны.
– Вишь, издеваются. Трое по дороге сбежали, у самой зоны, вот они и отыгрываются, – пояснил стоявший возле меня у двери одноногий мужик из-под Калуги. – Это не впервой. Навидался... Когда целую ночь вот так гуляют. Забивают и насмерть, коли по-настоящему разойдутся. Мне-то как быть? Поднялся идти в хлеборезку, да боязно сунуться – как раз прихватят...








