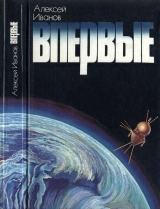
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Третья лунная
«4 октября 1959 года, в день двухлетнего юбилея запуска первого в мире советского искусственного спутника Земли, в Советском Союзе успешно осуществлен третий пуск космической ракеты.
На борту ракеты установлена автоматическая межпланетная станция…»
(Из сообщения ТАСС)
То ли в одном из частных клубов Парижа, то ли в одном из респектабельных домов среди друзей, сидящих за бокалом доброго вина, возник спор: сможет ли человек когда-нибудь взглянуть на «ту», невидимую с Земли, сторону Луны?
– Нет, это невозможно! Бьюсь об заклад, готов держать пари, это невозможно! – темпераментно отстаивал свою точку зрения потомственный винодел, унаследовавший дела известной винодельческой фирмы.
– Пари? Ну что ж, господа, пари – это хорошо. Ваши условия.
– Тысяча бутылок из моих погребов!
– Прекрасно, господа, прекрасно! Будьте свидетелями!
– Пари было заключено. Не знаю точно, когда это происходило. Но знаю, что совсем незадолго до 1959 года. Естественно, тогда мы об этом не знали.
Баллистика – наука точная и тонкая. Серьезная. Требующая богатого математического аппарата и богатых возможностей. Недаром в те годы академик А. А. Дородницын, директор Вычислительного центра Академии наук СССР, на вопрос одного из журналистов: «Почему в последнее время столь распространились электронные вычислительные машины?» – ответил: «Наконец все убедились, что электронные вычислительные машины очень нужны, без них промышленность будет топтаться на месте. Создавая ЭВМ, мы в первую очередь думали о космосе. Полеты в космос и к планетам Солнечной системы невозможны без этих машин. Они не только вычисляют траекторию полета станции или корабля, но и проводят расчеты всевозможных их узлов и конструкций. Столь стремительно вычислительная техника развивалась только благодаря космонавтике. Несомненно, в конце концов мы бы почувствовали, что ЭВМ необходимы для промышленности, что без них нельзя. Однако на то, чтобы в этом убедиться, ушло бы несколько лет».
Новая вычислительная техника на первых порах сосредоточивалась в институтах Академии наук. Здесь рождалась отечественная школа космической баллистики. Но это ни в коей мере не означало, что у нас в ОКБ, в проектном отделе и в группе у Глеба Юрьевича в баллистике никто ничего не понимал. Понимали. И неплохо. И законы знали, и считать умели.
И вот в один прекрасный день один из инженеров, подойдя к своему начальнику, изрек:
– А знаете, по-моему, у нас могут получиться не только пролет мимо Луны и попадание…
– А что же еще? – недоуменно вскинул глаза из-под очков начальник группы.
– Может получиться облет Луны с возвратом к Земле. Я вот тут кое-что прикинул…
– Ну и что? Это давно известно. Сергей Павлович об этом еще год назад говорил…
– При простом облете по эллипсу возврат к Земле со стороны южного полушария будет, так? А у нас там радиоприемных пунктов нет. Как информацию с борта принимать?
– Новость! Знаю я все это.
– Глеб Юрьевич, а по-моему, можно Луну облететь по другой дороге. Вот смотрите, – и он наклонился к столу.
– Слушай, Николай, а ведь это идея! Ведь если вокруг Луны так пойти, то можно и на ту сторону загляну-у-ть, – от удовольствия Глеб Юрьевич даже растянул последние слоги.
Через час вокруг его стола стало тесно. Со стороны были видны только склоненные спины. Так хоккеисты «клянутся» перед ответственным матчем. В этот момент я как раз вошел в зал. Подошел. Услышал разное:
– Надо поставить фотоаппарат…
– Не один, несколько. И не фотоаппарат, а фототелевизионный аппарат. Ведь изображение потом передать на Землю надо – вот в чем задача!
– А ориентация? АМС держать надо. Кто ее на Луну нацелит?
– Кто нацелит? А датчики оптические…
– Датчики датчиками, а кто держать будет?
– Возьмем поставим маленькие сопла и газ через них травить будем. Они удержат…
Разговор, как я понял, идет о каком-то аппарате АМС, и вмешиваться сейчас в процесс генерации идей совсем не время. Можно, как говорят, сбить настрой, испортить песню.
Встретились мы с Глебом Юрьевичем на следующий день. На мой вопрос: «О чем вчера такой бурный „банк“ был?» – он ответил, что есть идея сделать автоматическую межпланетную станцию – АМС.
– АМС?
– Да, АМС. Сергей Павлович в разговоре назвал так одну из будущих конструкций. Случайно или нет, не знаю. Может, он специально это название обдумывал, может, случайно в голову ему пришло. Нам понравилось. Вот следующую «Луну» мы и решили окрестить АМС «Луна-3». Звучит? Это тебе не «контейнер»!
– Подожди – звучит-то звучит, а что она делать будет? И почему она межпланетная?
– Да вот можно попытаться облететь Луну. Поставить радиофототелевизионную аппаратуру, систему ориентации и сфотографировать хотя бы часть обратной стороны Луны.
– А Сергей Павлович знает?
– Нет, я пока ни ему, ни КД ничего не говорил. Главный такую задачу не может не держать под прицелом, это очевидно. Но не знаю, приходило ли ему в голову, что это можно сделать сейчас. Думаю пока ему ничего не говорить. Надо все поглубже проработать, с баллистиками из академии связаться, со смежниками об аппаратуре поговорить. Идея-то есть, а вот как ее в АМС превратить… Но работать будем. Знаешь, как ребята загорелись! Так что давай пока без графика, без «утверждаю» и «согласовано».
О том, что ребята загорелись, можно было и не говорить. Иначе случиться и не могло, не такие наши проектанты. И без графика пока можно было прожить. Пока.
Да, задача вставала преинтереснейшая. Заглянуть-таки на «ту», невидимую, сторону нашего спутника, взять у него фотоинтервью, раскрыть людям еще одну извечную тайну Вселенной. Теперь космонавтика уже могла позволить себе на практике решение такой проблемы. Дорога к Луне была опробована. Но на сей раз она должна была пролегать несколько иначе. «Луне-3» нужно было не только «туда». Надо было сделать поворот, облететь Луну и вернуться обратно.
Средств коррекции и торможения мы еще не имели, с промежуточной орбиты спутника Земли старта к Луне не осуществляли. Умели только с необходимой точностью послать ракету с Земли в сторону Луны. Пятнадцать минут работы двигателей ракеты-носителя, а дальше – баллистический, неуправляемый, полет, подчиняющийся закону всемирного тяготения.
Желание, продиктованное извечным стремлением человека познать непознанное, вытащить еще одну тайну из скопища тайн природы… Цели и задачи «Луны-3» должны были быть детально проработаны и обоснованы. Нужно не только посмотреть, но с умом посмотреть. Быть может, не только сфотографировать. Быть может, потом по фотографиям и карту составить. Нет, пожалуй, такое пока было не по плечу. Ведь с тех пор, как триста пятьдесят лет назад Галилео Галилей впервые увидел и зарисовал лунные образования, определил по длине теней высоту наибольших лунных гор, а в середине XVII века польский астроном Ян Гевелий нарисовал карту видимого полушария Луны, ничего принципиально нового не появилось.
Одной из лучших лунных карт нашего времени считались карты так называемого фотографического атласа Луны американского астронома Дж. Койпера. Минимальные лунные образования, отмеченные на этих картах, имели поперечник 800–1000 метров. Но это была карта видимой стороны Луны. А невидимая? Вот если бы получить ее полную фотографию.
Но… здесь было «но», и не одно. Если на фотографии будет полностью вся невидимая сторона Луны и ни кусочка «старой знакомой» – видимой, то как привязать к лунным координатам эти новые образования? Значит, обязательно нужен и «старый» кусочек Луны. Это одно «но». И второе. Если снимать всю невидимую часть Луны, то ее должно освещать Солнце. Что это значит? А то, что Луна должна быть в фазе новолуния (освещена ее не видимая с Земли сторона, а видимая с Земли – темная). Где должен находиться фотограф – наша станция? За Луной, на линии «Земля – Луна – станция – Солнце». И при этом полная невозможность радиосвязи со станцией (она ведь будет за Луной). К тому же Луна будет освещаться Солнцем прямо «в лоб», как бы из-за затылка фотографа. Получатся ли при этом качественные фотографии?
Да, было о чем подумать, над чем поломать голову. Исследования баллистиков показывали, что для формирования облетной орбиты станции необходимо использовать притяжение самой Луны. Пусть она поможет разгадке своих секретов! Но это возможно только при относительно близком прохождении станции от Луны, а если она пройдет в нескольких десятках тысяч километров от Луны, то влияние последней будет весьма невелико. В таком случае по форме траектория будет близка эллипсу. Подобную траекторию получить несложно.
Но при запуске станции с территории Советского Союза из северного полушария возвращение ее к Земле будет происходить со стороны южного полушария. Как же вести прием информации? Ведь приемные пункты расположены только на территории нашей страны, в северном полушарии. Нет, этот вариант явно не подходил. Надо было искать другое решение. Летели дни и ночи, ночи и дни… И вот решение, достойное мастера! Как красивый росчерк каллиграфа, легла траектория на бумагу, Была она не простая, а с «подныриванием», или, если по-научному окрестить, пертурбационная. Она освободилась от недостатков классической предшественницы – эллиптической траектории. Расчеты показывали, что станция подлетит к Луне со стороны ее южного полушария, плавно изменит свой путь, обогнет Луну с юга на север, заглянет на «ту» ее сторону и направится обратно к Земле… Словно как в далеком детстве: играешь в салочки, бежишь, на бегу схватишься рукой за молодую березку, бистро обернешься вокруг нее, сбив с толку догонявшего, и вот уже бежишь обратно.
Но мало было Луну облететь. Главная цель – фотографирование. В группе Глеба Юрьевича специалистов по фотографии не было. Но проектант на то и проектант, чтобы знать все. Один из инженеров засел за основы фотографической техники. У нас, конечно, не собирались создавать фотоаппаратов. Для этого есть специализированные организации. Но сколько раз специалистам приходилось фотографировать Луну с близкого расстояния? Нисколько. В подобных делах опыта ни у кого на всем белом свете не было. Необходимо было не только изучить фотографическую технику, но и понять, как ее применять в новых условиях. Да и со смежником нужно было разговаривать на профессиональном языке. Ведь марку космического проектанта надо держать высоко.
Основы фотографической науки и техники были освоены достаточно быстро. Последовали встречи со специалистами. Одна, другая. Разошлись, подумали, посчитали, сделали наброски. Опять сошлись. И вот предложение: специальное фототелевизионное устройство ФТУ. В названиях космических устройств почти всегда есть слово «специальное». Оно употребляется совсем не для того, чтобы подчеркнуть какую-то особенность, исключительность. Ведь действительно, готового, уже применявшегося где-нибудь, на первых космических аппаратах почти не было. Уж очень необычными оказывались условия работы приборов и механизмов. Нужен был аппарат, умеющий фотографировать небесное тело, да еще такое, как Луна, работающий в условиях невесомости и воздействия космических лучей, способный передать полученное изображение по радио на Землю.
Разработчики ФТУ, как говорится, пуд соли съели, пока согласовали с проектантами технические характеристики. Ведь им нужно было создавать ФТУ, а нам – станцию с этим ФТУ. Им нужно было получить от нас в свое распоряжение икс килограммов веса, а у нас его было икс минус пять. Им нужно было игрек ватт электрической мощности, а у нас этой мощности было для них игрек минус десять! Им нужен был определенный диапазон температуры, а у нас он получался существенно шире… Но что поделаешь, такова участь проектантов – развязывай узелки, снимай противоречия! Итак, ФТУ. Прежде всего это, конечно, фотоаппарат, затем – устройство для автоматической обработки пленки на борту, лентопротяжный механизм, система передачи изображения и общие для всех телевизионных устройств блоки синхронизации, питания, управления и контроля.
После долгих размышлений и консультаций фотоаппарат решили делать двухобъективным, с разными фокусными расстояниями. Как известно, от величины фокусного расстояния объектива зависит масштаб изображения. Один объектив был выбран с фокусным расстоянием 200 миллиметров для получения изображения лунного диска во весь кадр, другой – с фокусным расстоянием 500 миллиметров для снимков более детальных. Никаких особых телескопических устройств в фотоаппарате не было. Вот тебе и «специальные» устройства! Примитив! Но этот «примитив», пожалуй, на объективах и кончался.
С двух объективов два изображения должны были одновременно попадать на фотопленку и располагаться рядом. После фотографирования пары кадров лентопротяжка передвигает пленку. Опять работает затвор, но на этот раз с другим временем экспозиции. И так четыре раза. Это одна серия снимков. Потом все начинается сначала. После окончания фотографирования автоматически включается устройство обработки пленки. Она протягивается через резервуар, наполненный обрабатывающим реактивом. Здесь и проявитель, и вода, и закрепитель – все вместе. После химической лаборатории – просушка. Для этой цели предусматривались подогретый до определенной температуры барабан, вентилятор и влагопоглотитель. Обработанная и просушенная пленка должна намотаться на барабан. Там она будет находиться до особой команды – приглашения к передаче на Землю.
Скептик заметит: «Ну, и что? Разве такое устройство – шедевр современной техники?» Нет, конечно. И в 1959 году подобная система не была бы отнесена к шедеврам, если бы все задуманное нужно было делать не в условиях космического полета, невесомости, космической радиации, как известно вуалирующей пленку. И при всем этом ультранадежность и минимальный вес.
Как только речь зашла о создании лунной станции-фотографа, стало ясно, что это будет далеко не «Луна-2». И не только потому, что на новой станции должны стоять ФТУ и новые научные приборы. Это, так сказать, пассажиры. Их надо умно установить, продумать программу их работы. Были и другие проблемы. Пожалуй, одна из сложнейших – ориентация станции при фотографировании Луны. Все предыдущие спутники и лунные ракеты после отделения от носителя, научно выражаясь, занимали в пространстве произвольное положение, вращаясь вокруг своего центра масс, иными словами, кувыркались. Совершенно ясно, что сфотографировать Луну даже один раз, не говоря уже о целой серии снимков, при таком кувыркании невозможно. Вряд ли нужно приводить здесь какие-нибудь земные аналогии. Хотя, впрочем, пожалуйста: возьмите фотоаппарат с автоматическим спуском, заведите затвор, подкиньте аппарат, пусть он «щелкнет», и ожидайте при этом, что получите собственный фотопортрет. Велик ли будет шанс на успех?
Как обеспечить ориентацию станции? Раздумья, поиски вариантов в конце концов позволили сформулировать требования к системе ориентации. Но требования на станцию не поставишь, нужны приборы. Дальше работать без смежников было бесполезно. Нужно было привлечь дополнительные силы. А это уже выходило за круг возможностей даже Константина Давыдовича. Без Главного тут было не обойтись.
Встреча с Сергеем Павловичем произошла через два дня. Он очень внимательно выслушал предложения проектантов, задал несколько вопросов. Сразу нельзя было понять, одобряет ли он новую идею или нет. Но постепенно становилось ясно, что сам он тоже уже продумывал пути решения такой задачи. Некоторые вопросы он задавал в такой форме, словно пытался сравнить «чье-то» мнение с точкой зрения проектантов.
Вариант с простой эллиптической орбитой был отвергнут сразу. Второй же вариант, с пертурбационной траекторией, Сергея Павловича весьма заинтересовал.
– Подождите, подождите, Константин Давыдович, а кто эту траекторию рассчитывал? Вы? Или баллистики в академии? Слушайте, ведь, помимо всего прочего, эта орбита очень интересна. На практике будет проверка использования орбит такого класса при будущих полетах к планетам. Перспективнейшая штука, я вам говорю! Вот посмóтрите, пройдет десяток-другой лет, и космонавтика будет широко пользоваться таким способом. А интересно, каковы требования к системе управления ракетой, ко времени старта?
Константин Давыдович подробно рассказал обо всем. Когда он упомянул, что, по предварительным данным, в течение года может быть всего один день для старта к Луне по такой траектории, Сергей Павлович вопросительно вскинул на него глаза поверх очков:
– Только один? Значит, если в этом году не сделаем, то только в следующем? Ждать год? Интересно, а когда эта дата?
– По предварительным данным, в октябре. В начале октября.
– Что у вас все по предварительным да по предварительным? Страхуетесь, что ли? Разве можно серьезно рассматривать какие-то предложения, когда все предварительно? Затеем работу, а потом у вас вместо одного предварительного окончательно получится совсем другое! Нельзя так!
– Сергей Павлович! – пытался оправдаться Константин Давыдович. – Мы сами не можем все точно подсчитать. Это только в академии могут. Они очень интенсивно работают, на них жаловаться никак нельзя…
– Нельзя? Ишь какие добренькие! Жаловаться не можете, а приходить к Главному конструктору с предварительными предложениями для принятия решения, да-да, ре-ше-ния, можете?
Мы молчали. Сергей Павлович повернулся к телефону, набрал номер:
– Мария Николаевна, здравствуйте! Королев. Вице-президент у себя! Или его научное высочество уже домой отбыло? У себя? Соедините, пожалуйста… Мстислав Всеволодович? Добрый вечер. Мстислав Всеволодович, у меня к вам очень большая просьба. Вы, очевидно, уже в курсе дел по варианту облета Луны? Конечно, это тот этап, о котором мы с вами уже говорили, тот самый пункт программы. Должен сказать, что эту штуку, действительно, можно сделать в этом году. Только очень прошу, дайте указания вашим баллистикам сделать как можно скорее все расчеты… Сколько-сколько? Две недели? Нет, Мстислав Всеволодович, надо раньше, существенно раньше. Может времени не хватить. Ведь станцию-то еще делать надо. А это, скажу я вам, не «Луна-2», это посерьезнее. Вот если бы дней за пять… Ну, хорошо, хорошо, не буду нажимать, только очень прошу как можно скорее. Договорились? Ну, спасибо вам большое, и супруге привет, конечно.
Сергей Павлович положил трубку, повернулся к нам:
– Ну вот, вице-президент обещал ускорить расчеты. Он понимает, что это за задачка. Однако учтите, ведь мы с нашими проектами у него не одни. Но вы им покоя не давайте. Им-то только посчитать, а нам станцию делать. Глеб Юрьевич, а как вы думаете обеспечивать электропитание? Надеюсь, не на недельный полет?
Глеб Юрьевич доложил все рассмотренные варианты, делая упор на то, что весьма желательно было бы обойтись просто аккумуляторными батареями. Это просто и надежно.
– А на сколько суток в этом случае будет обеспечена работа?
Глеб Юрьевич ответил.
– На сколько? Нет, это в принципе не годится! Вы что, думаете, что такую задачу можно подвесить на один цикл передачи фотографий? А если помеха какая-нибудь, сбой? Да бог весть что может случиться – и прощай все? – И с раздражением: – Я удивлен вашим предложением. Я считал вас более серьезными людьми. Это совершенно безответственное предложение! А вы что смотрите? – Сергей Павлович повернул голову в мою сторону. – Вы – глаза и уши Главного конструктора! Вы ведущий конструктор или кто?
Константин Давыдович и Глеб Юрьевич стояли молча. Лица красные. Я почувствовал, что покрываюсь испариной.
– Потрудитесь этот вопрос рассмотреть заново. И посерьезнее! Удивительное легкомыслие! Мальчишки!
Главный встал из-за стола, вышел в маленькую комнатку, что была за его рабочим кабинетом. Мы не глядели друг на друга. Так зачастую бывало. Разговор как разговор, нормальный деловой разговор. Потом вдруг раз – и взрыв! Пауза затянулась. Через неплотно прикрытую дверь было видно, как Сергей Павлович подошел к маленькому столику, налил полстакана воды, вынул из кармана какую-то бумажку, развернул ее, поднес ко рту, запил. Минуты через три вышел к нам.
– Ну, что у вас еще? – тон спокойный, деловой.
– Сергей Павлович, есть еще вопрос – ориентация.
– Вы понимаете, конечно, что нужна система ориентации? Система. Какие есть предложения?
– Основные требования у нас подготовлены. Как нам кажется, они не архижесткие. Но ведь посоветоваться, вы знаете, не с кем. Были мы в лаборатории у Бориса Викторовича…
– Раушенбаха? Старый знакомый! Ну и что же, интересно, он говорит?
– Говорит, что попробовать можно. Он со своими взялся бы за это дело.
– А у Николая Александровича были?
– Нет еще. А что, он тоже мог бы?
– Конечно. Сейчас ему позвоним.
Сергей Павлович повернулся вполоборота вправо, опять снял трубку телефона:
– Николай? Здравствуй, это я. Узнал? Слушай, Коля, здесь вот наши товарищи задумали лунную станцию новую. Задачка – будь здоров. Луну-матушку облететь, сфотографировать ее обратную сторону, картинки на Землю передать. Как? По радио, конечно. Что? Ах, слышал? Ну, и что скажешь? Я хотел тебя просить посмотреть систему ориентации. Ведь такая штука тебе в масть, ну в какой-то мере, а?
Минуты три Сергей Павлович молчал, слушал.
– Знаю, что загружен, а я, думаешь, не загружен? Или у меня других дел нет? Впрочем, – он хитровато подмигнул нам, – наши говорят, что такую систему может сделать Борис Викторович… Да, да, Раушенбах, он самый. Как твое мнение?.. Ну-ну-ну: зачем же так? Зачем же обижать товарищей! Ну и что же, что мы с ним не работали? Знаешь, Николай Александрович, мне система нужна. И не в принципе, не когда-нибудь, а через полгода. Так уж не обессудь. Не хочешь или не можешь, дело твое. Буду говорить с ним. Привет.
Трубка резко легла на телефон. Главный минуту сидел в той же позе, закрыв лицо рукой. Повернулся к нам:
– Поняли? То ли он действительно перегружен сейчас, то ли не хочет – бог с ним. Настаивать, думаю, не будем. Давайте так. – Сергей Павлович повернулся к пульту, нажал одну из многочисленных кнопок на его наклонной панели, потом еще одну, поднял трубку телефонного аппарата: – Борис Ефимович? Здравствуй, Борис. Прошу тебя немедленно связаться с Константином Давыдовичем и Глебом Юрьевичем – разобраться в требованиях к системе ориентации новой АМС. Потом свяжись с Раушенбахом, знаешь такого? Его надо уговорить сделать такую систему. Что? На следующей неделе? Завтра! Все это надо сделать завтра. Времени нет, понимаешь? Времени совсем нет. Завтра жду твоего доклада. Да, завтра. В двадцать ноль-ноль. Я себе записал.
Главный толстым синим карандашом написал жирно на листке перекидного календаря: 20.00.Б.Е. – и трижды подчеркнул запись.
– А теперь не теряйте времени, идите к Борису Ефимовичу, подключайте его на всю железку. Завтра в двадцать ноль-ноль жду. Привет!
Утром Глеб Юрьевич решил собрать всех своих инженеров и прежде всего рассказать о вчерашней встрече с Сергеем Павловичем. Рассказывать было о чем. Система ориентации – раз. Время существования и связанный напрямую с этим вопрос электропитания – два. Первое – это, так сказать, просто информация, что систему возьмется делать Раушенбах. Глеб Юрьевич был в этом полностью уверен. А вот второй вопрос был более «свой». Обеспечить электропитание станции на несколько месяцев можно было, только подзаряжая аккумуляторные батареи. А каким образом? Что станет источником электричества? Двух мнений быть не могло – Солнце. Значит, на станции должны быть установлены солнечные батареи? «Луняне» с ними впрямую еще не сталкивались. Здесь их опередили «земляне».
Такие батареи впервые летали на третьем спутнике и очень надежно себя зарекомендовали. Но там было всего шесть маленьких панелек и питали они всего-навсего один небольшой передатчик. Здесь же задача была посложней. Питать нужно всю аппаратуру станции, а это прежде всего требовало существенно большей площади самих батарей. Но не только в площади дело. Солнечная батарея хорошо работает лишь тогда, когда Солнце светит прямо на нее. Отклонишь ее – тут же уменьшится ток. Повернулась батарея ребром – совсем заряда не будет. Значит, нужно все время каким-то образом ориентировать станцию на Солнце. Это выгоднее всего. А как ориентировать? Приборы для этого на полочке в магазинах не лежат. Кто возьмется за их создание? Ведь до октября-то времени кот наплакал!
Все, чем была полна голова Глеба Юрьевича со вчерашнего вечера, наполнило и головы его помощников. Раздались вздохи. Даже самый беглый взгляд на чертеж показывал, что разместить на корпусе станции солнечные батареи будет делом далеко не простым. Да и получится ли? Денек выдался не из легких. Закончился он поездкой к Раушенбаху. Она оказалась весьма результативной. Товарищи загорелись еще с первого разговора и не теряли времени даром. Вечером к тем самым двадцати ноль-ноль к Главному можно было идти не просто с докладом о согласии Раушенбаха, но и уже с конкретными предложениями.
Проработка показала, что задачи ориентации при облете Луны могут быть решены с помощью оптических и гироскопических датчиков, логических электронных устройств и управляющих положением станции реактивных микродвигателей. Все это должно при подлете к Луне по радиокоманде включиться. Гироскопические датчики, «чувствующие» угловые скорости станции – скорости ее кувыркания, выработают электрические сигналы. После преобразований в логическом электронном устройстве они станут включать и выключать миниатюрные реактивные двигатели – газовые сопла, которые будут успокаивать станцию. А затем ее, успокоенную, надо повернуть определенным боком к Луне. Если при подлете к Луне станция будет находиться примерно на прямой линии, соединяющей Солнце и Луну и при этом объективы фотоаппаратов будут смотреть на Луну, то Солнце станет светить ей точно в «затылок». Значит, «глаза», ведающие поиском Солнца, должны быть расположены на станции не там, где объективы фотоаппаратов, а с другой стороны.
Солнечные датчики должны быть такими, чтобы при точном направлении на Солнце электрические сигналы от них не шли, но достаточно было бы Солнцу уйти из «поля зрения» датчиков, как сигналы возобновились бы и командовали работой реактивных сопел. Есть Солнце в «поле зрения» – нет сигнала, молчат сопла; пропало Солнце (станция немного повернулась) – сразу же появился сигнал и то или другое сопло поворачивает станцию до тех пор, пока Солнце не войдет в «поле зрения» датчика.
А на противоположном днище станции, за большим иллюминатором (о нем еще речь впереди), рядом с объективами фотоаппаратов будут стоять лунные датчики. Их задача – «поймав» Луну, не только цепко «удерживать» ее, но и одновременно дать команду на фотографирование. Естественно, что лунные датчики должны быть намного чувствительнее солнечных. Ну, а как помирить те и другие, если их «решение» не будет согласованным? А ведь это может случиться. Пока станция будет снимать Луну, пройдет, как было подсчитано, 40 минут. За это время ее положение по отношению к Луне и к Солнцу изменится. Естественно, для того чтобы не было «разногласий», надо ввести «единоналичие». Так и было предусмотрено. При включении лунных датчиков солнечные выключались.
После фотографирования станция должна была быть переведена в режим так называемой закрутки – вращения вокруг одной из осей, подобно карусели. При закрутке равномерное облучение станции Солнцем поможет сохранить нужный тепловой режим. Да и антеннам при этом удобнее передавать радиосигналы на Землю, чем при беспорядочном кувыркании. Закрутка и являлась «последним словом» системы ориентации.
Создание такой системы становилось проблемой номер один. Ведь только на то, чтобы очень кратко и упрощенно рассказать, что и как эта система будет делать, и то вон сколько ушло бумаги. А ведь систему надо было создавать не на бумаге, а, как говорят, в металле, стекле, в механизмах, электронике… И все это впервые. Тут не посмотришь в справочник, не позаимствуешь опыт другой организации, не вспомнишь: «Постойте-постойте, я об этом читал (писал, слыхал…) там-то и там-то».
Попутно становилось ясным, что есть и проблема номер два, которую нужно было решать радистам и телевизионщикам. О радиокомплексе стоит сказать несколько слов. Его основная задача – передать на Землю с максимальных расстояний полученное на борту станции фотографическое изображение. Такая задача тоже должна была решаться впервые. Негатив – кадр фотопленки с различной степенью почернения – необходимо было преобразовать в ряд электрических сигналов. Для этого можно использовать метод просвечивания, аналогичный тому, который применялся при передаче кинофильмов телевизионными центрами.
Миниатюрная электронно-лучевая трубка с тончайшим электронным пучком создавала на своем экране яркое светящееся пятнышко. Оно перемещалось по экрану от одного края к другому строго равномерно. Прочертит горизонтальную строчку, мгновенно прыгнет обратно и чертит другую строчку. Это скачущее световое пятнышко с помощью оптической системы проецировалось на негатив. А сам он в это время медленно протягивался лентопротяжным устройством. Одна строка ложилась точно к другой. И так весь кадр, все кадры.
Свет, прошедший через фотопленку, попадал на фотоэлектронный умножитель. Естественно, порция света зависела от степени почернения негатива в том или ином месте. Фотоэлектронный умножитель превращал изменяющийся световой поток в меняющийся электрический сигнал. Затем сигнал усиливался, преобразовывался и поступал на передатчик, который и передавал его на Землю.
Кажется, эта задача – не задача. Но это не совсем так. Вернее, совсем не так. Можно подсчитать, что на расстоянии 500 тысяч километров от Земли каждый ватт мощности, излучаемой бортовым передатчиком в пространство, доходит до каждого квадратного метра земной поверхности в 3 раза слабее одной миллиардной от одной миллиардной доли ватта. Такую потерю мощности вызывает только расстояние. Есть и другие потери. Но о них для простоты говорить не будем.
Мыслимо ли принять такой сигнал? Казалось бы, что может быть проще – ставь нужное количество усилительных каскадов, увеличивай уровень сигнала во столько раз, во сколько число с пятнадцатью нулями больше единицы. Или же если сигнал так слаб, то повысь мощность передатчика на борту в несколько тысяч раз. Однако увеличение мощности бортового передатчика повлекло бы за собой увеличение мощности его питания, его веса. А если увеличить усиление в приемнике? Но дело не в малости принимаемого сигнала, а в помехах радиоприему.
Каким бы малым ни был входной сигнал, его можно усилить во много-много раз, но вместе с тем усилятся и помехи, всякого рода шумы. Если эти шумы соизмеримы с уровнем сигнала, то каков смысл их совместного усиления? Понять это можно на простом примере. Представьте себе, что вы сидите в кино на дневном сеансе. Идет интересный кинофильм. И вот кто-то открывает двери кинотеатра, и в зал врывается яркий солнечный свет. В данном случае посторонний свет – это помеха, изображение на экране видно плохо. Будет ли лучше, если киномеханик каким-либо способом станет все более повышать яркость изображения, в то время как какой-то озорник откроет одну за другой все двери на улицу? И полезный сигнал, и помехи будут увеличиваться, но вам от этого легче не станет.








