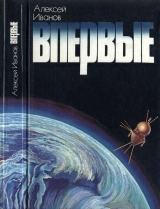
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Увеличим скорость еще на 1 километр в секунду. Теперь ракета в максимальной точке своего подъема уйдет от Земли на 4 земных радиуса. Это уже около 19 тысяч километров. Но все равно она остается в плену Земли, она ее спутница.
Если ракета разовьет скорость 11 километров в секунду, расстояние возрастет до 28,8 земного радиуса, А это почти половина расстояния до Луны. Если же теперь увеличить скорость всего на 0,1 километра в секунду, то ракета при максимальном удалении от Земли сможет залететь за Луну. Добавка всего лишь 0,05 километра в секунду приведет к тому, что ракета уйдет от Земли на 80 земных радиусов! Таков результат, казалось бы, столь ничтожных добавок скорости. Нетрудно догадаться, что, очевидно, следует добавить еще чуть-чуть, и удаление ракеты от Земли сможет стать столь большим, что будет уже близко к математическому понятию бесконечности. В этом случае Земля полностью потеряет власть над ракетой и ракета никогда не вернется к ней. Подобная скорость известна. Ее величина – 11,2 километра в секунду, или около 40 тысяч километров в час. Рассчитана она была давно. Дело оставалось «за малым» – надо было эту скорость получить.
Прошел год. Ни Сергей Павлович, ни его ближайшие друзья и помощники, сослуживцы и соратники не относились к категории людей, которые меряют пройденное время днями, неделями, месяцами. У них мера была иной. Прошедшее время – это решенные вопросы, это новые проекты, новые испытания. И не только ракет, не только спутников. Сергей Павлович не отделял инженерных задач от задач организационных. А они порой бывали куда как сложнее.
Мне довелось услышать однажды, как Главного назвали специалистом по трудностям. Как это правильно! Ему было дело до всего, до всех. А ведь работали не один Королев и его КБ. Работали десятки больших коллективов, возглавляемых крупными специалистами. Не у нас, не в нашем КБ создавались двигатели для ракет, системы управления, радиокомплексы, сложнейшее оборудование наземных технических и стартовых позиций.
Королев никогда не говорил: «Я делаю ракету – остальное меня не касается». Он был участником всех ведущихся разработок. Конечно, это не значит, что он принимал непосредственное участие в проектировании всего необходимого для ракетно-космического комплекса, стоя за чертежной доской или рассчитывая что-то с линейкой в руках (одно время журналисты почему-то особенно любили так показывать главных конструкторов). Но он утверждал или отклонял подготовленные технические задания, технические характеристики всего, что разрабатывалось в смежных организациях. Ему, и никому другому, надлежало выносить окончательное решение по любому вопросу.
Официально Сергей Павлович не занимал должности, которая обязывала бы совершать его подобные действия. Он был главным конструктором, но не генеральным. Но все покорялись активности его позиций, прежде всего – наступательности. Все прекрасно знали, какой Королев великий мастер заинтересовать, увлечь, а если надо, то и заставить. Знали, что для этого у него есть необходимое оружие – от обаятельной улыбки и шутки до стиснутых в ниточку губ и жесткого взгляда почти черных глаз.
Проектный отдел нашего конструкторского бюро разделялся на две «конкурирующие» группы – «землян» и «лунян». «Земляне» продолжая дело, начатое ПС и Лайкой, проектировали новые спутники Земли, «луняне» пошли «лунной дорогой». Эта лунная дорога началась на листах ватмана в нашем конструкторском бюро.
Дерзок ум человека. Всего через год после достижения фантастической первой космической скорости 28 тысяч километров в час замахнуться на вторую космическую – те 40 тысяч километров в час, которые дадут возможность искусственному телу, созданному человеком, не только невесомо летать, кружась вокруг Земли искусственным спутником, но и порвать связь с Землей, уйти из ее «рук», покинуть ее. Обрести самостоятельность в планетной семье, стать ее полноправным членом, найти свою орбиту, свой период обращения. Не только поддаваться влиянию его величества Солнца, но и по всем законам небесной взаимности влиять на него. Стать планетой. Первой искусственной планетой. Дерзко? Дерзко!
Майские праздники 1958 года мне пришлось встречать на космодроме. Шла подготовка к пуску третьего спутника. Это была машина уже совсем иного класса, чем два первых спутника. Посудите сами: ПС весил 83 килограмма, спутник с Лайкой составил для ракеты нагрузку уже в 508 килограммов. И прав был Евгений Федорович, когда говорил, что у наших ракетчиков «есть еще немножко в заначке». Эта «заначка» составила ни много ни мало почти 800 килограммов! Третий спутник и удивил специалистов многих стран прежде всего своим весом – 1327 килограммов! Эти килограммы были отданы науке, и только науке. Исследования околоземного космического пространства были начаты широким фронтом.
Только перечисление начинавшихся научных экспериментов, приборов для них заняло бы не меньше, чем полстраницы. Подготовка спутника прошла без особых приключений, запуск был удачным. Космическая лаборатория начала нести свою вахту, опоясывая Землю эллиптическими орбитами, забираясь на высоту 1800 километров и возвращаясь ближе к Земле каждые 106 минут. Эти всегда приятные для нашего брата сообщения, дополненные еще и тем, что научная аппаратура и системы спутника в норме, как бы подводили итог нашей работы на космодроме. Короче, больше нам здесь оставаться было незачем.
И вот родное КБ.
– Слушай, ты что делаешь? – в телефонной трубке голос Михаила Степановича.
– Что делаю? Как что делаю? Что может делать человек, вчера прилетевший с космодрома? С товарищами впечатлениями делюсь. Про тюльпаны рассказываю. Первый раз их такую уйму видал. Знаешь, смотришь с самолета – словно красная краска по земле разлита. Красота!
– Может, про красоту потом, а? Поговорить надо, зайди.
– А что это ты меня приглашаешь? Я теперь не твой подчиненный. Сам бы мог прийти…
– Ну и трепач же ты, – беззлобно буркнул в трубку Михаил Степанович. – Правда, поговорить нужно. Забеги.
Через пять минут я был у него в комнате:
– Ну, здорово, ведущий номер «раз»! Как вы тут без нас жили?
– Да мы-то тут вкалываем в полную силу. Пока вы там с третьим на космодроме ковырялись, мы Луной начали заниматься…
– То-то я и смотрю, народу вроде бы меньше стало. Уж не успели ли на Луну поулетать?
– Слушай, ты можешь серьезно разговаривать или нет?
– Ну, могу, могу. О Луне там и Королев и Бушуев говорили. А тебя что, тоже к ней пристегнули?
– Главный велел мне новой ступенью заниматься. К Луне на том, что есть, не поедешь. Вот смотри-ка, – и Михаил, достав из внутреннего кармана пиджака несколько листков бумаги, протянул их мне.
Смотрю – почерк Сергея Павловича: «С. С. Посылаю Вам „заметки“. Прошу Вас через два дня, возможно, раньше…»
Прочитав первую фразу, я посмотрел на Михаила.
– Что смотришь? Читай дальше. Это он Сергею Семеновичу прислал (Сергей Семенович был у Константина Давыдовича начальником ракетного отдела. – А. И.), а он дал мне познакомиться.
Я стал читать дальше:
«1) ознакомить товарищей с „заметками“ и дополнить их и т. д. – одним словом, запустить в работу,
2) ознакомить товарищей с Вашими новыми прикидками и проч. Наш общий разговор состоится завтра и послезавтра еще раз, но хотелось иметь уже хотя бы наметки.
С. П.».
К записке скрепкой был приколот лист бумаги. Читаю:
«Заметки по носителю.
Необходимо сделать достаточно стройное обоснование выбора веса полезной нагрузки. Большой вес неоднократно подвергался оспариванию.
Здесь, видимо, можно сказать о необходимом полезном грузе во всех вариантах.
Подтвердить предыдущие соображения можно тем, что при этом получаются неплохие варианты полезных нагрузок.
Несложно получается при этом весе и в части двигателя.
Можно использовать анализ (если его толково составить в виде таблицы) роста весов ракет США, тяг двигателей и т. д.
Определите потребный вес для решения главных задач: Луна, Марс, Венера. Лучше было бы определить затраты топлива на единицу полезного груза для вывода на орбиту, а затем к Луне. Если такие цифры могут быть получены для Луны, то хорошо бы и для Марса и Венеры.
Необходимо сделать достаточно ясную и, главное, рациональную схему технологической сборки, стыковки и перевозки ракеты на стартовую площадку.
Но нужны четкие схемы (хотя бы скелетные – одной линией!) и сравнительные технические цифровые данные…
Какие нужны иллюстративные материалы (эти слова были дважды подчеркнуты. – А. И.):
основной общий вид (либо несколько их);
таблица данных (основных данных, сравнительных данных и т. д.);
технологические (можно скелетные) схемы сборки и перевозки.
Все это очень крупно, все линии толщиной 4–5 мм. Высота цифр 30 мм и т. д.
Макетик ракеты в 1:100 (легкий пластмассовый или бумажный, но высокого качества) + многие наши (небольшие) фото, таблицы, плакаты и т. д.».
Сразу же оговорюсь. Я бы, конечно, не запомнил содержания этих любопытных документов. Но к счастью, они сохранились. Еще раз я прочитал их совсем недавно. А тогда, помню, дочитав, с недоумением поднял на Михаила Степановича глаза:
– И это все за два дня?!
– Как видишь. Вот учись, как задания давать. Обратил внимание – от завязки ракеты, от расчетов по Луне, Марсу, Венере до толщины линий и величины цифр на плакатах… Вот так-то, брат.
Михаил Степанович рассказал мне, что в проектном отделе уже проведены все необходимые расчеты. Для получения второй космической скорости на нашу ракету нужно было ставить еще одну ступень. Легко сказать – ставить. Вроде взял ее с полочки, посмотрел – подходящая, мол, и поставил. Нет, это большая, очень большая работа. Ведь мало ступень ракеты спроектировать, разработать чертежи для ее изготовления, электрические схемы, создать двигатель, приборы системы управления, изготовить все это, не раз испытать на Земле. А потом вместе с носителем еще нужно научить летать ракету. А это далеко не просто. И далеко не каждая ракета начинает нормально летать с первого раза.
– Знаешь, прикидки уже сделаны. Ступень сделать можно, но мороки много. Двигателя нужного нет. Мне ребята рассказывали, что Сергей Павлович говорил с Валентином Петровичем…
– С Глушко?
– Ну да, с ним. И у того ничего подходящего нет. Он сейчас более солидными двигунами занят.
– Ну и что же решили?
– Да вот решили сами двигатель делать.
– Сами? А получится?
– А почему бы и нет? Для большой машины рулевики сделали? Сделали. Двигателисты берутся. Ты же их знаешь. Ведь раз решили – умри, но так и будет.
– Да, что и говорить, хватка у них есть. И пожалуй, не только хватка. Знаний и опыта тоже не занимать. А с системой управления как?
– С управленцами договорились. Их главный согласен.
– Слушай, Миш, а какой полезный груз получается? Чего везти к Луне-то? Может, нечего?
– Ну, много, как ты сам понять должен, мы не дадим. Килограммов триста…
– Триста?
– Что – мало?
– Конечно, мало. Хоть бы полтонны…
– Хватит и того. Вы тоже пожмитесь и науку поприжмите.
– Уж этому-то ты нас не учи, как-нибудь разберемся…
– А я вот потому и просил тебя зайти. Узнал, что ты прилетел. Давай входи быстренько в курс дела, нам с тобой надо связь держать.
– Связь-то связью… Но только давай договоримся, если запасы по весу будут – не хитрить. Не так, как на первых спутниках было: запасики от пуска к пуску открывались. А сроки какие?
– Что сроки? Ты же Сергея Павловича знаешь. Характер! Он ждать не может. Темп! Что задумано – делать немедленно, и все силы на это. Тут на одном из совещаний он знаешь какой срок называл? 1958 год!
– В этом году? Сейчас май. Что же остается?
– А вот то и остается – полгода.
Сразу же после обеда я пошел в проектный отдел. Глеб Юрьевич, начальник «лунной» проектной группы, что-то сосредоточенно писал за своим столом.
– A-а… здорóво! С прибытием из теплых краев! Ну как долетели? – встретил он меня.
– Да долетели-то хорошо. Это все ладно. Я вот перед обедом с Михаилом Степановичем разговаривал, он мне, прямо скажу, некие фантастические истории порассказал…
– Почему же фантастические? Пойдем, покажу.
Глеб Юрьевич встал из-за стола и, взяв меня под руку, подвел к одному из кульманов. Симпатичная девушка, блондинка, которую у нас все звали не иначе, как Милуня, Людмила Петровна, подарив нам очаровательную улыбку, отошла чуть в сторону.
– Ну вот, смотри…
И Глеб Юрьевич подробно объяснил мне идею первой космической ракеты. Вывод на траекторию перелета с помощью дополнительной ступени к носителю… Разгон в сторону Луны со скоростью, несколько превышающей вторую космическую… Исследования космического пространства за пределами тех расстояний, на которые летали три первых спутника… Попытка прощупать, хотя бы немножко понять, что такое окололунная область и что делается там, за Луной…
– И сколько же времени ракета будет лететь до Луны?
– При такой скорости, которую сейчас выбрали, около тридцати четырех часов.
– Ну, Милуня-Людмилуня, покажи, что ты тут накарябала, – я с улыбкой посмотрел на Людмилу.
– Товарищ ведущий, выбирайте, пожалуйста, выражения! «Накарябала»!
А надо сказать, что чертила Милочка отлично и очень любила свою работу.
– Не сердись, не сердись, ведь я же пошутил. Да разве может такая очаровательная девушка…
– Глеб Юрьевич! Вы что, вдвоем меня специально изводить пришли? Так это можно попробовать после работы. Хотя тогда у вас вряд ли что получится. Ведь вы начальники, вам здесь не ответишь, а вот после работы…
– Ладно, Милуня, мир! – я протянул ей руку.
– Вот то-то! – она улыбнулась, сверкнув жемчужинками зубов. – А вообще-то неплохо было бы перед тем, как начать со мной разговаривать, поздороваться, что ли!
Действительно, мы с Глебом Юрьевичем были так увлечены разговором, что, подходя к Людмиле, забыли поздороваться.
– Извиняюсь, очень извиняюсь…
– Во-первых, не «извиняюсь», а «извините, пожалуйста» – так по-русски говорить положено. Объяснить почему?
– Знаю, не объясняй. А вот что получается – расскажи.
Через полчаса я знал, что на ракете будет шарообразный контейнер, состоящий из двух полуоболочек, герметически соединяемых между собой. На верхней будут четыре стержня – антенны радиокомплекса. Между ними, на «северном полюсе» шара – сужающийся стержень, а на самом его конце в конусообразной, закругленной коробочке – чувствительные датчики для определения напряженности магнитных полей вдали от Земли, в межпланетном пространстве и около Луны. На верхней полуоболочке приютятся и две полусферические, из тончайшей металлической сеточки, протонные ловушки (их задача – определять концентрацию протонов) и две пластины-панели с пьезодатчиками для регистрации ударов метеорных частиц.
Внутри нижней полуоболочки на чертеже была изображена ажурная трубчатая приборная рама, густо набитая приборами. Основное здесь – радиокомплекс. Это название вошло в лексикон благодаря космическим исследованиям. Действительно, на космическом аппарате у радиотехнических приборов широчайший круг обязанностей, тьма задач. Приемники и передатчики, программно-временные устройства, преобразователи команд, коммутаторы телеметрических сигналов… да разве перечислишь все, что входит в радиокомплекс? Из объяснений Глеба я понял, что помимо основного радиокомплекса по настоянию Сергея Павловича будет еще специальный коротковолновый передатчик. Это для того, чтобы он «всю дорогу пищал, так надежней будет», как сказал Главный. Весьма почетное по объему место было выделено аккумуляторной батарее, питающей всю аппаратуру станции электроэнергией. Оставшиеся на раме места были заняты электронными блоками научных приборов.
Ученых очень интересовали газовая компонента межпланетного вещества, корпускулярное излучение Солнца, тяжелые ядра в первичном космическом излучении, изменения интенсивности космических лучей, поиск фотонов в космическом излучении и, как выяснилось из знакомства с верхней полуоболочкой, где размещались датчики, магнитное поле, и метеорные частицы. Набор получался достаточно солидным.
– Глеб Юрьевич, и сколько же все это по весу?
– Людмила Петровна, сколько по весовой сводке?
– С последними уточнениями, которые наука дала, около трехсот шестидесяти килограммов, но думаю, что это еще не все.
– Мне сегодня Михаил Степанович сказал, что ракетчики больше трехсот не дадут. А здесь, смотрю, уже перебор получается. Что же делать будем?
– Что делать? А что, в первый раз, что ли? Они пожмутся, мы пожмемся, сведем концы с концами. Может, уточнения в сторону облегчения получатся.
– Что-то я не помню таких случаев, чтобы уточнения в эту сторону шли. По крайней мере, на спутниках так не было. Смотри, Глеб, как бы не сесть в калошу.
– Да не бойся, не сядем. У нас запасной вариантик наклевывается. Тут одна организация предлагает свой вариант телеметрии, полегче. Через пару дней вопрос должен решиться. Нам, конечно, работенка новая. Все уже закомпоновано, а с новым блоком придется заново возиться. Но я думаю, Людмила справится.
– Людмила-то справится, если ей хороший товар дать. А если не полезет по габаритам?
– Должен полезть. Сергей Павлович такое условие поставил: хотите летать к Луне, делайте так, чтобы новые приборы на отведенные места вставали. Взялись.
– Ну, посмотрим, посмотрим. Да, кстати, ты сказал, что Сергей Павлович велел, чтобы кроме основного радиокомплекса еще передатчик был. Кто его делать будет? И антенны для него где? Ведь, насколько я в радиотехнике разбираюсь, на коротких волнах такими коротенькими штырями не отделаешься…
– Передатчик будет делать Коноплев. И знаешь, как его назвали? «Планета». А вот со штырями – это действительно вопрос. Метра по четыре нужно, не меньше. Где их размещать, пока ума не приложу. Надо бы что-нибудь складное или выдвижное. А это не так просто. Мы тут посмотрели одну конструкцию, но громоздко получается, да и тяжеловато…
Уже начинало смеркаться, когда я ушел от Глеба Юрьевича. Да, проектная страда в полном разгаре. Сколько еще нерешенных вопросов, сколько задач. И решать их надо не когда-нибудь, а сейчас же, немедленно и только единственно правильным, оптимальным путем!
С утра я зашел в один из цехов. Что-то не ладилось с полировкой первой, опытной, партии полуоболочек. В лаборатории провели замеры оптических коэффициентов. Их значения «плясали». А тепловики требовали одного – строгого постоянства по всей поверхности, иначе не обеспечишь нужный тепловой режим в полете. Собрались технологи, конструкторы. Разговор был в полном разгаре. И вот в этот момент меня позвали к телефону. Как ни смешно, а порой злишься на это порождение человеческого разума. Насколько бы спокойнее было жить без телефонов – наших «звонких» помощников! Никто бы не искал тебя, никто не отвлекал… С такими глупыми мыслями по поводу технического прогресса я торопливо шел к кабинету начальника цеха.
– Слушаю!
– Здравствуй, ведущий. Очень занят?
– Да нет, последний тайм первенства мира по футболу досматриваю и шампанским запиваю, – съязвил я, узнав голос начальника конструкторского отдела Григория Григорьевича Голдырева.
«Ну что он, ей-богу! Не знает, что ли, что в цехи, на производство развлекаться не ходят! Чего спрашивать ерунду!» – кипел я в душе. А отчего кипел, собственно, и понять не мог.
– Ладно, все равно счет не в твою пользу. Зайди лучше ко мне. Есть кое-что интересное.
– А подождать нельзя?
– Я бы подождал, да у меня гость. Один товарищ приехал с очень интересным предложением. И Глеб Юрьевич здесь.
Минут через десять я входил в кабинет Голдырева. Он сидел за своим столом. Рядом стоял Глеб. С другой стороны стола, в кресле для посетителей – средних лет мужчина, полноватый, в очках, с крупным лицом. Привстав, он протянул руку:
– Полянов. Я от Губенко.
Так я познакомился с человеком, больным замечательной болезнью – хроническим изобретательством. Не прожектерством, отнюдь нет. Хорошим, нужным, деловым изобретательством. Таких людей поминаешь добрым словом долгие годы. Георгий Степанович Полянов до сих пор работает в одном из смежных с нами НИИ, продолжает вести за собой изобретателей большого коллектива.
– Я приехал к вам с предложением. Вот посмотрите, – Полянов подошел к столу, взял из рук Глеба Юрьевича какую-то круглую металлическую коробочку, которую тот очень внимательно разглядывал.
Из коробочки высовывался кусок темно-коричневой металлической ленты. Стенки коробочки шли немного на конус. Устройство очень напоминало металлическую карманную рулетку, продающуюся в хозяйственных магазинах. Назначение этой штуки я не смог себе представить.
Очевидно, поняв, что меня не осенило, Григорий Григорьевич улыбнулся:
– Ну что – не понимаешь?
– Ей-богу, нет.
– Да это же находка! Это антенна для «Планеты»!
– ???
– Да, да, – вмешался в разговор Полянов. – Я вот и привез вам показать. Интересно, знаете ли, получилось, – торопливо продолжал он. – Вот посмотрите. Только отойдите чуть в сторону. Григорий Григорьевич, куда можно? Сюда – в угол? Ладно.
Он отошел в угол кабинета, вытянул руку с коробочкой, что-то там нажал, и… взжик-к-к! – коробочка с визжащим скрежетом сорвалась с его руки, с силой ударилась о противоположный угол кабинета, отскочила от пола, стукнулась о стену и наконец, завертевшись волчком, укатилась под диван. А в руках Полянова была… ровная коричневая поблескивающая трубка метра три с половиной длиной. Упругая металлическая трубка, сама собой развернувшаяся из улетевшей коробочки.
Григорий Григорьевич и Глеб Юрьевич, очевидно до моего прихода уже видевшие то, что видел сейчас я, смотрели на меня так победоносно, словно они, а не приехавший к нам конструктор из другой организации, придумали эту простую, но удивительно толковую штуку. Ведь это же был выход из тупика.
– Простите, бога ради, ваше имя, отчество? – растерявшись, что не спросил об этом сразу, пролепетал я.
– Георгий Степанович, – произнес гость. – Вот видите, все просто, удивительно просто. Мне кажется, это должно вас заинтересовать. Ведь вопрос конструкции антенн, штанг на спутниках…
– Да помилуйте, Георгий Степанович, это же здорово! – обычно серьезный, Глеб Юрьевич не удержался от улыбки. – Вам, наверное, Григорий Григорьевич уже рассказал о наших «достижениях» в этой части? Нет? Странно. А я думал, что он уже похвалился.
Голдырев продолжал невозмутимо улыбаться. Ух как я хотел сейчас растерзать его! Мудрили, мудрили, механизмы какие-то, раскладушки, а здесь так гениально просто! Еще улыбается!
– Что правда, то правда, самим-то нам хвалиться нечем. Ничего мы хорошего для «Планеты» не придумали. А это просто находка. Скажите, а кто может делать такие ленты? Это, наверное, какой-нибудь особый сплав?
– Ну, конечно. Я ведь вам показал только идею, так сказать. А вам нужно изготовить несколько десятков штук таких антенн, испытать их как следует. С какой-нибудь организацией договориться о специальном прокате таких лент. Я вам подскажу, кто это может сделать. Ну, а остальное – просто, сделаете сами.
Так была найдена конструкция антенн, получивших название рулеточных. Потом они использовались на очень многих космических аппаратах – сначала на первых «Лунах», потом – на «Венерах» и «Марсах». На «Востоке» таких антенн было восемь. Их делают до сих пор и, наверное, еще многие годы будут применять в космических конструкциях.
Как в любом деле, и в нашем были скептики. Например, некоторые ни за что не хотели верить в то, что по сигналам бортового радио можно будет с нужной точностью определить траекторию ракеты. Скептики для того и скептики, чтобы сеять сомнения. Королев решил так: делать, чтоб комар носа не подточил, чтоб никаких ни у кого не было сомнений! Раз так, то нужно было что-то еще, что могло бы со всей очевидностью подтвердить радиоизмерения, убедить любого в их точности.
Кто бы это смог? Вот если бы астрономы… Астрономы – это астрономическая точность. Это авторитетно. Этому любой скептик поверит! Главный не один раз встречался в те дни с крупными астрономами. Но к сожалению, ракета не могла на расстояниях в 100–200 тысяч километров блеснуть звездочкой подходящей величины.
Можно было бы ее увидеть, если бы ее светимость, солнечные лучи, ею отраженные, усилить в несколько тысяч раз. В несколько тысяч… А как? Требовалось что-то… что-то… И вот это «что-то», по словам советского астрофизика Иосифа Самуиловича Шкловского, подсказала сама природа. Кометы… Их газовые хвосты, несмотря на огромную разреженность вещества, ярко светятся в солнечных лучах. Вычисления показали: нужно сделать так, чтобы ракета выпустила облако паров натрия, которые очень интенсивно рассеивают солнечный свет в желтых лучах. Это облако станет светиться, и его можно будет наблюдать в телескопы. Испарить надо всего около килограмма натрия. Всего! Искусственная комета на небе!
Итак – искусственная комета. Но идея, какой бы она ни была оригинальной и нужной, только идея. «Комету» надо было сделать, а перед тем, как сделать, разработать ее конструкцию, испытать. И опять – впервые, опять – вновь. Разве делал кто-нибудь и где-нибудь подобное?
К счастью, в жизни мы сталкиваемся не только со скептиками. Есть оптимисты, есть энтузиасты. Нашлись они и в одном из соседних с нашим конструкторских бюро. Вскоре там провели первые эксперименты. Вначале в КБ, а потом и на ракете, при одном из вертикальных пусков.
Конструкция искусственной кометы оказалась довольно простой: цилиндрический сосуд, внутри термит и натрий, электрическое запальное устройство. Если термит поджечь, то он будет испарять натрий. Но нужно было решить еще одну задачку. «Комету» надо зажечь. И зажечь, когда ракета улетит от Земли на 100 тысяч километров и обязательно ночью: днем «комету» не увидишь, как не увидишь и звезды. Как же это сделать? На последней ступени, где «комете» нашли место, никакой радиотехники нет. Команды с земли не подашь. Необходимо было какое-то автономное включающее устройство. Первое, что пришло в голову, – часовой механизм. Опыт по этой части, правда не очень богатый, был на втором спутнике. Но этот опыт, помимо прочего, показал, что применение часов в условиях невесомости – дело не простое.
Поехали в один из институтов, занимавшихся «часовыми» проблемами. Нас душевно принял главный инженер. Но его настроение сразу стало портиться, как только была изложена суть наших желаний.
– Э-э, товарищи, это дело нелегкое! Наша техника – штука сложная. Ее так просто не возьмешь. Космическая ракета, говорите? Ракета… Ракета… Да-а! – и он глубокомысленно умолк.
Молчали и мы. Несколько минут. Наконец главный инженер повернул в нашу сторону голову, склонил ее к левому плечу, прищурил глаз. Сигарета в уголке губ дымилась, казалось, сама по себе, этак равнодушно, независимо…
– Шестнадцать килограммов.
– Пуд?! – голос Глеба прозвучал так, словно он увидал ярко-красного крокодила.
– Не пуд, а шестнадцать килограммов. Наша техника – вещь тонкая, современная. Все должно быть очень надежно.
– Надежность – безусловно. Но поймите и нас. Откуда мы возьмем такой вес?
– В этом я вам помочь не могу. Шестнадцать килограммов. Ну, может быть, мы что-нибудь сумеем сэкономить, но малость, самую малость – граммы…
Обратно мы ехали разочарованные. Молчали.
– А что, если… – Глеб на минуту задумался. – Братцы, действительно, а что, если самим? Ведь сделали же наши ребята временник на третий спутник? Сделали. Неужели для «кометы» не сделают?
Временное устройство было спроектировано, изготовлено, испытано и установлено на ракету.
В этой «кометной» эпопее интересен еще один эпизод. Не так давно мне рассказал о нем Глеб Юрьевич. Встретились мы, разговорились о наших первых «Лунах». Зашла речь и о «комете».
– А я вот тебе расскажу, чего ты наверняка не знаешь. Ведь ты на космодром раньше улетел, «комету» Василий Кузьмич – помнишь такого? – вез в поезде.
– Ну и что? – мне ясно вспомнилась приземистая фигура инженера из соседнего конструкторского бюро, ярого энтузиаста «кометных» дел.
– А то, что внутри термит и натрий. Василий Кузьмич для контроля приспособил к корпусу «кометы» маленький манометр – давление внутри мерить. Если что-нибудь не так – давление повышаться станет. То и дело наклоняется под лавку и на манометр смотрит. Вначале все хорошо было, спокойно. Но на вторые сутки давление расти стало. И так до самого конца, до приезда, все подрастало и подрастало. Представляешь?
Ситуация представилась мне достаточно ярко. Правда, до какой величины давление доросло и почему, так и осталось тайной.
Компоновка «завязалась». У Людмилы Петровны – Милуни – концы сошлись с концами. Состав аппаратуры определился, веса утряслись. Проектные чертежи были рассмотрены и утверждены Королевым. В отделе у Голдырева полным ходом шла разработка конструкции. При взгляде издали она особой сложности не представляла.
Чертежи пошли в производство. Вначале – к технологам, потом – по цехам завода. На складе наших кооператоров, ведающих так называемыми кооперированными поставками, а иными словами, доставкой аппаратуры от смежных организаций, появились некоторые приборы. Они предназначались не для ракеты-носителя и много места не занимали.
В цехе у Владимира Семеновича началась сборка. А неподалеку, в ракетном цехе, было нелегко. Новая ступень рождалась с трудом. И на основной ракете требовались доработки. Ведь теперь в носовой ее части вместо спутника должна быть солидная ракетная ступень. С чьей-то легкой руки эту ступень назвали Еленой. Может быть, кому-то это имя было дорого, может, другая какая причина была. Говорили, правда, что имя это имеет прямую связь с назначением ступени – выводить станции на лунную дорогу, к Луне. А Луну древние греки называли Селена, что созвучно имени Елена. Так ли было, не знаю, не ручаюсь. Но ступень стала Еленой. Часто для сокращения называлась только одна первая буква. Так и говорили – блок «Е».
В конце концов и блок «Е», и наша «полезная нагрузка» приобрели законченный вид. И стали похожи на то, что несколько месяцев назад было тщательно вычерчено в проектном отделе у того самого СС, которому Сергей Павлович посылал свои «Заметки по носителю» – два листка бумаги, а в сущности, программу работ по созданию ракет для полетов к Луне, Марсу, Венере, – и в проектном отделе, где работал Глеб Юрьевич.
Окончена сборка. Начали испытания. Мы – в своем цехе, у Владимира Семеновича, а ракетчики – в своем, ракетном. Перед отправкой на космодром оставалось только одно – совместные испытания. Установили станцию на электрокар и тихонечко, осторожно поехали по межцеховым улицам и переулкам в ракетный цех: не везти же ракету к нам, в «космический»! Приехали. Стали скромненько в уголке, ждем своей очереди. Ребята, наши сборщики, посматривают по сторонам. Ракета – это интересно. Особенно, если не ракета, а ракетища.








