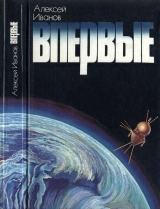
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Бесстрастный голос хронометриста отсчитывает секунды. У пульта Виктор Петрович Кузнецов. Только теперь он управляет не «Лучом», а СТР – системой терморегулирования. Со стороны ничего особенного не видно и не слышно, но сейчас, повинуясь щелчку повернутого выключателя-тумблера, бесшумно завертятся крыльчатки вентиляторов. Потом нажимом кнопки имитируется сигнал температурного датчика «Жарко». Тотчас же, тихо зажужжав, придут в движение легкие створки-жалюзи на нижнем конусе приборного отсека, приоткрыв белую матовую поверхность радиатора. Еще нажим кнопки – и жалюзи послушно укладываются на место. Еще раз… Еще раз… Щелчок тумблера, и короткий доклад:
– Система терморегулирования проверена. Замечаний нет.
Юрий Степанович, наш главный комплексник, ведущий испытания, переворачивает страницу большого альбома-инструкции:
– Приготовиться к испытаниям системы ориентации! Расчету занять места у объекта! Включить систему ориентации!
Взвывает, но тут же переходит на монотонный высокий звук преобразователь напряжения. Вспыхивают и гаснут светящиеся табло и транспаранты на пультах. Новая команда, и врывается новый звук – резкий, с короткими всплесками: пст! пст! пст! Это заработали сопла-микродвигатели. На них укреплены шелковые красные ленточки. В момент срабатывания сопла ленточка вздрагивает и, на мгновенье вытягиваясь, трепещет, словно живая, в струе тугого воздуха, но тут же сникает, повисает, словно обессилев. Эти маленькие сопла в космосе будут медленно разворачивать корабль, пока он не займет необходимое положение в пространстве. Они – исполнительные органы системы ориентации, выполняющие указания оптических и инерционных датчиков-органов чувств корабля и электронных вычислительных устройств – его мозга.
Оптический зрачок заметит Солнце, и сейчас же сигнал, преобразованный в электронном блоке, выдаст команду той или иной группе сопел. Выходящий из них под давлением газ, создавая реактивную силу, заставит корабль принять нужное положение. Лишь тогда прекратит свои команды оптический датчик. Он устроен таким образом, что «молчит», если смотрит точно на Солнце…
Еще раз взвыли преобразователи. Они переделывают постоянный ток аккумуляторных батарей, от которых питается вся аппаратура корабля, в переменный, питающий гироскопические приборы системы управления. Она удерживает корабль в том положении, в которое его поставила система ориентации, пока работает тормозная двигательная установка – ТДУ. Эта установка включится точно в рассчитанное и заложенное в бортовое программное устройство время, а выключит ее система управления, определив, что корабль заторможен на нужное количество метров в секунду. Сейчас ТДУ не включается. Она стоит рядом с кораблем на подставке. Толстый жгут электрических кабелей соединяет ее с кораблем. Только часть ее электрической схемы участвует в испытаниях.
В конце комплексных испытаний – проверка пилотажных систем и радиосвязи. Один из инженеров забирается в кабину, садится в кресло и работает за космонавта. Управление кораблем автоматическое. Однако в любой момент космонавт может выключить автоматы и взять управление на себя. Такое может произойти, несмотря на то что приборы задублированы или даже, если можно так сказать, затроированы. Может возникнуть ситуация, в которой автоматы не обеспечат наилучшего решения. Только находчивость, знание возможностей систем корабля помогут космонавту.
В кабине прямо против люка, чуть выше иллюминатора – приборная доска. Космонавт всегда может, посмотрев на нее, узнать давление воздуха, температуру, содержание кислорода и углекислого газа в кабине. В левой части доски – небольшой глобус. Он подвижный. Инженеры одного из старейших авиационных институтов страны – энтузиасты создания интересных пилотажных приборов – вложили в этот глобус немало смекалки и остроумия.
Как только корабль выйдет на орбиту, глобус начнет вращаться. Расположенное перед ним перекрестье на прозрачной плексигласовой пластинке в любой момент покажет пилоту ту точку земного шара, над которой он пролетает. А если по необходимости космонавту придется взять на себя управление кораблем при спуске? Чтобы вовремя включить тормозной двигатель, надо правильно выбрать место посадки. Это тоже покажет глобус, повернувшись сразу на четверть оборота вперед. Ведь тормозной путь корабля – около 11 тысяч километров, а это и есть почти четверть окружности земного шара.
Для того чтобы включить ТДУ, космонавт должен будет нажать на пульте особую красную кнопку, закрытую со всеми предосторожностями специальной крышечкой. Но… но сделать это не так просто. Чуть выше этой кнопки в два ряда – маленькие кнопочки с цифрами от нуля до девяти. Это так называемый логический замок. Не знаю, в каком содружестве медиков, психологов, инженеров, летчиков, еще кого-нибудь родилась идея логического замка, но суть ее истекала из предположения, что психика космонавта – штука малонадежная. Вдруг его охватит паника и он вздумает, пребывая в невменяемом состоянии, включить ТДУ. Зачем и почему – неважно, включить, и все.
Так вот, чтобы этого не произошло и космонавт не натворил беды, опустившись в совсем неподходящем месте, он перед активным вмешательством в управление кораблем, если оно вдруг потребуется, должен будет доказать, что пребывает в здравом уме, трезвом рассудке. Для доказательства этого космонавту надлежало в определенном порядке нажать три из десяти кнопок. А какие и в каком порядке, должно было быть крупно написано на внутренней части запечатанного конверта, который прикреплялся внутри кабины на видном месте. Логический замок отпирался, то есть давал возможность космонавту начать управление кораблем, только в том случае, если заветные кнопки нажимались в установленном порядке. Чтобы не допустить предварительно ознакомления с этими самыми тремя цифрами, их можно было раз от раза менять, устанавливая в щиток специальную кодовую колодочку.
Сейчас все эти меры предосторожности вызывают ироническую улыбку. Но тогда… Кто мог тогда, набравшись смелости или нахальства, заявить: «Все это глупости, и нечего…» Кто мог?
Так что же произойдет после нажатия этой «страшной» красной кнопки? Система ориентации определит правильность положения корабля в пространстве (если она исправна, а если нет, то это должен будет сделать сам космонавт), а система управления в нужное время включит тормозной двигатель и потом выключит его. Дальше все пойдет автоматически. Сработают пирозамки, корабль разделится на две части. Спускаемый аппарат чуть отстанет, а приборный отсек некоторое время будет двигаться впереди. Потом оба понесутся к Земле. Заполыхает пламя за стеклами иллюминаторов, они покроются копотью, от их стального обрамления в космос полетят капли расплавленного металла. Приборный отсек со всеми его приборами и тормозной установкой разрушится, сгорит.
Против пульта пилота на небольшом прямоугольном выступе, обклеенном поролоном, чуть ниже продолговатой шкалы вещательного радиоприемника – ручка управления ориентацией корабля. В ее вырезах удобно помещаются пальцы правой руки. Она легко, почти без усилия, движется влево, вправо, вверх, вниз и вращается по часовой стрелке и против часовой стрелки (испытатели шутили: чтобы не спутать, как вращать ручку «по» и как «против» часовой стрелки, рядом – авиационные часы-хронометр).
Повернув на пульте один из тумблеров, инженер докладывает ведущему испытания:
– Ручное управление включено. Начинаю отрабатывать тангаж.
Углы тангажа, крена и курса характеризуют отклонения корабля в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (тангаж – носом вверх или вниз, курс – носом вправо или влево, крен – на левый или на правый борт). Снова слышится свистящее: пст! пст! пст! Опять вырывается газ из сопел. Их не отличить от тех, что работали при проверке системы ориентации, но это дублеры, работающие при ручном управлении.
Еще несколько команд, несколько докладов, и проверка системы ручного управления закончена. Остается последний этап – Юрий Степанович объявляет о начале проверки радиосвязи. На уставших лицах испытателей улыбка – вспомнили задачку, поставленную связистами: как лучше проверить электрический и акустический тракт радиосвязи? В качестве контрольного сигнала требовался человеческий голос. Естественно, он должен быть предварительно записан бортовым магнитофоном и затем передан по радио с борта на Землю.
Что записать? Проще всего – цифровой счет, как обычно делают связисты. Но представьте, что какие-нибудь радиостанции на Земле, приняв случайно с борта советского спутника голос человека и не поверив официальным сообщениям, разнесут по всему миру весть: «Русские секретно вывели на орбиту человека»! Кстати, весной 1961 года западная пресса настойчиво писала о том, что «Советы готовят в космосе что-то новое и грандиозное». Нет, счет не подходил. Не подходила и песня в сольном исполнении. Техники же требовали только голос, и никаких других сигналов. И не помню, кто уж и предложил: «Давайте запишем хор Пятницкого! И голос будет, и вряд ли даже самые борзые западные журналисты и комментаторы решатся заявить о выводе в космос русской капеллы!» Так и было сделано.
В углу испытательной станции стоит прислоненная к стене, одетая «для приличия» в белый халат человеческая фигура. Это манекен, который полетит на корабле. На голове у него шлемофоны, во рту – репродуктор. И вдруг он… начинает петь хором! Эффект неожиданный. Грохнул взрыв хохота. Один – и поет хором! Хохотали до боли в скулах, до слез. Разрядка пришлась кстати. Устали люди – комплексные испытания шли третьи сутки и почти без отдыха.
Испытания закончены. Пока корабль будет отдыхать. А испытатели? Им вместе с разработчиками предстоит придирчиво исследовать телеметрические записи. Словно врачи над кардиограммой, склонятся они над пленками и лентами, чтобы поставить безошибочный диагноз. Наконец долгожданное – замечаний по комплексным испытаниям нет! Теперь корабль может покинуть стены родного завода и, поднявшись в воздух, пока, правда, в качестве груза в фюзеляже самолета, опуститься за тридевять земель отсюда, в далеких казахских степях, на космодроме.
К концу разбора комплексных испытаний к испытателям пришли Сергей Павлович и Борис Ефимович. Им доложили, что замечаний нет.
– Ну что ж, если все в порядке, завтра соберем всех главных конструкторов, сообщим им итоги. И если возражений не будет, попросим у руководства согласия на отправку корабля на космодром. Надеюсь, списки испытателей уже есть?
– Да, Сергей Павлович, списки готовы.
– Борис Ефимович, прошу вас лично посмотреть списки. Надо взять на космодром только тех, кто сможет обеспечить подготовку на самом высоком уровне. Невзирая на обиды, лишних никого не брать! Думаю, состав испытателей на космодроме не должен меняться: те, кто будет готовить первый корабль, будут готовить и второй и третий. Вам, – Главный повернулся ко мне, – лететь сейчас. Здесь остается Фролов.
Известно, какое значение имеют слаженность действий орудийных расчетов в бою, слетанность самолетных экипажей. Взаимопонимание с полуслова, вера друг в друга… Наша «первая сборная» должна была отлично «сыграться». В том, насколько прав был Сергей Павлович, предложив такой порядок работы, мы много раз убеждались впоследствии.
Через день вылетели на космодром. Работа была расписана по дням, часам и минутам. Настроение у всех приподнятое. Испытания шли четко, без замечаний. Закончена проверка кресла, всех его механизмов и приборов. Инженеры из группы Федора Анатольевича подготовили манекен, одели его уже не в белый халат, а в настоящий летный скафандр. Когда ярко-оранжевую фигуру уложили в кресло, застегнули замки привязной системы и подсоединили электрические разъемы от микрофонов, телефонов и телеметрических датчиков, к нам подошел Сергей Павлович. С ним было несколько человек. Одного из них я видел впервые.
– Заканчиваем подготовку кресла с манекеном к установке в корабль! – доложил Федор Анатольевич.
Подошедшие стали рассматривать лежащего в кресле «человека».
– Сергей Павлович, а знаете, увидев такую фигуру где-нибудь в поле или в лесу, я принял бы ее за покойника! – усмехнувшись, заметил незнакомый.
– Да, Марк Лазаревич, пожалуй, вы правы. Мне это как-то до сих пор в голову не приходило. Перестарались чуть-чуть товарищи – не надо бы придавать манекену такого сходства с живым человеком. А вдруг после приземления подойдет к манекену кто-нибудь из местных жителей? Пожалуй, и недоразумение может произойти. Федор Анатольевич, что ж делать?
– Сергей Павлович, подготовка уже закончена, герметичность проверена и электрические испытания прошли…
Быстро родилось вполне приемлемое предложение: на спине скафандра краской крупными буквами написать: «Макет», а лицо под шлемом закрыть куском белого поролона, на котором сделать такую же надпись. На это ушло полчаса. Наконец кресло передали для установки в корабль.
В монтажном корпусе около ракеты я опять встретил Сергея Павловича с тем товарищем, которого он назвал Марком Лазаревичем. Главный подозвал меня:
– Вы знакомы? Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, кандидат наук Марк Лазаревич Галлай. Уже полгода занимается с космонавтами. Его, наверное, интересует корабль…
– Ну конечно, Сергей Павлович, очень хотелось бы все потрогать своими руками.
– Так вот, в вашем распоряжении ведущий конструктор. – И, повернувшись ко мне: – Покажите и расскажите Марку Лазаревичу все, что его будет интересовать!
Манекен в скафандре был не единственным «космонавтом» на корабле. Чтобы ему не было «скучно», в компании с ним должна была лететь собачка Чернушка. В отличие от предыдущих космических путешественниц, она не располагала отдельной герметичной кабиной с питанием, регенерационной установкой, индивидуальной вентиляцией. Ее поместили в простую клетку, которую установили вместо «космического гастронома» (так мы называли маленький шкафчик с продуктами питания для космонавта). Подобное ущемление собачьего достоинства было допустимо, поскольку полет корабля по программе должен был продолжаться не сутки, как с Белкой и Стрелкой, а всего около 100 минут – один виток.
Медики тщательно подготовили пассажирку. Ее задача, несмотря на непродолжительность полета, была не из легких. Собачке предстояло не только перенести в простой клетке взлет, невесомость и перегрузки при входе в атмосферу, но и впервые приземлиться вместе с кабиной, а не катапультироваться, как ее предшественницы.
На заседании государственной комиссии был подробно обсужден и утвержден порядок подготовки к пуску, назначенному на 9 марта.
Генеральные испытания ракеты на старте прошли без замечаний. Наступил наш черед. Посоветовавшись с Константином Давыдовичем, мы решили перед установкой клетки с Чернушкой как следует отработать закрытие крышки люка. Расчет «верхнего мостика» получил задание – произвести установку крышки десять раз. Сэкономленное на этой операции время может быть потом использовано космонавтом для проверки систем кабины. С секундомером в руках наблюдаю, как раз за разом устанавливается и снимается крышка. Хорошо, четко работают ребята, все меньше и меньше минут тратят. Еще раз! Еще раз!
Приехал Сергей Павлович. Вышел из машины, подошел к ракете. Константин Давыдович доложил ему о ходе подготовки. Вызвав лифт, спускаюсь вниз.
– Сколько времени вам надо? – спросил Главный, посмотрев на часы.
Я ответил.
– А нельзя ли быстрее? – И, не ожидая ответа, тут же: – Что-то медики задерживаются. Почему же они до сих пор не привезли Чернушку? Пойди-ка быстренько позвони, в чем там дело?
Дежурный ответил, что машина с «медициной» вышла три минуты назад. Не успел я подойти к ракете, как из-за поворота бетонки показался «газик», и через минуту на руках лаборанта Чернушка поехала на лифте вверх занять свою «однокомнатную квартиру без удобств». Через десять минут медики спустились вниз. Теперь Федору Анатольевичу положено последний раз осмотреть кресло, скафандр, подключить штепсельные разъемы к пушке катапульты. Сергей Павлович, приказав докладывать ему о завершении каждой операции, вместе с членами государственной комиссии ушел в «банкобус» – небольшое здание, расположенное неподалеку от стартовой площадки (кто и почему так его назвал – не знаю). Обычно там проходили последние предстартовые заседания комиссии.
Федор Анатольевич с товарищами поднялись к кораблю. Им понадобится минут двадцать. Вдруг минуты через две лифт стремительно понесся вниз. Из него выскочил красный от ярости Федор Анатольевич. Налетев на меня, он выдал такую витиеватую и трудновоспроизводимую тираду, что даже у меня перехватило дыхание. Понять можно было только одно: кто-то жулики, кто-то бандиты, и те и другие мои любимцы, он этого так не оставит, а сейчас же доложит все Сергею Павловичу и председателю госкомиссии. Я уж и впрямь подумал, что случилось что-то ужасное. Ну по крайней мере, украли кресло вместе со скафандром и манекеном, не иначе! Дыхания, видно, у Федора Анатольевича больше не хватило, он умолк. Во время паузы мне удалось вставить несколько уточняющих вопросов.
– Нет, ты понимаешь, – кипятился он, – что творит эта… медицина! Ты думаешь, они Чернушку сажали?
– А что же?
– Они открыли шлем скафандра и напихали туда каких-то пакетиков! Нет, ты представляешь, что это такое?
– Ну и что, – пытался я смягчить его ярость, – они же устройство шлема хорошо знают. Не сломали, надеюсь?
Федор Анатольевич опять начал захлебываться. Несмотря на комизм ситуации, грубое нарушение установленного порядка было налицо.
Мы пошли в «банкобус» и, увидев там мирно беседующих Сергея Павловича и руководителя медгруппы Владимира Ивановича Яздовского, решили, что обстановка самая подходящая. Выслушав заикающегося от волнения Федора Анатольевича, Сергей Павлович спокойно попросил нас немного погулять. Едва мы вышли на крылечко, как в комнате стало шумно, хотя слышны были только два голоса. Разговор, как видно, был серьезный. Через пять минут был вызван я и получил свою порцию за то, что у меня на глазах творятся подобные безобразия. Оказывается, в пакетах были семена лука. Это был дополнительный биологический эксперимент.
С согласия главного конструктора скафандра и к величайшему неудовольствию Федора Анатольевича пакетики оставили на «незаконном месте». Но на следующий день в группе медиков стало на одного человека меньше.
9 марта. Старт. Корабль вышел на орбиту. Через полтора часа – посадка. Замечаний по полету не было.
Чернушка перенесла полет и приземление внутри корабля вполне удовлетворительно. Только на ее задней ноге были обнаружены… мужские наручные часы на браслете! Недоумевали мы не очень долго: часы есть часы, и у них, конечно, есть хозяин, который, конечно, заинтересован в благополучном исходе своего индивидуального эксперимента! Часы довольно скоро нашли своего владельца, хотя, по понятным причинам, он сам до поры до времени не очень торопился признать приоритет экспериментатора. Я хорошо знаю этого человека. Он видный ученый-медик, всеми уважаемый человек, большой юморист.
Государственная комиссия приняла решение готовить к пуску следующий корабль – второй из этой серии. Он должен полностью повторить программу полета первого корабля. План подготовки, понятно, оставался тем же. Весьма приятным сюрпризом был приезд на космодром группы будущих космонавтов. Я спросил прилетевшего с ними Евгения Анатольевича, как понравился им космодром.
– Да что тебе сказать – одно слово: здорово! У ребят других слов, кроме «Вот это да!», не находится.
Особое впечатление на будущих космонавтов произвела ракета-носитель с космическим кораблем – здесь они впервые увидели корабль и ракету собранными вместе.
– А знаешь, что ребята говорили, глядя на ракету? «Наверное, надоело ей возить собачонок на орбиту, а? Пожалуй, она сама понимает, что наша очередь подходит!»
Планы и действия ученых и конструкторов, запускающих корабли с животными, ребятам, конечно, были понятны. Но понятно было и их желание сесть в кабину и самим полететь. Любой из них, конечно, был уже готов к полету, знал, что он не за горами и что сейчас генеральная репетиция. Одного только они не знали: кто полетит первым?
На следующий день космонавты зашли в комнату, где готовилась в рейс очередная пассажирка. С ними были Евгений Анатольевич и генерал-лейтенант авиации Николай Петрович Каманин. Николая Петровича я узнал сразу, хотя встретился с ним впервые: вспомнилось детство, 1934 год, «Челюскин». Весь мир тогда взволнованно следил за героями-летчиками, прорывавшимися к далекой льдине на выручку попавших в беду полярников. Я, двенадцатилетний парнишка, до самозабвения преданный авиации, мечтавший стать не меньше, как крупнейшим авиационным конструктором, и мастеривший всевозможные модели самолетов – от простых «схематичек» до красавиц «фюзеляжных», был полностью поглощен челюскинской эпопеей.
У ребят всегда есть любимые герои. Были они и у нас. Как мы любили перевоплощаться в них! Я был Каманиным, а мой друг, соседский мальчишка, – Ляпидевским. Против нас, через дорогу, жили такие же, как мы, Молоков и Водопьянов. И мы тоже спасали челюскинцев, тоже совершали подвиги. Помню, с каким восторгом встречали мы на откосе железной дороги мчавшийся в Москву экспресс с челюскинцами, а потом до хрипоты спорили, кто кого углядел в окнах вагонов и на площадках тамбуров. Всем хотелось видеть Отто Юльевича Шмидта, героев-летчиков…
Даже парой слов перекинуться с вошедшими в лабораторию не удалось – меня срочно вызвали к кораблю в монтажный корпус. Только потом, позже рассказал мне Марк Лазаревич Галлай о том, что произошло в тот день. Оказывается, очередную пассажирку звали Удачей. Кто-то возразил: «Можно ли с такой кличкой лететь в космос? Не может ли это быть истолковано превратно?» Один из бывших в комнате, рассказывал Галлай, заметил, что уж если кличка собаки должна отражать корни наших успехов в космосе, то давайте, дескать, назовем ее «Коллективный подвиг советских инженеров и ученых» – коротко и мило.
Зная немного уважаемого Марка Лазаревича, я понял, что автором этого милого прозвища был не кто иной, как он сам. Но авторство свое он до сих пор тщательно скрывает. Тем более что то «конструктивное предложение» получило достойный отпор. Однако идея переименовать Удачу получила поддержку. Через час летчики опять зашли к медикам и заявили, что, по общему мнению, собачонку следует назвать Звездочкой. Так и было решено.
21 марта подготовка корабля была закончена. 25 марта – старт. Корабль вышел на орбиту. Полученные данные свидетельствовали о том, что и на этот раз все идет строго по программе – все работает отлично. Через полтора часа пришло сообщение о спуске и посадке в намеченном районе. Звездочка чувствовала себя прекрасно.
Теперь – человек! Да, на пороге космоса встал человек, чтобы, воплотив многовековые мечты, опыт, труд, мысли сотен ученых, тысяч инженеров, летчиков, испытателей, шагнуть туда, в неведомое. Что давало нам право на такой шаг? Десятки, сотни, тысячи экспериментов в лабораториях ученых и исследователей, десятки запусков ракет с обширным планом медико-биологических исследований, пять полетов космических кораблей-спутников.
Был создан и проверен сложнейший наземный комплекс специального связного и командного оборудования – сеть наблюдательных станций, оснащенных радиолокационными, радиотелеметрическими, связными, телевизионными и радиокомандными средствами. С помощью этих средств могли производиться точнейшие измерения параметров орбиты космических кораблей, состояния их систем, регистрироваться телеметрическая информация о состоянии космонавта и необходимые параметры окружающего пространства.
Телевизионные средства и системы связи позволяли наблюдать изображение космонавта и поддерживать с ним двустороннюю радиосвязь. Для управления работой наземных станций был создан особый командный пункт, куда по специальным автоматизированным линиям связи поступала вся принимаемая с космического корабля информация. Расчет параметров орбиты производился в вычислительных центрах, оборудованных современными электронными вычислительными машинами.
Наша ракетная техника к 1961 году приобрела достаточный опыт в создании автоматических устройств, обеспечивающих безотказную подготовку на старте, запуск и полет по строго расчетной траектории. Конструкторы научились решать задачи обеспечения полета многоступенчатых ракет, где каждая ступень – сложнейший автомат, решать задачи обеспечения орбитального полета, спуска и приземления кораблей.
Техника готова была «принять в свои руки» человека. Техника – да. Но достаточно ли мы были знакомы с пространством, в которое должен был попасть человек, со средой, где будет летать корабль? До 1957 года ученые очень мало знали о космосе. Первые искусственные спутники Земли и лунные космические ракеты значительно расширили эту область знания, хотя оставалось еще много неизвестного.
В один из теплых мартовских вечеров во время подготовки полета Звездочки, передав корабль вакуумщикам на проверку герметичности в барокамере, мы улучили немного времени для отдыха: по плану проверка должна была длиться часов до четырех утра, и вечер оказался совсем свободным. Решили пойти посмотреть какой-то новый кинофильм, но картина не понравилась, и несколько человек, в том числе и я, потихоньку, чтобы не мешать остальным, стали в темноте пробираться к выходу.
Пробуждающаяся после зимы степь источала какой-то особенно ароматный воздух. Хотелось дышать глубоко-глубоко… Пошли по бетонке. Смеркалось. Пройдя метров триста, вышли из городка. Кругом только небо да степь. Впереди слышались негромкий говор да иногда трескучий звук камешка, подбитого ногой. Прибавив шагу, мы догнали Сергея Николаевича Вернова и одного из его помощников, Анатолия Гавриловича Николаева. Разговор шел профессиональный – о результатах проверки радиометров корабля. Кто-то из наших попросил Сергея Николаевича рассказать о космических лучах и радиационной опасности. Вот что мы тогда услышали.
Не только космическая техника и ее возможности, но и само космическое пространство в большой степени определяют характер и продолжительность космического полета. Человек в таком полете подвергается воздействию космических лучей, приходящих из глубин Галактики и от Солнца, а также электронов и протонов радиационных поясов, окружающих нашу планету.
Космонавт должен знать радиационную ситуацию во время полета. Для этого на борту корабля устанавливаются дозиметры, которые не только передадут по телеметрии на Землю данные об уровне радиации, но и предупредят космонавта об опасности. В крайнем случае может быть принято решение об экстренной посадке корабля.
Еще о многих свойствах космических лучей рассказывал в тот вечер Сергей Николаевич. И вновь подумалось: какое мощнейшее научное оружие дали спутники и космические ракеты ученым! Ведь именно за «спутниковый» период совсем близко от Земли были обнаружены радиационные пояса. Космическое пространство, которое почти все считали пустым, оказалось заполненным интенсивным излучением. Теперь многие непонятные прежде явления стали легкообъяснимыми.
Ждали сюрпризов и от невесомости – состояния, совсем непонятного в то время. В наземных условиях его добивались на летающих по определенной траектории реактивных самолетах лишь на несколько десятков секунд. А как оно скажется на человеке при более длительном воздействии? Прогнозы теоретиков в то время были неутешительными. Вы, наверное, запомнили, как тяжело переносили невесомость крысы, как они метались по клетке. А человек? Жизнь и здоровье человека – самое дорогое, и никто не мог ими рисковать.
1961 год, естественно, не 1957-й. Время обогатило науку новыми данными. На многое ответили приборы, часть вопросов помогли решить животные. Но невесомость… Она по-прежнему была таинственной. За 30–40 секунд ощущения невесомости человек еще не переступал. Но даже такие полеты на самолетах показывали, что явление это далеко не из простых. Было установлено, что есть люди, переносящие кратковременную невесомость без заметного ухудшения общего самочувствия и работоспособности, они лишь испытывают расслабленность или чувство облегчения от потери веса.
Но далеко не у всех было так. У некоторых испытателей в таких же точно условиях появлялись иллюзии падения, переворачивания, вращения тела в неопределенном направлении. Порой людям казалось, что они подвешены вниз головой. Эти ощущения в первые несколько секунд сопровождались беспокойством, потерей ориентации, неправильным восприятием окружающей обстановки. Вдруг возникали смех, игривое настроение, совсем не вызываемые ситуацией. Люди забывали о задаче эксперимента.
Один из врачей изучал воздействие невесомости на себе. Сначала он почувствовал, что проваливается в бездну, затем перед его глазами «поплыли» товарищи – кто вверх ногами, кто боком. Они двигались, кувыркались, принимали необычные позы, отталкивались от пола, потолка, стенок и быстро проносились перед его глазами. Врач ожидал, что ощущение невесомости он будет переносить плохо, а получилось так, что чувствовал он себя довольно хорошо. Это вызвало у него чувство восторга. Однако при втором заходе самолета на невесомость наступила полная дезориентация. Правда, через некоторое время врач увидел пол, потолок, стены. Затем ему показалось, что кабина самолета быстро удлиняется, словно он смотрит в перевернутый бинокль. Предметы как будто были рядом, но дотянуться до них рукой он не мог.
Интересны самонаблюдения одного летчика, который впервые пилотировал самолет в условиях невесомости. Через несколько секунд он почувствовал, будто голова у него начинает распухать и увеличиваться. Еще через несколько секунд возникло впечатление, будто тело крутится в неопределенном направлении. Затем летчик полностью потерял пространственную ориентацию. Другой пилот ощущал очень неприятное чувство беспомощности и неуверенности, которое не покидало его весь период невесомости. Оказалось, что есть группа людей, у которых пространственная дезориентация в невесомости выражается очень сильно, сочетаясь с признаками морской болезни. Появляются иллюзия падения, чувство ужаса, человек начинает кричать, не воспринимает указаний товарищей, нередко после полета не помнит, что с ним происходило…
Вот что примерно знали к началу 1961 года о невесомости. Сегодня, после множества исследований, известно, что невесомость не так уж страшна – страхи порождались в основном слухами. А людей, плохо переносящих кратковременную невесомость, оказалось мало. Но это сегодня. А тогда?








