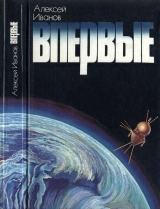
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Теоретически возможность создания искусственного спутника, обращающегося вокруг Земли, предсказал еще Исаак Ньютон. К. Э. Циолковский теоретически обосновал возможность «устроить постоянную обсерваторию, движущуюся за пределами атмосферы неопределенно долгое время вокруг Земли, подобно Луне». Обсерватория, движущаяся за пределами атмосферы… Так определял назначение искусственных спутников Земли Циолковский.
Год 1955-й. Подготовка Международного геофизического года (МГГ). Программа комплекса исследований должна была реализоваться в течение 1957–1958 годов учеными 40 стран. Перед ними стояла задача организовать одновременные наблюдения за явлениями на Земле, в ее атмосфере, в океане, в космическом пространстве – исследования, необходимые для достижения прогресса в решении проблем, связанных с изучением Земли и ее атмосферы.
Особый интерес вызывало изучение верхних слоев атмосферы с помощью средств, до этого времени не применявшихся. Речь шла о ракетах. К тому времени ракеты в США и Советском Союзе способны были достигать высоты 300–400 километров. Появилась возможность непосредственных исследований тех явлений в верхней атмосфере, которые невозможно было вести с Земли и о которых нельзя было судить лишь по косвенным признакам. Ракеты предоставляли возможность наблюдать изменения геофизических параметров атмосферы с увеличением высоты. Вот только время пребывания ракет на высоте было крайне ограниченным. Если бы они летали не минуты, а часы…
Вероятно, мысли ученых в который раз возвращались к Ньютону и Циолковскому. Искусственный спутник Земли. В отличие от ракеты, он может сообщать сведения с больших высот в течение долгого времени. Многие ученые пришли к выводу: искусственный спутник будет ценным дополнением к программе Международного геофизического года, к ракетным методам исследований. Дополнением…
29 июля 1955 года президент США одобрил план запуска искусственного спутника Земли в США. Он должен был стать вкладом США в программу МГГ. Группа американских ученых и инженеров немедленно приступила к проектированию «Авангарда» – так предполагалось назвать первый американский спутник. Он должен был быть сферическим, диаметром около 50 сантиметров, весом около 10 килограммов. В прессе изредка появлялись сообщения об этой работе. По признанию американских ученых, статьи о запуске «Авангарда» хотя и становились все более модными, но большей частью носили общий, неясный, однако весьма напыщенный характер.
А теперь вернемся на год раньше, в май 1954 года.
«О возможности разработки искусственного спутника Земли.
По вашему указанию представляю докладную записку тов. Тихонравова М. К. „Об искусственном спутнике Земли“, а также переводной материал о работах в этой области, ведущихся в США. Проводящаяся в настоящее время разработка нового изделия позволяет говорить о возможности создания в ближайшие годы искусственного спутника Земли.
Путем некоторого уменьшения веса полезного груза можно будет достичь необходимой для спутника конечной скорости 8000 метров в секунду. Изделие-спутник может быть разработано на базе создающегося сейчас нового изделия, упомянутого выше, однако при серьезной переработке последнего.
Мне кажется, что в настоящее время была бы своевременной и целесообразной организация научно-исследовательского отдела для проведения первых поисковых работ по спутнику и более детальной разработки комплекса вопросов, связанных с этой проблемой.
Прошу вашего решения».
Это первый официальный документ, в котором С. П. Королев, обращаясь в Советское правительство, ставит вопрос о начале практических работ по созданию искусственных спутников Земли.
Июнь 1955 года. Из письма С. П. Королева в Академию наук СССР:
«Необходимо было бы развернуть работы, связанные со всем комплексом вопросов по созданию искусственного спутника Земли (ИСЗ), поначалу в самом простом варианте. Мы полагали бы возможным провести эскизную разработку проекта самого ИСЗ с учетом ведущихся работ (особенно заслуживают внимания работы М. К. Тихонравова), со сроками представления эскизных материалов в конце 1956 года…
Было бы весьма полезным обсудить в стенах Академии наук СССР, с привлечением соответствующих ведомств и организаций, поставленные выше вопросы с тем, чтобы найти практические решения, установить исполнителей, вероятные сроки и т. д.».
Сентябрь 1956 года. Из тезисов доклада С. П. Королева:
«Создание этого эскизного проекта не является случайностью, а подготовлено всей предшествующей работой организаций, занимавшихся разработкой ракет дальнего действия… Несомненно, что работа по созданию первого искусственного спутника Земли является важным шагом на пути проникновения человека во Вселенную, и несомненно, что мы вступаем в новую область работ по ракетной технике, связанную с созданием межпланетных ракет…»
В проектном отделе ОКБ по заданию Королева был подобран весь материал, который публиковали американцы по проекту «Авангард». Проектанты посчитали, прикинули и… улыбнулись. Сегодня на доклад к Главному они пойдут с хорошим настроением. Обычно к нему легче всего было попасть вечером. Оно и понятно – вечером смолкают телефоны, уезжают смежники…
– Заходите, заходите, пожалуйста, я вас жду. Что ж получилось, интересно?
– Подсчитали мы, Сергей Павлович: «Авангард» на «Викинге», еще с двумя ступенями, может вывести на орбиту не более десяти килограммов…
– Да-a, негусто! Впрочем, понятно. У них все ограничено до предела. Понимаю, что им связывает руки. Ракета. Маловат «Викинг», маловат. Вы говорите – десять килограммов? Это что – собственно спутник?
– Нет, Сергей Павлович, это с корпусом последней ступени, после выгорания топлива.
– Ну, ничего, я думаю, нам можно будет не включать веса ступени, а? И без этого будет внушительно. Думаю, мы полностью все возможности использовать не будем. Спутник надо сделать килограммов на восемьдесят – восемьдесят пять. Это для начала. Ведь еще все впереди, дорога у нас дальняя. А что, интересно, черт возьми, если опубликовать вес со ступенью? А? Сколько это будет? Тонн семь с половиной? Так?
– Семь семьсот, Сергей Павлович.
– Вот то-то и оно. Но не зазнавайтесь! Американе (он так и говорил: «американе». – А. И.) народ серьезный! Вот так. Ну, ничего, посмотрим, посмотрим… Я думаю, мы очень скоро внесем окончательные предложения в Центральный Комитет и в Совет Министров.
1957 год, август. Из сообщения ТАСС:
«В соответствии с планом научно-исследовательских работ в Советском Союзе произведены успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты… Полет ракеты происходил на очень большой, до сих пор не достигнутой высоте… Полученные результаты показывают, что имеется возможность пуска ракет в любой район земного шара…»
Это сообщение ТАСС не вызвало переполоха в мире. Но быть может, кто-то и почувствовал необычность происшедшего: «Пуск ракет в любой район земного шара…»
В это время в цехах завода рождался объект ПС (простейший спутник). Так сухо и буднично был окрещен тот, кому надлежало свершить дела далеко не будничные. Однако рабочие, а порой и сами проектанты и конструкторы, назвавшие свое творение столь строгим именем, проявляя чувства нежности и любви к своему первенцу, именовали его так ласково, так тепло – пээсик.
А для меня космос начинался так.
Как-то в конце рабочего дня в середине 1957 года ко мне подошел Михаил Степанович – один из ведущих инженеров нашего конструкторского бюро. Его крупное открытое лицо, спокойный взгляд как будто не таили ничего необыкновенного, тревожащего. Удобно усевшись на диван, стоявший в моей рабочей комнате, он повел, в общем-то, обычный разговор, который часто можно слышать в конструкторско-производственной среде: интересно, конечно, работать в конструкторском отделе, быть ближе к производству тоже неплохо, а участвовать в создании нового, совсем нового – просто великолепно.
Вскоре, однако, я начал подозревать, что у речей Михаила Степановича весьма определенное направление и что он ведет огонь хоть и издалека, но по хорошо видимым целям. И действительно, спустя еще несколько минут он выложил главное:
– Слушай, давай вместе работать!
– Над чем работать? Кем?
В конце концов выяснилось, что Михаила Степановича назначают ведущим конструктором первого спутника, разработка которого уже шла в нашем конструкторском бюро. Мне же он предлагал быть его заместителем, ну, конечно, если я согласен и если Сергей Павлович эту идею поддержит.
Скажу прямо: предложение Михаила Степановича застало меня врасплох. Что значит ведущий конструктор или его заместитель, я примерно представлял. Все знать, все видеть, за все отвечать. Но представлять – одно, работать – чуть-чуть, так сказать, другое. О самом себе в подобной роли я никогда не думал. Впрочем, дело, конечно, интересное. Но ведь каждый, переходивший с одной работы на другую, может вспомнить, как мысленным взором измерял вереницу «за» и «против» и считал, чего больше, а чего меньше!
Поздно вечером нас принял Главный.
– Ну что, договорились? – в упор спросил он, глядя на нас усталыми глазами.
Я понял, что какой-то разговор обо мне уже был.
Михаил Степанович попытался обстоятельно доложить о моих колебаниях, но Сергей Павлович жестом остановил его и, глядя на меня, спросил:
– Согласны?
Смутившись, я довольно бессвязно пролепетал что-то в том духе, что все это для меня очень ново и что у меня нет опыта…
– А вы думаете, все, что мы делаем, для всех нас не ново? На космос думаем замахнуться, спутники Земли делать будем – не ново? Человека в космос пошлем, к Луне полетим – не ново? К другим планетам отправимся – старо, что ли? Или вы думаете, мне все это знакомо и у меня есть опыт полетов к звездам?
Я молчал.
– Эх, молодость, молодость! Ну что ж, скажу: молодость – штука хорошая, и это не главный ваш недостаток! Так что же, беретесь?
– Берусь, Сергей Павлович!
– Ну вот и добро. Желаю всего хорошего. И до свидания. Меня еще дела ждут.
Его рука легла на пухлую стопу вечерней почты. Было около одиннадцати часов вечера.
На следующее утро я сразу же разыскал Михаила Степановича.
– Ну-с, товарищ ведущий конструктор, теперь вы обрели заместителя. А знаете ли вы, что ваш зам до сих пор по роду своей работы не имел никакого отношения к тому, в чем он должен вас замещать?
– Ладно, ладно. Тебе Сергей Павлович вчера что сказал?
– Ну, то Сергей Павлович, а ты-то ведь знаешь, Михаил, что ни проектными, ни конструкторскими, ни производственными делами я не занимался. Ведь я кто? По образованию инженер-радиотехник, по опыту работы, как в анкетах пишут, то же.
– Слушай, не трать времени. Пошли к Бушуеву. Доложим ему – и за работу.
Мы поднялись на третий этаж. Вокруг стола в небольшом кабинете заместителя Главного по проектным делам, несмотря на ранний час, уже стояло несколько инженеров. Мы подошли, поздоровались. Константин Давыдович, улыбнувшись, протянул руку:
– Ну что ж, поздравляю с новой работой!
Представляться не пришлось.
Обсуждали они, как я постепенно начал понимать, терморегулирование спутника. Из технических терминов, густо украшавших разговор, только редкие слова, вроде таких, как «вентилятор» или «блок автоматики», имели для меня более или менее конкретный смысл. Остальные же: коэффициенты А и Е, «электрохимическое полирование», «термическое сопротивление излучения, поглощения, тепловыделения» и т. п. – были бессодержательны.
– Товарищи мои дорогие, – Константин Давыдович как-то очень значительно посмотрел на собеседников. – Нам надо привыкать мыслить иными категориями. Обеспечение теплового режима спутника дело новое. Спутник на орбите будет подвергаться резко переменным тепловым воздействиям – нагреваться Солнцем над освещенной стороной Земли и охлаждаться над теневой. И хотим мы этого или не хотим, а в тепловом отношении он будет самостоятельным небесным телом. Да-да. Он будет обмениваться теплом с окружающим его космическим пространством…
Послушав еще минут десять, я, незаметно толкнув Михаила Степановича в бок, кивнул на дверь. Мы вышли в коридор.
– Ну, знаешь, хорош у тебя зам. Хоть бы что-нибудь да понял!
– Да ну тебя! Бросай скулить! Что ты, в самом деле?
– Да не скулю я! Ведь все это изучать придется…
– Вот это верно. Литература есть, да и проект готов. Ребята тебя знают, ты их тоже. Осилишь…
Несколько дней я не появлялся на третьем этаже – рылся в отчетах, ворошил справочники, разбирался в проекте и, зажав самолюбие, просил то одного, то другого знакомого инженера подробнее рассказать обо всем для меня новом и непонятном.
Лишь с вопросами, которые касались радиотехники, электроники, было полегче – это было свое, родное. Правда, Михаил Степанович как-то утешил меня, сказав, что в спутниках Земли, как он понимает, две трети, а то и три четверти веса и объема будет занимать электроника.
– Так что не тужи, друг: двадцать пять процентов дела освоишь, а остальные семьдесят пять – это твой хлеб!
Но даже «свой хлеб» не выпекался легко. Однако чем труднее было, тем интереснее, не заскучаешь! Начало тем и хорошо, что не бесконечно. Постепенно я стал осваиваться. Помогал мне Михаил Степанович, да и с Константином Давыдовичем, несмотря на его занятость, удавалось порой потолковать.
В проектном отделе работа шла полным ходом. То, что должно было получить название, еще странное и необычное в машиностроении – спутник, – на листах ватмана приобретало вполне конкретный облик. Шар. Шарик с четырьмя усами – антеннами. Тщательно было проработано и внутреннее устройство. У проектантов приняли эстафету конструкторы. Вскоре из конструкторского отдела в производство пошли чертежи. А там не заставил себя ждать и металл, как у нас принято было называть детали изделий.
Много интересного и любопытного время сгладило в памяти, да и память-то не старалась запечатлеть всего. Ведь то была работа. Просто работа. Спорили, дружно соглашались, но и ругались порой. То какой-нибудь цех не подавал на сборку в установленный срок какую-то деталь, то не вовремя привозили что-то из смежной организации. В общем, крутилось обычное колесо нового заказа.
Так было, пожалуй, до одного августовского дня, когда в цех, где предполагалось собирать спутник, зашел Сергей Павлович. Все знали его строгость и к каждому посещению, если об этом заранее удавалось узнать, готовились, но почему-то, как всегда, в этот момент обязательно в проходе цеха торчал какой-нибудь злополучный ящик или еще что-нибудь являло непорядок. Так случилось и на этот раз. Сцена была эмоционально достопримечательная.
Опуская подробности, слова и жесты, скажу, что скоро, очень скоро в цехе появилась специальная комната для сборки, со свежепокрашенными стенами, с шелковыми белыми шторами на окнах и бордовыми плюшевыми на дверях. Подобного на заводе еще не видели. А увидев, поняли – заказ-то идет не простой, а, надо думать, особый. Само дело требовало необычайной чистоты: ведь поверхности оболочки спутника полировались не для красоты. Слесари-сборщики надели белые халаты, белые нитяные перчатки. Детали клали на подставки, обтянутые бархатом. Вот так на завод пришло новое – новая культура, новое отношение к делу, новое качество, новая ответственность.
Рядом в соседнем громадном цехе шла напряженная работа. Готовилась ракета-носитель. Там крутился Михаил Степанович. Мы с ним поделили работу так: он занимался ракетой, я – спутником. Строгий почасовой график предусматривал одновременное окончание работ. График-то был строгим, и утвержден он был самим Главным, но дело-то новое. А в любом новом деле всегда возможны неожиданности…
Помню, под самый конец сборки, когда уже совсем не оставалось по графику резервных часов и нужно было передавать ПС на совместные с ракетой испытания, доставили нам «минуты приятные» кронштейны, которыми на корпусе спутника крепились антенны. Вернее, пружинки в этих кронштейнах. Незначительные детальки, казалось бы. С их изготовлением чуть задержались, а испытания, как нарочно, показали, что надо менять, сейчас не помню точно, то ли материал, то ли толщину этих пружинок.
Времени совсем не было. Мы молили (о наивность, о атеистический дух, в котором мы все были воспитаны!) господа бога, чтобы он послал какую-нибудь задержку ракетчикам, пусть маленькую, самую малюсенькую!
Вечером, по пути в конструкторское бюро, я встретил Михаила Степановича:
– Послушай, Миша! Как у вас дела, а?
– Да как дела… Все в порядке. Сегодня заканчиваем. Ночью вместе испытывать будем, так?
– Значит, у тебя все-все готово? – с некоторой тревогой спросил я.
– Почти все. Сейчас заканчивают проверку системы управления.
– А может… отдохнете эту ночку? Ведь устали… А завтра с утра и начали бы совместные, а?
– Ты давай не хитри! Не готово у вас, что ли?
– Да нет, готово. Просто о вашем здоровье беспокоюсь.
– Уж очень подозрительно мне это беспокойство. Давай-ка выкладывай, что случилось.
Пришлось рассказать ему о кронштейне.
– Да, дела неважные… А СП знает (так звали у нас Сергея Павловича. – А. И.)?
Я отрицательно покачал головой.
– Докладывать, хочется того или не хочется, нужно, никуда не денешься.
– Миша, может, ты один пойдешь?
– Э, нет, дорогой, это твои дела. Валяй сам.
– Ну, Миш, ну, будь человеком, ведь ты же ведущий! Если я пойду один, СП может подумать, что ты и не в курсе…
– Ну, ладно, политик! Пошли.
В приемной Главного никого не было – сам по себе случай странный. Антонина Алексеевна, его постоянный секретарь, просматривала какие-то бумаги. Было что-то около восьми вечера.
– Сергей Павлович у себя?
– У себя.
– А настроение как?
– Да вроде ничего. А у вас что?
– Доложите. Он нам нужен на минуточку.
Антонина Алексеевна зашла в кабинет Главного и тут же вернулась:
– Заходите.
Сергей Павлович сидел за своим рабочим столом. Наклонив вниз голову, он поверх тонкой золотой оправы очков посмотрел на нас:
– Ну, что стряслось? Раз вместе, что-то случилось?
Я скосил глаза на Михаила. Мне говорить или он будет докладывать? Пауза затянулась.
– Вы что ж, пришли со мной в молчанку играть?
– Сергей Павлович, – начал Михаил, – у нас с ПСом неприятность маленькая приключилась. Испытания пружины в антенном кронштейне…
– Хороши ведущие, – перебил Сергей Павлович. – А где же вы целый день были? Кто за вас должен своевременно докладывать? Сво-е-вре-мен-но! Я что, вас назначил ведущими, чтобы мне другие докладывали, что на производстве происходит?
Я почувствовал, что краснею. Неужели Сергей Павлович уже знает об этом злополучном кронштейне?
– Безобразие какое-то творится. Все молчат! Все скрывают! Я что, один должен всем заниматься? – темные глаза Сергея Павловича уже через очки пристально, сурово, не моргая смотрели на нас. – Чтобы такое безобразие было первый и последний раз! А вот теперь нате, полюбуйтесь! – он протянул Михаилу бумажку, лежавшую на столе.
Михаил взял бумагу. Я краем глаза прочитал:
«Приказ по предприятию №…
За несвоевременное уведомление о имевшем место недостатке, выявленном при испытании детали антенного кронштейна объекта ПС, приказываю: объявить выговор заместителю главного конструктора (свободное место), начальнику отдела (свободное место) и начальнику группы (свободное место)».
Подписи не было.
– Ну что? Прочитали? Очень мне хочется пополнить этот приказ еще одной фамилией, – и Сергей Павлович посмотрел в мою сторону.
Я почувствовал, что краснею еще больше. Стыдно и досадно. Мерзко. Так начинать свою работу… С выговора.
– Так и быть, на первый раз наказывать не буду. Но чтоб это было в первый и последний раз! Так и знайте! И вы, Михаил Степанович, приучайте к порядку вашего заместителя… – Сергей Павлович на минуту замолчал.
Телефонный звонок прямого аппарата резко нарушил повисшую в кабинете тишину. Взял трубку:
– Королев. Здравствуй. Что? Что случилось? Час от часу не легче! Михаил Степанович? Да, у меня. Сейчас придет.
Трубка положена.
– Михаил Степанович, давай-ка быстро в цех. Директор завода звонил, какая-то там петрушка на испытательной станции с ракетой. Разберитесь и докладывайте. Если меня здесь не будет, звоните домой. Ну, идите. И помните этот разговор! – Сергей Павлович постучал указательным пальцем по столу.
Мы чуть не бегом помчались в цех.
Человек пятнадцать испытателей обступили пульт, с которого проверялась система управления ракеты, и о чем-то ожесточенно спорили. Оказалось, что от одного из приборов в положенное время не прошла команда к рулевым двигателям. Часть испытателей считала, что это могло случиться по ряду причин, но большинство настаивало на необходимости подробного анализа и повторения испытаний. Короче, нам давалась отсрочка.
Я пулей вылетел из цеха. Надо обязательно за ночь разделаться с этим злополучным кронштейном! «Раскручивать» работу не пришлось, хотя мне очень хотелось после нагоняя проявить свои «ведущие» способности. Начальник цеха сборки, в кабинет которого я влетел словно метеор, успокоил меня:
– Не гомошись, ведущий, не гомошись. Пружину уже сделали и испытали. Сейчас еще раз проверяют. Обещают часа через два кронштейны обязательно дать на сборку.
К утру все было готово. ПС к испытаниям не опоздал. Ракетчики справились со своими делами. Совместные испытания прошли без замечаний.
На следующий день, часов в двенадцать, объявили, что в кабинете Главного будет оперативное совещание. Оперативка. Пришли заместители Главного, начальники отделов конструкторского бюро, руководители завода, начальники основных цехов. Человек сорок. Сергей Павлович заканчивал разговор по телефону. Собравшиеся вполголоса переговаривались между собой. Наконец Главный положил трубку, подошел к столу. Затихли.
– Ну что же, начнем, товарищи. Сегодня мы подведем итоги испытаний ракеты и спутника. Докладывайте, Михаил Степанович.
Михаил докладывал с присущей ему обстоятельностью, поглядывая в блокнот. Но, очевидно, волнуясь, почему-то раза два сказал не «объект ПС», а «объект СП». Главный прислушался, жестом остановил его и тихо, но очень внятно произнес:
– СП – это я, Сергей Павлович, а наш первый, простейший спутник – это ПС! Прошу не путать.
Михаил покраснел. Больше не путался. Весь ход подготовки был разобран очень подробно. Кой-кому досталось за допущенные промахи. Не была забыта и история с антенным кронштейном. Итог был таким: испытания закончены без замечаний, можно готовить и ракету и спутник к отправке на космодром.
Выходя из кабинета Главного, Михаил кивнул мне:
– Зайдем на минутку к себе.
Мы спустились на первый этаж, зашли в свою рабочую комнату.
– А ты знаешь, чем кончилась история с тем приказом по кронштейну? Вот смотри, – и Михаил протянул мне бумагу.
В приказ были вписаны фамилии заместителя Главного, начальника отдела, начальника группы. Но подписан он не был. Скрепкой приколота записка:
«Сергей Павлович! Я бы очень просил Вас не наказывать начальника группы, так как он своевременно выполнил все поручения. В том, что Вам не было доложено своевременно, виноват в первую очередь я». И инициалы заместителя Сергея Павловича.
А на приказе наискось крупным, твердым почерком:
«Мне безумно надоело это противное поведение. Как надо разболтаться, какими стать несерьезными людьми, чтобы так себя вести!
Следующий раз – обязательно накажу!
С. П.».
В начале сентября 1957 года группа проектантов, испытателей, конструкторов и инженеров вылетела на космодром. Сергей Павлович приказал Михаилу Степановичу и мне отправляться туда же (самого его на несколько дней задерживали дела в конструкторском бюро и в Академии наук).
На космодроме до этого мне бывать не приходилось. Как только самолет приземлился на новом степном аэродроме, а мы, пересев на «газики», помчались по степной бетонке, мною овладело чувство необыкновенного, которое не исчезало все последующие дни.
Хорошие строки написал Роберт Рождественский;
Среди земли седой
И выжженных полей
Надежная ладонь
Для звездных кораблей.
Мир спину разогнул
В наплыве дат и вех.
При слове «Байконур»
Планета смотрит вверх!
Космодром… Так же, как и Магнитка, Братск, БАМ, начинался он с первой палатки, первого колышка, вбитого в мерзлый песок, первого кубометра земли, а затем бетона. Сорок жары и сорок мороза. Ветер, казалось, продувает сквозь ребра. Песок. Серые клубки перекати-поля носятся, словно живые.
Сюда, в эти зааральские степи, несколько лет назад прилетел Сергей Павлович вместе с изыскателями, строителями. Ходил, смотрел, думал… И вот теперь… Громада монтажного корпуса, стартовое сооружение – нечто грандиозное, бетонные дороги, поселок на берегу реки… Космодром.
Для подготовки спутника в монтажном корпусе была выделена специальная комната, которая, кстати сказать, потом так и осталась «космической». Вот он – на родных, бархатом обтянутых подставках. Первое, что необходимо проверить, – это, конечно, работу радиопередатчиков. Подсоединены нужные кабели, приборы. Все четко, все в порядке – сигналы мощные, устойчивые. Проверено изменение формы сигналов в зависимости от температуры и давления внутри спутника. Тоже все нормально. Остается поставить внутрь корпуса спутника аккумуляторную батарею. Двое монтажников в белых халатах и перчатках на тележке ввозят ее в комнату. Осторожно поднимают, укладывают рядом на подставку. Вот она – сияет гранями своего полированного серебристого корпуса!
Последние контрольные замеры напряжения. Проводки вольтметра подсоединены к клеммам. Глаза всех присутствующих не моргая смотрят на стрелку. В общем-то, что особенного? Вольтметр, пара проводов, батарея. Но люди серьезно, очень серьезно следят за этой немудреной процедурой. А стрелка…
Стрелка не шелохнувшись стоит на нуле. Еще раз, еще… Нуль! На клеммах нет напряжения. Чувствую, что холодок пробегает по коже, а во рту становится как-то противно кисло. Оглядываюсь – гоголевская немая сцена из «Ревизора». Только смотреть ту сцену в театре – это одно: после нее опускается занавес и все идут домой. А здесь…
Аккумулятор – устройство не бог весть какой сложности. Что же могло с ним произойти? Уж где-где, а тут никак не ожидалось недоразумений. Само собой разумеется, немедленно была создана специальная комиссия с участием самых ответственных работников. Батарею сняли с подставки, и монтажники, у которых гордости поубавилось, словно они были во всем виноваты, вывезли ее из комнаты на аккумуляторную станцию.
С серьезностью хирургов, делающих операцию на сердце, приступили к вскрытию. Батарее, понятно, больно не было, чего никак нельзя было сказать о Валентине Сергеевиче, ответственном представителе предприятия, готовившего батарею. Вот сняты полированные блестящие крышки. В руках монтажницы – штепсельный разъем и… несколько оторвавшихся из-за плохой пайки проводов. Слова, сказанные в тот момент, мало назвать горячими.
Через час в комнате второго этажа испытательного корпуса собралось довольно много народу. Как сейчас вижу побелевшее лицо председателя госкомиссии, его руку, постукивающую по столу обрывком злополучного кабеля, слышу и слова, произносимые сквозь зубы:
– Люди вы или не люди? Ну можно ли найти название этому безобразию?!
Рядом с ним Королев. Молчит, только желваки на скулах ходят. «Подсудимый» – Валентин Сергеевич – с присущей ему невозмутимостью пытается объяснить:
– В целях повышения надежности мы применили эпоксидную смолу, но… но… этого…
– Нет, вы мне ответьте, люди вы или не люди?..
Провода были заменены, все надежно пропаяно, проверено. Батарея установлена на место.
Часа через два все закончено. ПС установлен на легкую тележку. Поблескивая полированной поверхностью, он как бы говорит: «Вот я какой, смотрите!» Двое монтажников берутся за ручку тележки:
– Пошли?
– Пошли!
Как почетный эскорт вокруг человек десять в белых халатах. Проходим по коридору в монтажный зал. Рядом с огромной ракетой ПС кажется таким маленьким и таким близким, словно ребенок, с трудом рожденный и выпестованный.
Крюк крана поднимает серебристый шарик к носовому отсеку ракеты. Длинные усы – антенны – прижались к носовому конусу. Последние пробные включения радиопередатчиков. В зале тихо. Члены государственной комиссии, Сергей Павлович, его заместители, главные конструкторы смежных организаций и предприятий молча стоят рядом с ракетой. Мгновенье – подана команда – и в громадном зале раздаются четкие, чистые сигналы: бип-бип-бип! Это их потом услышит мир. А пока слышим только мы.
Сигналы вырывались из динамиков испытательной установки – такие чистые, такие звонкие, такие необычные. Здесь их никто и никогда еще не слышал. Кто-то не выдержал, зааплодировал. Но тут же, словно поняв неуместность подобного проявления чувств, перестал.
Передатчик выключен. Последние соединения штепсельных разъемов. Поднявшись по стремянке к носу ракеты, я снял предохранительную скобу с контакта, включающего передатчик. Теперь он может включиться только при отделении от ракеты, там, на орбите. Шарик закрыли белым остреньким конусом – обтекателем.
В зал подают мотовоз. Громадная ракета, уложенная на специальную платформу, поблескивая полированными соплами двигателей, подрагивая на стыках рельсов, медленно выползает через бесшумно раскрывшиеся огромные ворота в звездную темень южной ночи. Рядом идут те, чей труд и талант были вложены в ее создание. Идут с непокрытыми головами. Шляпы у многих в руках.
Силуэт ракеты на фоне звездного неба был необычен. Неужели дожили? Неужели? Ракета, медленно двигаясь, уходила в предрассветные сумерки.
Через час она замирает в стартовом устройстве. Почти тут же начинаются предстартовые испытания всех ее систем и приборов. Мы на самом верху, около носа ракеты, и поэтому первые встречаем солнце. Становится ясно, что оно хоть и октябрьское, но жаркое. Температура внутри спутника начинает подниматься. Это недопустимо! Покрываем его куском белой ткани – помогает мало. Просим подать сюда, наверх, шланг для обдува. Выходящая под давлением струя воздуха постепенно снижает температуру до нормальной. Испытатели-ракетчики, работающие на «нижних этажах», заканчивают свои дела.
Незаметно подкрался вечер. Похолодало. Стартовая команда готовится к заправке ракеты. Железнодорожные составы на двух параллельных путях уже ждут. Цистерны топлива переливаются внутрь ракеты. Энергия, заключенная в нем, волей человека должна швырнуть спутник, вопреки силам земного притяжения, в космическую высь!
Нет, не думалось тогда о величии происходящего: каждый делал свое дело, переживая и огорчения и радости.
Окончена заправка. Фермы обслуживания, будто две гигантские руки, раскрывают объятия, готовясь выпустить во Вселенную свое детище.
До старта – полчаса. Площадка около ракеты пустеет. Только Сергей Павлович, его заместитель по испытаниям Леонид Александрович Воскресенский да еще несколько человек остаются. Стараясь, очевидно, скрыть волнение, Сергей Павлович проходит несколько шагов, останавливается, смотрит на ракету… Какие мысли сейчас в его голове? Какие чувства владеют им?








