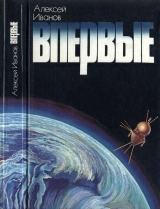
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Ну, хлопцы, все это очень мило, но больше времени на эту операцию не тратьте. Пора на сборку.
– Даем, даем, буквально через две минуты!
Я пошел в монтажный зал. Почти весь он был занят блоками ракеты. Она присутствовала здесь в шести частях: боковые блоки первой ступени, вторая ступень – длинная, с утолщением, на своей передней части, коротенькая, даже на ракету не похожая третья ступень – блок «Е». Все это лежало на отдельных подставках, соединенное только электрическими кабелями. Шел так называемый разобранный комплекс.
Порядок испытаний у ракетчиков отлажен здорово, прямо позавидовать можно. Испытания проходят четко, быстро, слаженно. А у нас, если смотреть со стороны, хуже некуда. Такой четкости у нас, видно, и не может быть. Там порядок испытаний многократно проверен и каждый раз остается без изменений, а у нас что ни пуск, то новая станция, новые приборы, новый порядок испытаний. Таков уж наш удел. Хоть и мал космический золотник по сравнению с ракетой, да дорог. Рядом с ней его и не видать, а возни с ним – будь здоров. Как только ракетчики закончат испытания блоков носителя, начнется сборка пакета. Тогда во всем своем величии ракета будет ждать «полезную нагрузку».
Сборка станции пошла полным ходом. Вслед за сборкой – испытания. Проверены научные приборы. Замечаний нет. Радиокомплекс тоже работает нормально. Очередь за ФТУ. В нем было собственное программное устройство. Оно заведовало включением, запуском того или иного процесса, но только с момента, когда ему самому дадут команду: «Начинай!» Полный цикл работы этого устройства занимал 55 минут. За это время ФТУ должно было сделать все, что ему положено. Все вроде идет нормально 30 минут, 50 минут. Петр Федорович потирает руки, улыбается, подмигивает: знай, мол, наших!
Кончается пятьдесят пятая минута. Признаться, даже как-то тоскливо было выжидать почти час. Ну, слава богу, еще две-три секунды, и все. Но что это? Петр Федорович с тревогой посматривает на часы. 56 минут – программник идет, 57 – идет, 60 – идет, 62 – остановился. Лишних 7 минут! Почему?
Сергей Павлович тут же подходит к нам:
– Что случилось?
– Сергей Павлович, сбой в программнике. В чем дело, сказать не могу. Надо разбирать ФТУ и смотреть.
– Но ведь эти ваши законные пятьдесят пять минут все шло нормально?
– Да, нормально. Но так оставить нельзя, надо разобраться, в чем причина.
– Сколько времени на это нужно?
– Два часа.
– Разбирайте.
А со временем, скажем прямо, было далеко не просто. Как всегда, его не хватало. А тут еще эта задержка. Да и на два ли часа? Монтажники быстро отсоединили кабели от ФТУ, и Петр Федорович с товарищами направился в лабораторию. Туда же пошли Борис Ефимович, Константин Давыдович, Глеб Юрьевич, Юрий Степанович и еще несколько испытателей. Народу в лаборатории собралось более чем достаточно. ФТУ поставили на стол. В ход пошли отвертки. В этот момент открывается дверь. Только я хотел буркнуть, дескать, не много ли здесь зрителей, но осекся. Вошел Сергей Павлович.
– Немедленно прекратите работу! Вы что здесь делаете? – он посмотрел в сторону Константина Давыдовича и всех стоящих рядом с ним. – А ну-ка, уходите все отсюда! Да-да, марш отсюда! И чтоб никого лишнего в комнате не было! Петр Федорович, поняли? Поставить дежурного у двери и никого не пускать, даже меня!
Резко повернувшись, он вышел из комнаты. Мы посыпали вслед за ним. ФТУ был возвращен в монтажный зал через 35 минут. В его программном устройстве заменили закапризничавший моторчик.
Испытания продолжались всю ночь. Наутро, еле оторвав голову от подушки, я выполз из гостиницы. Петр Федорович сидел на скамеечке под окнами и нещадно дымил. Рядом на песке аккуратно лежали три или четыре окурка. Увидев меня, он кивнул головой и повторным кивком пригласил сесть.
– А ты знаешь, что сегодня ночью СП срочно улетел в Москву?
– Конечно, не знаю. Я ведь только под утро пришел, когда испытания закончили…
– А ты знаешь, чего ради он полетел?
– Да иди ты к черту! Раз не знаю, что полетел, так откуда знать зачем?
– Так вот, ночью ему кто-то, точно не знаю кто, позвонил, что два или три московских астронома, – Петр Федорович назвал фамилии, – сделали вывод, что для ФТУ неправильно выбраны экспозиции. По их мнению, они должны быть раз в десять больше! Нет, представляешь? В десять раз больше!
– Ну, а ты как думаешь? Может, они правы? А сменить экспозиции – штука сложная?
– Менять экспозиций не буду! Уверен, что все выбрано правильно!
События развивались так. После обеда самолетом прилетела бригада с завода с заданием сразу приступить к смене экспозиций. Петр Федорович категорически запретил это делать. Константин Давыдович вынужден был доложить по телефону Сергею Павловичу о позиции, занятой фэтеушниками. Главный потребовал, чтобы Петр Федорович немедленно вылетел в Москву для разбирательства на месте. Но тот вместо вылета устроил, так сказать, экспериментальную проверку правильности своей точки зрения. Он взял ФТУ, поднялся с ним на крышу монтажного корпуса и, воспользовавшись тем, что Луна светила во все лопатки, сфотографировал ее на пленку с теми экспозициями, на которые настроены затворы. Раскрою секрет. Экспозиции были такие: 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800 секунды. А московские товарищи предлагали самую короткую экспозицию – 1/100 секунды. Остальные больше. Пленку проявили. Изображение было четким, его никак нельзя было назвать недодержанным.
Сергею Павловичу об этом срочно сообщили. Ночью он вернулся на космодром. Решение его было поистине Соломоновым. Раз при более коротких экспозициях все получается нормально, можно пожертвовать 1/200. Петр Федорович согласился перестроить затворы с 1/200 на 1/100. При этом никто ничего не терял, а московские коллеги могли быть спокойны: их предложение, правда, частично, но было принято. Забегая чуть вперед, чтобы потом уж больше не возвращаться к этому, скажу, что самыми лучшими были негативы, снятые с самой короткой экспозицией.
Тем временем в монтажном корпусе продолжались испытания. По плану «слово предоставили» системе ориентации. Да, совсем забыл рассказать о специальном стенде, который был сделан в лаборатории Раушенбаха для испытаний этой системы. Упоминать о нем упоминал, а рассказать забыл. Так вот, еще до сборки станции на заводе, когда система ориентации впервые была собрана «у себя дома», первое свое комплексное крещение она проходила на специальном стенде. Как вы помните, системе ориентации с помощью маленьких газовых сопел полагалось поворачивать станцию вокруг центра тяжести. Силенок у сопел немного, а проверить их работу и работу всех приборов системы очень хотелось.
Для этой проверки был придуман и сделан интересный стенд. Макет станции подвешивали на длинных и тонких стальных струнах. В верхней части пучка струн была устроена специальная отслеживающая головка. На какой угол поворачивалась станция, на тот поворачивался и пучок струн. Это было сделано для того, чтобы противодействие скручивающихся струн не мешало станции поворачиваться. Расчет показывал, что длина струн должна быть никак не меньше 6 метров. Для стенда пришлось проломить потолок между этажами.
По своей идее стенд был динамическим, то есть предназначался для исследований системы в процессе движения. Сделали и своеобразный макет станции. Внешне он на станцию не был похож, но обладал натурным моментом инерции – за счет такой же, как у настоящей станции, инерции он мог противиться всем желаниям изменить его положение. Был здесь и имитатор Солнца – мощный источник света, и, что, пожалуй, самое интересное, имитатор Луны. И не просто имитатор, а и объект для фотосъемки. Кто-то предложил поставить на макете станции фотоаппарат. Произошел, по всей вероятности, диалог, подобный такому:
– Зачем? Это уж лишнее…
– Совсем не лишнее, – защищался автор предложения. – Пусть фотоаппарат щелкает, снимает несколько раз в минуту имитатор Луны. Он неподвижен? Да. Станция тоже должна быть неподвижна? По идее да. Но ведь система ориентации не совсем неподвижно будет держать станцию, а будет чуть-чуть ходить? Вот фотоаппарат это и покажет.
– Это как же?
– А вот так. Пленку каждый раз переводить не будем. Пусть снимает кадр на кадр, раз десять…
– Ну и что получится?
– А получится то, что по фотоснимку мы сможем прямо оценить точность работы системы. Если все точно, то «луна» в «луну» будет ложиться. Уведет система станцию в сторону больше, чем положено, изображения на кадре не совместятся. Замечательный фотодокумент!
– И опасный… Сразу на чистую воду…
Предложение приняли. Когда мы были в институте у Бориса Викторовича, он, не без гордости рассказав об этом остроумном способе проверки, показал и фотографии, не побоявшись, что его выведут «на чистую воду». Весьма любопытной была розочка из десяти кружочков.
На космодроме в монтажном корпусе тоже был стенд, только совсем другой – не для проверки динамики, а для проверки логики. Проверка логики – это проверка правильности реакции системы на то или иное внешнее воздействие. Например, начинаем вращать станцию вправо. Сразу же должны заработать те ее органы управления, которые противодействуют повороту вправо. Ведь нелогично помогать внешней причине поворачивать станцию вправо. На стенде закреплялся не макет, а станция, начиненная приборами. Ее можно было поворачивать под любым углом к имитатору Солнца – мощному прожектору. Согласно логике лунный датчик мог дать команду начать фотографирование только тогда, когда Солнце не светит в верхнее днище, крышка иллюминатора открыта и датчик «видит» только Луну.
Я подошел к стенду. Для того чтобы понять, что произошло, коротко напомню, как должна была в это время работать система ориентации. При фотографировании станция должна находиться между Луной и Солнцем. Иллюминатор на верхнем днище (что, конечно, условно, «верхнее» или «нижнее» оно только в цехе на подставке) смотрит на Луну, а нижнее днище – на Солнце. На нижнем днище были маленькие иллюминаторчики и за ними – солнечные датчики. Солнце-то искать на небосводе просто – ярче ничего нет. Система ориентации и ищет в первую очередь Солнце, а потом удерживает станцию в этом положении. Затем должна открыться крышка иллюминатора верхнего днища, где помимо фотоаппарата находится очень чувствительный лунный оптический датчик. Вот он-то и «уцепится» за Луну. Последуют сигналы «Начало фотографирования» и «Отключение солнечного датчика».
И вот станция на стенде. Она медленно поворачивается к «Солнцу» верхним днищем, конечно, с закрытым иллюминатором. Все спокойно, все хорошо, все логично, и вдруг… Растерянный голос испытателя, стоящего у пульта: «Сработал лунный датчик!» Как сработал? Под крышкой? Вот тебе и на! Вот тебе и логично!
– Ну, это, наверное, случайно… – не очень уверенно произносит кто-то из многочисленного окружения.
А действительно, народу посмотреть эту, пожалуй, наиболее интересную часть испытаний – проверку системы ориентации – собралось много. Утверждение насчет «случайно» звучит менее чем убедительно. Такие фокусы случайно не происходят. Тем не менее зерно падает на благодатную почву. Раздается несколько голосов:
– Давайте проверим еще раз. Не может быть неисправности, это случайно!
Проверили еще раз. Тот же эффект. Лунный датчик срабатывает под закрытой крышкой. Система выключена. Испытания приостановлены. Начинается «банк». Бориса Викторовича окружили свои. Наши до поры до времени стоят в стороне. Этика. Надо дать хозяевам «свое бельишко постирать». Но этики хватает минуты на три, не больше. Смешались. Массовая генерация идей. Кто-то из наших испытателей задает Борису Викторовичу вопрос:
– Заблокированы лунные датчики или нет до сигнала от солнечных датчиков?
– Такой блокировки нет.
– Значит, лунные датчики могут сработать раньше солнечных?
– Не должны. Они же закрыты крышкой…
– А если крышка пропускает свет?
– ???.. Она же из текстолита, – последняя фраза звучит явно неубедительно.
Вроде причину ухватили за хвост. Теперь – проверить. Нашли кусок точно такого же текстолита. Достаточно было поднести его к прожектору, чтобы заметить, что сквозь него просачивается красноватый свет. А этого вполне достаточно для лунного датчика. Как же быть? А вот как: сделать крышку непрозрачной. Легко сказать – непрозрачной. Всего с собой на космодром набрали – и олова, и канифоли, и транзисторов, и резисторов, и болтов, и гаек… Но никому не пришло в голову взять с собой какой-нибудь светонепроницаемый материал. И не так-то просто в таких условиях сделать новую крышку.
Оклеить крышку? Но чем? «Лучше всего черным бархатом», – посоветовали оптики. Хрен редьки не слаще! Где же найдешь черный бархат? Приуныли мы все. Действительно, ситуация складывалась самая дурацкая. Где же взять этот злосчастный кусок черного бархата?
– Глеб Юрьевич, ребята… А вот это не подойдет?
Все обернулись на робкий девичий голос. Милуня! Наша дорогая Милуня! Когда она прилетела? Не знаю. Вырвалась-таки. А я, признаться, за испытательной суматохой и забыл о ее ночной просьбе тогда, в цехе. Милуня протягивала нам свой черный бархатный шарфик. Что тут началось! Спасло Милуню только то, что она была не в спортивном костюме, а в юбке, а то летать бы ей до потолка.
Шарфик тут же разрезали на две равные части и приклеили к обеим половинкам крышки. Сделано было все на совесть. Теперь и настоящее Солнце не пройдет сквозь крышку. Но… опять «но». Наклеили так добросовестно, что электромагнит перестал открывать замок крышки: она ведь толще стала. Опять морока. Но это уже неприятность, как говорят, второго сорта.
Часа через два равновесие между «силой электромагнита» и «светопроницаемостью» было найдено. Опять зажгли имитатор Солнца, включили систему ориентации. Положение станции то же, что и вначале – верхним днищем к «Солнцу». На этот раз все в полном порядке, лунный датчик молчит. Следующий этап – проверка солнечных датчиков. Им положено включить газовые сопла, как только они увидят «Солнце», чтобы удержать станцию в нужном положении. Теперь ее нижнее днище будет проходить мимо прожектора. Чуть в сторонке стоят Сергей Павлович и Борис Викторович, о чем-то вполголоса разговаривают. Станция медленно поворачивается. Чтобы было заметнее, когда начнут работать сопла, к ним прикреплены тонкие красные шелковые ленточки. Струи сжатого газа, вырвавшись из сопел, станут теребить ленточки. Сразу будет видно, какое сопло работает.
Вот нижнее днище медленно проплывает мимо прожектора. Сейчас должны включиться сопла. Тишина. Сопла молчат. Станция поворачивается дальше. Сопла молчат. А из уст испытателей опять вырываются междометия.
Я с опаской и, насколько помню, чуть ли не вобрав голову в плечи, скашиваю взгляд на Сергея Павловича. Он спокойно слушает Бориса Викторовича, кивает головой. Раушенбах подходит к станции, вынимает из кармана коробку спичек, достает несколько штук, складывает их вместе, чиркает о коробку, быстро подносит к «зрачку» солнечного датчика. И тут же, словно проснувшись, сопла начинают бойко работать. Взрыв хохота. Но все же в чем дело? Как выяснилось, прожектор стоял чуть далековато и света его чуть-чуть, всего лишь самую малость, не хватало для срабатывания солнечного датчика.
Да, прямо скажем, «фокусами» «Луна-3» нас не обидела. Сразу видно, что станция прибыла на космодром почти без испытаний на заводе. А что было делать? Задержись мы там, и 1959 год для облета Луны был бы потерян.
Наконец испытания и все связанные с ними треволнения закончены. Теперь окончательная сборка, установка всего «самого летного». Станцию сняли со стенда. Она на подставке. Открыли приборный отсек. По неписаной традиции всем «хозяевам» систем и приборов предоставлялось право бросить последний взгляд на свои творения: сборка ведь окончательная. Подходят по очереди, чтоб не мешать друг другу, глядят. Вроде все. Можно опускать крышку. Леонид Иванович, все тот же Леонид Иванович, жестом показывает Саше Королеву: «Давай!» Крышка отсека нетяжелая, двое на руках подносят ее к станции, поднимаются на несколько ступенек по специальным подставкам и осторожно опускают на место. Затягиваются первые гайки. Мы с Глебом Юрьевичем стоим чуть в сторонке, смотрим. В этот момент в монтажный зал не вбегает, нет, влетает Петр Федорович!
– Подождите! Подождите! Ведь я же не проверил ФТУ!
Тьфу ты, черт! Действительно, как-то и я, и Глеб Юрьевич упустили, что среди «хозяев» не было Петра Федоровича. Пожалуй, вот в этот самый момент я понял, что традиция последнего осмотра абсолютно верная, необходимая, но только ее надо из традиции перевести в разряд планируемых и, соответственно, контролируемых операций. Тогда не забудешь никого, тогда никто ничего не упустит.
– Да что вы, Петр Федорович, у вас все в порядке, – начал было Леонид Иванович (ему явно не хотелось снимать только что поставленную крышку).
– Ладно, Леня, ладно. Не ворчи. Поднимайте.
Только я это сказал, как меня кто-то окликнул. Я отошел. Вернулся минут через десять. Станция закрыта, монтажники дружно, чуть не сталкиваясь лбами, подтягивают гайки на шпангоуте. Чуть поодаль – Петр Федорович и Глеб Юрьевич. Вид у них – это сразу бросилось в глаза – совсем не тот, что десять минут назад.
– Вы что такие? Что стряслось?
– Ничего, ведущий, ничего. Все в порядке, – очень стараясь казаться спокойным, ответил Петр Федорович.
Только через несколько дней я узнал, что случилось. Когда приподняли верхнее днище и Петр Федорович посмотрел на ФТУ, то, что он увидел, привело его чуть ли не в состояние шока. На обоих объективах фотоаппаратов спокойно сидели защитные глухие черные колпачки. Им и положено было прикрывать объективы до последнего момента. Но перед закрытием станции их, естественно, нужно было снять. Почему же их никто не снял? А дело вот в чем. Все подлежащие снятию предохранительные и защитные крышки, колпачки и прочие приспособления у нас обязательно красились в красный цвет. Их всегда было заметно, и оставить их случайно было просто невозможно. Колпачки же на объективах были черные. Поэтому наши монтажники их и не сняли.
Это был еще один хороший урок на будущее. Так мы учились.
Ракета на стартовой площадке. Вчера, когда все было готово к вывозу, в монтажный корпус опять пришли все. Председатель государственной комиссии, Мстислав Всеволодович Келдыш, Сергей Павлович Королев, его заместители, главные конструкторы-смежники, ученые. Через раскрывшиеся громадные ворота корпуса, поблескивая двигателями, ракета медленно поползла на старт.
Ночь с 3 на 4 октября выдалась прохладной. Особенно это чувствовалось на «козырьке». Кругом все открыто, раздолье ветру. Я его как-то особенно ощущал. Последние дни страшно болели правое плечо, шея, рука. Ходил к медикам, сказали: воспаление нерва, принимать анальгин и – тепло. Советы как раз для «козырька»! Ходил из угла в угол, не зная, куда засунуть руку, чтоб хоть немного утихла боль. Сергей Павлович, очевидно, заметил. Подозвал:
– Ты что, старина? Расклеился? Это, брат, никуда не годится. Давай-ка в машину да отправляйся в гостиницу.
– До старта никуда не поеду. От этого, как говорят, еще никто не умер. Болит, правда, здорово. Потерплю.
– Ну, смотри, смотри. Утром идет самолет домой. Здесь тебе больше все равно делать нечего. А дома дел куча. «Востоком» надо заниматься.
По тридцатиминутной готовности уехали на наблюдательный пункт. И здесь не теплее. Согревает только волнение. Готовность 10 минут. Вроде и боль стала меньше. Стоит на горизонте выхваченная прожекторами из тьмы белая ракета. Стройная, чистая. Минутная готовность. Начинает частить сердце. Боли не замечаю, только кровь в висках стучит. Вспышка, поначалу вроде робкая, но тут же всплеск света и глухое ворчание, лавинообразно перерастающее в раскатистый грохот. Пошла! И опять, как два года назад, все вокруг заливается слепящим светом, заполняется гулом. Ракета рвется туда, ввысь, в бесконечный космос… Прошло не знаю сколько минут. Тишина. Чувствую, что боль опять расползается по всему телу.
Утром я улетел в Москву. Больница. Рабочей информации, естественно, никакой. Помнил, что по программе рано утром 7 октября должно начаться самое главное – фотографирование, знал, как волнуются мои товарищи там, в Крыму, на приемном пункте. Но им-то лучше. Они знали, что происходило со станцией. Работает ли система ориентации, началось ли фотографирование? Нервничал здорово. А врачи? Что врачи… Говорят: «Покой, только покой!» Какой черт – покой! До покоя ли тут? Оставалось ждать, только ждать.
Шла вторая неделя, третья… и наконец – такое жданное! 26 октября – по радио, на следующий день – в газетах: «Советская наука одержала новую блестящую победу. С борта межпланетной станции получены изображения недоступной до сих пор исследованиям невидимой с Земли части Луны…»
Здоровье быстро пошло на поправку. Врачи были очень довольны, что прописанные физиотерапевтические процедуры столь эффективны. Я их не разубеждал. Из больницы, правда, удалось вырваться только после октябрьских праздников. И конечно, в первый же рабочий день я прежде всего помчался к проектантам, к Глебу Юрьевичу:
– Ну, расскажи!
Наверное, просить было излишним. Глеб Юрьевич сам был рад рассказать обо всем. Ему-то ведь посчастливилось своими глазами увидеть первые, самые первые строчки лунных кадров. Такое надолго переполняет даже не очень склонного к бурным эмоциям человека.
– Давай выйдем на улицу, там поговорим. Здесь не дадут – телефоны, разговоры.
Мы вышли из здания КБ. Часа полтора бродили по дорожкам, да по таким, о существовании которых и не подозревали. Глеб Юрьевич рассказывал спокойно, обстоятельно.
В Крыму, где решено было принимать «картинки», собрались, конечно, далеко не все, кто хотел своими глазами, и обязательно первым, увидеть никогда и никем не виданное. «А может быть, там?..» Да мало ли что могла рисовать фантазия? Даже если голова и ученая. Круг присутствующих был строго ограничен. Главные конструкторы, несколько астрономов, человек шесть-семь инженеров. 7 октября был проведен сеанс фотографирования. Он прошел нормально. ФТУ, или, как его в шутку окрестил Сергей Павлович, «банно-прачечный комбинат», сработал вроде бы хорошо.
Пролетев близ Луны, станция продолжала удаляться от Земли и к 11 октября ушла от нее на 480 тысяч километров. Оттуда ей надлежало начать возврат к Земле и в 40 тысячах километров от ее поверхности поздно ночью 18 октября начать передавать снимки по радио. Затем станция должна была опять направиться к орбите Луны, 22 октября пересечь ее второй раз и, двигаясь теперь по нормальной эллиптической дороге – Луны-то ведь рядом не будет, «зацепиться» (сделать пертурбацию) будет не за что, – 3–4 ноября пролететь опять около Земли. Ну, а дальше? Расчеты показывали, что станция будет летать по эллиптической орбите, по крайней мере, до марта 1960 года и совершит не менее 11 оборотов вокруг Земли.
Без дополнительных объяснений можно было понять, что желание как можно скорее получить результаты фотографирования было основным. При этом следовало учитывать некоторые обстоятельства. Первое: целесообразно вести прием на минимально возможном расстоянии от Земли. Чем ближе к ней, тем сильнее радиосигнал, увереннее и качественнее прием. Второе: надо учитывать, что электроэнергии в аккумуляторной батарее на длинный сеанс связи может не хватить. Ведь ее приток от солнечной батареи никак не компенсировал расхода при долгой и непрерывной работе всех бортовых систем. И пожалуй, третье: связь со станцией могла быть не в любое время. При подлете к Земле она возможна в зоне радиовидимости. При облете Земли радиосвязь пропадает и сможет возобновиться только после выхода станции из-за горизонта. На это уйдет несколько суток.
Все сгрудились около машины, которая должна была регистрировать принимаемое изображение открытым способом на электрохимическую бумагу. «Картинка» будет сразу видна – не то что на магнитофоне.
– Кстати, о магнитофонной ленте, – рассказывал Глеб Юрьевич. – Знаешь, удивительный все же человек Сергей Павлович. Слава богу, не один год его знаешь, а восхищаться не перестаешь. Дня за два до сеанса кто-то из местных на одном из совещаний «сделал заявление», что для регистрации изображения на магнитофонах может не хватить магнитофонной ленты. СП с укоризной, молча посмотрел на заявителя, подошел к московскому телефону. Его быстро с кем-то соединили. Он спокойно произнес несколько слов, что-то записав на бумажке, и через минуту, не повышая голоса и не меняя позы, сказал: «Через три с половиной часа можете взять ленту у командира Ту-104…» И он назвал номер самолета.
Протолкаться ближе к машине я не мог, – продолжал Глеб Юрьевич, – сам понимаешь, поважнее меня народ был. Смотрю издали. Ничего не видно за спинами. Влез на стул. Сверху вроде можно будет что-то рассмотреть. Пока ползет чистая лента бумаги. Но вот с одного края начинает появляться потемнение. И сразу возгласы: «Есть! Есть!!!» А что есть, не вижу. Спрашиваю кого-то из рядом страдающих, что там? Отвечает: «Кусок неба, космос!» Ну, думаю, спорить нечего. Чернота есть чернота, это с великим успехом может быть и космос. Он, конечно, черный. Но вот где-то в середине бумажной полосы строчка за строчкой становятся светлее. Проступает что-то круглое, светлое. Что тут началось, можешь сам представить! Обнимались, целовались, кричали… А «картинка» медленно ползла и ползла. Вот уже почти полкруга нарисовалось. Смотрю я издали – хорошо видно, действительно, Луна! Кратеры темные, моря, быть может… Посмотрел я на Главного. Он, это сразу заметно было, с большим усилием демонстрировал внешнюю сдержанность. Подошел и деланно-спокойным голосом произносит: «Ну, что тут у нас получилось?» Ему протянули еще влажную бумажную ленту. Евгений Яковлевич – ученый и инженер, отвечавший за все радиохозяйство на станции и на Земле, увидев, что изображение лунной поверхности достаточно густо украшено следами помех, взял ленту, посмотрел и, сказав: «Сейчас улучшим!» – порвал ее. «Эх ты! Зачем же? – с искренней досадой вырвалось у Сергея Павловича. – Ведь это же самая первая…» Ну что же еще рассказать? Вроде все. Хотя да, вот еще одна штука забавная. Ждем передачу изображения. Представляешь, конечно, все волнуются, и СП, и Келдыш, и главные, и ученые – все. И вот в этот момент подходит к Сергею Павловичу один из астрономов и вполголоса (а ты знаешь, когда в такой обстановке кто-нибудь подходит к Главному и что-нибудь ему вполголоса начинает говорить, ушки у всех на макушке) говорит: «Сергей Павлович, я полагаю, что оснований волноваться нет никаких. Абсолютно. Я произвел расчеты, из них следует, что никакого изображения мы не получим! Да-да, не получим. Вся пленка должна быть испорчена космической радиацией. У меня получилось, что для ее защиты нужен полуметровый слой свинца! А у вас сколько?» Представляешь реакцию?
Я попытался представить ее, зная немного характеры действующих лиц.
– Ну и чем же все кончилось?
– А кончилось тем, что, когда была получена самая первая фотография, Сергей Павлович приказал немедленно сделать один отпечаток и с надписью: «Уважаемому… Первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. С уважением. С. Королев» – подарил этому ученому.
– Это все ладно, это хорошо. А вот почему не получились повторные сеансы связи, как ты думаешь?
– Черт его знает. Пропала станция, словно ее корова языком слизнула. Что-то произошло, причем сразу. Ведь не то чтобы отказало что-то одно, ну, приемник, ФТУ или научный прибор какой-нибудь! Сразу все! Думали-думали, но что придумаешь? Разве только метеорит? А может, какая и внутренняя причина? Жаль, конечно. Работала станция прекрасно. Ушла за горизонт, связь, естественно, прекратилась. Сидеть здесь несколько дней никакого толку не было, и СП принял решение всем, кроме инженеров-радистов, выехать в Москву. Нужно было срочно начинать обработку полученных «картинок». А мне было велено готовить статью для газет. Не одному мне, конечно. Целая группа писала. И вот в один из вечеров приглашают нас в редакцию «Правды». Приехали, сидим, ждем. Входит кто-то, в руках пачка свежих, еще краской пахнущих газет. И каждому из нас подарил по номеру на память. Эта газета у меня как реликвия хранится. Потом нас главный редактор «Правды» принял. Памятная была встреча. А когда настало время возобновить связь со станцией (сам представляешь, как это было нужно, ведь всех фотографий мы получить не успели), ни на какие радиокоманды она не отвечала…
– Что ж поделаешь? Вот если бы могли подскочить к ней, посмотреть, что случилось, поправить, и валяй дальше… Если бы человек в космосе… А знаешь, СП меня уже вызывал. «Востоком» надо заниматься. Слышал?
– Слышал. Дело интересное. А Луну что же – бросишь? А ведь мы и о Венере с Марсом думаем. Уже бумагу портить начали. Вот через годик как раз подходящее время для Марса будет, а потом и к Венере можно. Неужто все это забросишь? – спросил Глеб Юрьевич.
– Нет, бросать не хочется. Но сам понимаешь, «Восток», пожалуй, много времени не оставит. Хватит ли на все? Думаю у Сергея Павловича просить помощника. Одному не справиться…
Много месяцев трудились ученые. Были выявлены и описаны 498 образований на лунной поверхности, в том числе 400 невидимых с Земли, составлены первые карты обратной стороны Луны. На них появились горный хребет Советский, Море Москвы, Море Мечты, кратеры Циолковский, Ломоносов, Жюль Верн, Джордано Бруно, Максвелл, Попов, Эдисон, Пастер, Герц…
– Зайдите-ка срочно ко мне! – Сергей Павлович произнес эти слова по телефону с какой-то непривычной для рабочей обстановки теплотой.
Через несколько минут я входил в его кабинет.
– Ну вот, старина, еще один год нашей жизни прошел. Завтра Новый год. Поздравляю тебя с наступающим!
Главный, приветливо улыбаясь, вышел из-за стола, крепко пожал мне руку. Потом повернулся к столу, взял из пачки нетолстых, в голубых переплетах книг верхнюю, протянул мне. Скосив глаза на обложку, я успел прочесть: «Академия наук СССР» – и ниже золотом: «Первые фотографии обратной стороны Луны». Не удержавшись, открываю переплет. На титульном листе в правом нижнем углу наискось крупным энергичным почерком: «На добрую память о совместной работе. 31.XII—59 г. С. Королев». В груди поднялась теплая-теплая волна.
– И подожди минутку… – Сергей Павлович вышел в маленькую комнату, что за кабинетом.
Через минуту вошел обратно. В руках – две бутылки, по форме – винные, завернутые в мягкую цветную бумагу.
– А вот это тебе к новогоднему столу!








