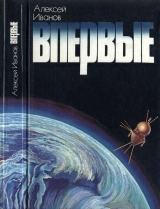
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Первые 200 километров, пока еще попадались объекты, помеченные на карте, мы чувствовали себя достаточно уверенно, последняя же часть пути причинила немало хлопот. Представьте: хорошо укатанная дорога, машины бегут со скоростью 40–50 километров в час. Вдруг дорога раздваивается. Стоп! По какой ехать дальше? Общее направление известно – на восток. Но обе они идут примерно на восток! Поспорив, выбираем одну и – вперед! Через несколько километров проселок делает резкий поворот и уходит совсем в другом направлении. Возвращаемся к развилке, едем по второй дороге. А в другой раз спорили, спорили – выбрали наконец дорогу. Проехали по ней с километр, обе дороги опять в одну сошлись. Смеялись над собой и сердились: только время на спор потратили.
К исходу дня, когда спидометры накрутили километров около 350, на степном горизонте показалось какое-то селение. Где-то рядом должно быть место приземления. В стороне заметили лагерь воинской части. Нас это очень обрадовало. Ведь еще вчера летчики говорили, что к месту приземления приезжал какой-то офицер на автомашине, но уехал, убедившись, что помощи не требуется. Решили найти этого офицера – хоть здесь-то будет проводник.
Необычные для степной обстановки и явно не сельскохозяйственного вида машины у дежурного по лагерю вызвали настороженность. Немедленно был вызван командир. Как только мы объяснили цель нашего приезда, все переменилось. Честно скажу, такое нам троим пришлось испытать впервые. Нас чуть ли не на руках вынесли из машины, тут же предложили поужинать и отдохнуть. Как ни велик был соблазн, мы решили ему не поддаваться: надо было во что бы то ни стало сегодня же добраться до места приземления, пусть даже ночью, погрузить аппарат на машину и только после этого отдыхать.
Ехать, как оказалось, нужно было еще километров тридцать. Добровольцев сопровождать нас было более чем достаточно. Часам к одиннадцати вечера добрались наконец к месту приземления. При свете автомобильных фар немного развернули спускаемый аппарат и подвели под него подъемное приспособление. Затем осторожно подняли и уложили в контейнер. От души поблагодарив дежурившую третьи сутки охрану, тронулись в обратный путь.
Дорога до лагеря показалась нам, уставшим, измученным, но безмерно счастливым и довольным, и более короткой, и менее тряской. Плотно поужинав, мы добрались до коек. Казалось, только что сомкнул глаза, как чей-то настойчивый голос будит меня. Молоденький лейтенант, улыбаясь, рапортовал, как-то особенно лихо поднеся руку к козырьку, что, «выполняя ваше приказание», будит на заре.
Вышли на улицу. Свежий ветерок разгонял перья облаков над розовато-голубым горизонтом. Несмотря на ранний час, все офицеры части пошли провожать нас. Горячо поблагодарили товарищей за помощь и гостеприимство и отправились в обратный путь. Часа через четыре решили остановиться пообедать в том же хуторе, где обедали в первый раз. Оставили машины на небольшой площадке, зашли в столовую, а когда спустя полчаса вышли, ахнули: около наших машин – толпа. Сквозь эту дружескую преграду было не так просто пробраться. Нас обступили со всех сторон.
– Товарищи дорогие! А не можете ли вы нам пояснить, что это вы такое по всей степи второй день возите? – спросил седой крепкий старик, посасывая самокрутку и с хитрецой поглядывая на нас.
Что ему ответить? Без труда можно было догадаться, что люди уже связывали воедино два необычных события: приземление корабля со Стрелкой и Белкой, о котором сообщили радио и газеты, и появление наших, странных для степи, машин. Да вероятно, и молва-то успела передать, что в их районе видели какой-то необычный предмет, опустившийся с неба на парашюте.
Поскольку проводить пресс-конференцию по этому вопросу было делом не нашим, мы попытались как могли отшутиться: мол, цемент в баке везем! Труднее было с ребятами. От этих вездесущих бесенят попробуй что-нибудь укрой. По их глазам было видно, что, пока мы были в столовой, они облазили машины вдоль и поперек. Любопытство и досада были прямо-таки написаны на их лицах – не поняли, не разобрались! Правда, они чинно держались в сторонке, но, как только мы сели в машины и захлопнули дверцы, пять или шесть пацанов повисли на крыле и выложили, путаясь, заикаясь от волнения и перебивая друг друга, что знают, точно знают, что мы везем тот спутник, который опустился в их районе, и нечего нам скрывать и таиться.
Когда мы тронулись и все ребята, кроме одного, ссыпались на землю, я не выдержал и поманил его пальцем. Копна белесых выгоревших волос, задорный нос и голубые глазенки просунулись в кабину.
– Клянись, что никому до самой смерти не выдашь тайну!
– Кля-я-нуся! До самой до могилы!
– Это он…
Надо было видеть, как изменилось лицо паренька: он узнал тайну, но дал клятву, что никому не скажет! Очевидно почувствовав, что если он не удерет сейчас же от пацанов, стоявших невдалеке, то они «вытащат» из него признание, паренек пустился наутек. Ребята сорвались с места и помчались за ним. Взревели моторы, и мы двинулись дальше.
Опять степь, опять степные дороги. Когда, по нашим расчетам, до Орска оставалось километров сто, мы заметили в воздухе вертолет. Очевидно, он искал нас. Остановили машины. Вертолет завис над нами, из кабины высунулся пилот. Поняв по нашим жестам, что все в порядке и помощи не требуется, вертолет пошел на запад и вскоре скрылся за горизонтом.
К концу дня показались трубы орских заводов. Словно моряки, долго плававшие в открытом океане, мы были страшно рады появлению этих индустриальных маяков. Последние километры пути – и мы въехали на аэродром. Через час контейнер со спускаемым аппаратом был перегружен в «ан», а мы, страшно уставшие, еле волоча ноги, добрались до гостиницы. На следующее утро дежурный поднял нас очень рано, сообщив, что получено разрешение на вылет и экипаж ждет нас.
…Разбег. Подъем. Несколько часов полета, и под нами – родной город.
«Восток»
«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник „Восток“ с человеком на борту».
(Из сообщения ТАСС)
«Где бы ни путешествовали будущие исследователи, что бы ни открыли они в черных холодных просторах Вселенной, они всегда будут помнить слова: „Восток“ и „Майор Юрий Алексеевич Гагарин“».
Газета «Нью-Йорк таймс», США
«12 апреля 1961 года историки будут считать началом хронологического исчисления покорения космоса человеком. В этот день двадцатисемилетний русский парень Юрий Алексеевич Гагарин сделал первый в истории человечества триумфальный скачок в космос. Это эпохальное событие не будет забыто».
Газета «Ньюс уик», США
«Россия выигрывает соревнование, – космический корабль „Восток“ несет майора Гагарина в историю… Специалисты в области общественного мнения всех стран единодушно согласились, что двадцатисемилетний советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал наиболее известным человеком во всем мире… Когда в 1492 году Христофор Колумб высадился в Америке, еще не было ни газет, ни радио, ни телевидения. Но даже если бы и существовали тогда эти мощные средства связи, вряд ли сообщение об открытии нового континента потрясло так сильно воображение народов мира, как полет Юрия Гагарина в космос.
Трансатлантический перелет Чарлза Линдберга в 1927 году в одно мгновенье превратил его в национального героя и кумира Америки, но интерес и энтузиазм, вызванные его смелым опытом, охватили в основном лишь западный мир. Сообщение же о полете в космос советского пилота привело в волнение весь мир за несколько минут».
Ахмад Аббас, писатель, режиссер, Индия
«История не знала ничего фантастичнее, ничего сказочнее, чем дерзкий прорыв человека в космос. А Колумб Вселенной, которого зовут Юрий Алексеевич, спокойно передает: „Все идет нормально“. Потрясающие слова в этих обстоятельствах. Велик народ, у которого такие нормы».
И. Зверев, писатель, СССР
«Полет человека в космос – грандиозное событие в жизни всего мира. Оно преисполняет наши сердца гордостью за то, что его осуществили советские люди!»
Г. Чухрай, кинорежиссер, СССР
О герое, прошедшем сквозь звездные бури,
Лишь немногое миру известно пока,
Что он летчик, майор, что зовут его Юрий
И что утром апрельским взлетел он в века.
Е. Долматовский,поэт, СССР
…Я отложил в сторону газеты, купленные в киоске куйбышевского аэропорта, и посмотрел в иллюминатор нашего заводского Ил-14, на котором мы летели в Москву. Марк Лазаревич Галлай, заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, с которым меня познакомил месяца два назад Сергей Павлович, сидел рядом со мной. 13 апреля 1961 года. Всего несколько часов назад мы слушали рассказ Юрия Гагарина о его полете. Простой рассказ простого русского парня.
Как это событие воспринял мир! Из газет выхлестывала буря восторга. Когда московское радио сообщило о том, что советский человек впервые совершил полет в космическое пространство, произошло невероятное – мир разом заговорил на тысячах языков. Казалось, история остановилась на секунду, чтобы дать людям возможность ощутить величие момента.
От всех этих мыслей меня отвлек Марк Лазаревич. Я повернулся к нему.
– Да! Знаешь, все это у меня еще не очень улеглось в голове. Пока лишь ощущение, что происходит что-то очень большое… Два месяца с лишним – только срочные дела, одно за другим. Как тут осмотреться? А вот интересно – он осмотрелся? Или тоже тонет мыслями в текучке? А? – Галлай кивнул в сторону сидящего в правом переднем кресле Сергея Павловича.
– Я не смог бы ответить на твой вопрос. Это не просто. Ведь ты не меньше – существенно больше знаешь его. Знаешь не только последние годы. Знал и раньше. Всяким знал – не только Главным и академиком…
– Нет. Это не ответ… Я, худо-бедно, точку зрения на сей счет имею. По крайней мере, для собственного употребления. Но мне интересно, как ты думаешь.
– Пожалуй, все же не смогу ответить. Ты ведь прекрасно знаешь, что я не психолог. Да как-то и не задумывался над этим. Скажу одно: он огромный и очень-очень разный.
– Ну что ж, в этом я с тобой согласен.
Несколько минут мы молчали. Марк Лазаревич откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Затем повернулся ко мне вполоборота:
– А я всем вам иногда чертовски завидую, хотя на свою работу не жалуюсь и из авиации вряд ли куда уйду. Но здесь у вас такие дела закручиваются! Да и просто работать с Сергеем Павловичем – это очень здорово! Личность! Это же большущее счастье, и вы должны это понимать, до конца понимать!
И вдруг я особенно остро почувствовал, как прав мой собеседник. Действительно, ведь далеко не каждому выпало счастье участвовать в создании первых в мире космических аппаратов, работать рядом с Сергеем Павловичем, трудиться в коллективе, которым он руководит.
Первый в мире искусственный спутник Земли – наш, ставший уже легендарным ПС, взбудораживший мир 4 октября 1957 года, второй спутник с Лайкой, первые в мире лунники, фотографии невидимой с Земли, «той» стороны Луны, первые тяжелые космические корабли-спутники и первые живые существа, поднятые в космос и возвратившиеся оттуда, – Стрелка и Белка. И вот вчера… Но сколько всего было перед этим «вчера»!
В помещении нового, светлого и чистого, как операционная, цеха главной сборки вдоль стен на ажурных подставках – полуоболочки приборных отсеков. Здесь же на низеньких подставках – несколько шаров. Спускаемые аппараты. Повсюду в белых халатах монтажники, слесари-сборщики, электрики. Ведется установка оборудования.
Несколько в стороне, на высокой подставке с кольцевым помостом, стоит собранный корабль. Недалеко от входа в цех группа конструкторов и рабочих обступила большой темно-зеленый ящик, только что бережно опущенный краном на расстеленный брезент. Щелкнули замки. Всем не терпится скорее заглянуть внутрь.
– Да не спешите же, товарищи! – ворчит Федор Анатольевич. – Ну что вы, право, словно на слона глазеть…
С Федором Анатольевичем, ведущим конструктором смежного завода, мы знакомы уже не первый год. Бывали вместе и на космодроме. Он занимался кабинами для животных, катапультируемыми капсулами, а теперь… В ящике, выложенном изнутри мягким поролоном, серебристо-матово переливалось что-то. Это было кресло. Кресло космонавта.
Невольно я взглянул на Федора Анатольевича. Глаза его ласково, с хитринкой улыбались. Он знал, что привез! Кресло. Пожалуй, название – самое простое, что в нем было. Сложное сооружение! Оно обезопасит человека при взлете, когда давят перегрузки, оно провентилирует скафандр, в нем аварийные запасы пищи, воды, спасательные и сигнализационные средства, катапультная система, парашюты. Это рабочее место, место отдыха и сна, вообще место постоянного пребывания космонавта от посадки в корабль до посадки на Землю.
Кресло… Казалось, что необычного было в том, что по графику в этот день и час Федор Анатольевич привез со смежного завода кресло? Но в этот момент я как-то особенно четко почувствовал: настает или уже настал день, когда то, к чему мы шли, к чему готовились, о чем мечтали эти годы, придвинулось вплотную. Корабль, сработанный нашими руками, должен взять не приборы, не животных – человека! Человека!
Сегодня по плану намечалась примерка этого кресла на его законном месте – в кабине спускаемого аппарата. Для того и привез его Федор Анатольевич. Помнится, ко мне подошел Владимир Семенович, начальник цеха сборки, о чем-то спросил. Только я собрался ему ответить, как по цеху из репродуктора громкой связи разнеслось: «Ведущего конструктора срочно к телефону в кабинет начальника цеха! Повторяю…» Повторения я дожидаться не стал. Если вызывали «по громкой», значит, случилось что-то важное. Звонил Сергей Павлович. Это я понял по тому, с каким благоговением секретарь начальника цеха держала телефонную трубку. Да и в коридоре, около двери кабинета, притихли девушки-монтажницы, перед этим весьма оживленно обсуждавшие какие-то свои проблемы. Здесь же с каким-то растерянным видом стоял Евгений Александрович, мой заместитель.
Беру трубку.
– Кто говорит? Здравствуйте! Как у вас дела с кораблем? Привезли кресло?
Отвечаю, что все в порядке, корабль готов, кресло в цехе, хотим ставить его в кабину.
– Нет, пока этого делать не надо. Я через несколько минут приеду. И учтите – не один, а с хозяевами. Да, да, с хозяевами, – со значением повторил он. – Поняли? Приготовьтесь к тому, чтобы все рассказать и объяснить. И чтобы не было лишнего шума!
В трубке щелкнуло, раздались гудки. Я стоял и никак не мог сообразить, куда ее положить. Подошедший Владимир Семенович по моему виду, наверное, понял, что должно произойти что-то необычное.
– Владимир Семенович, Женя, – люди! Сейчас с Сергеем Павловичем приедут!
Мы знали, что отобрана первая группа молодых летчиков-истребителей и начата их подготовка. Рассказывали, что в отборе для подготовки к полетам в космос участвовали крупнейшие ученые – медики, биологи, психологи. Было высказано много различных мнений. Одни считали, что космонавтами могут быть подводники – люди особо выносливые и сильные, другие отдавали предпочтение парашютистам и альпинистам, третьи – вообще здоровым, физически крепким людям, независимо от специальности. Подобные проблемы еще нигде и никем не решались. Нужно было тщательно во всем разобраться, взвесив все «за» и «против». Большинство сошлось на том, что предпочтение следует отдать летчикам. Поскольку на первых кораблях пилот будет один, то лучше всего подошли бы летчики-истребители, имеющие опыт одиночных полетов, самостоятельного принятия решений.
Константин Давыдович рассказал как-то, что Сергей Павлович мысли по этому поводу излагал примерно так. От человека полет в космос потребует очень многого. Безусловно, важны физические данные и общая подготовка. Но все же определяющим при выборе пилота будущего космического корабля должно стать умение наилучшим образом управлять сложной космической техникой в полете. Человеку, готовящемуся в космос, необходимы летная практика, ясное представление обо всех особенностях полета, привычка не теряться в необычных обстоятельствах, способность принимать мгновенные решения. В первых полетах в космос человек окажется в одиночестве. Значит, он должен быть в какой-то мере универсалом – и летчиком, и штурманом, и связистом, и инженером. Кто ко всему этому лучше подготовлен? Двух мнений быть не может – летчик современной истребительной авиации. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете и в авиационном смысле – и швец, и жнец, и в дуду игрец. Вот тезисы позиции Королева в этом весьма не простом вопросе.
Летчик современной истребительной авиации… Первый этап отбора проходил в военно-воздушных частях при участии партийно-политических органов. Отбирались люди, безусловно преданные своему делу, активные, энергичные, выдержанные, смелые и решительные. Правда, по нашей «вине» кандидатами в космонавты не попадали летчики весом более 70 килограммов и ростом выше 175 сантиметров. Что поделаешь, были такие ограничения. Предварительных встреч с теми, кто прежде всего изъявил желание стать космонавтом, было более трех тысяч. После отбора осталось несколько сот человек, а на втором этапе – около ста. В итоге в марте 1960 года двадцать человек были зачислены в учебный отряд. Шестерых из них готовили к первому полету.
Летчик современной истребительной авиации… Человек, которому доведется взлететь в неизведанное космическое пространство. Кто он?
Вот он – мальчишка в коротких штанах, что есть духу бежит к речке… Вот он среди школьных товарищей – веселый подросток со светлыми вихрами на голове… Индустриальный техникум, паренек на крыле самолета. Он хочет стать летчиком, этот упрямый комсомолец… «Прошу партийную организацию принять меня в члены КПСС. Хочу быть активным членом КПСС, активно участвовать в жизни страны и укрепления Вооруженных Сил СССР…»
Один из миллионов. Да. Он был одним из миллионов, простым русским парнем. И имя у него было простое, русское.
Группа людей вошла в цех. Впереди – в белом халате, накинутом на плечи, Сергей Павлович. Но на сей раз все глядели не на него, а на молодых людей, идущих вместе с ним по цеху и с интересом, хотя и несколько робко осматривающихся по сторонам. Мы с Владимиром Семеновичем пошли им навстречу. Евгений остался около корабля. Сергей Павлович представил нас.
На какое-то мгновение я замешкался в проходе. Так вот они какие – те, которые должны быть первыми! Кто-то тронул меня за плечо. Рядом стоял начальник цеха:
– Ты что задумался? Смотри, к объекту пошли.
– Да так, ничего, Владимир Семенович. Дай, пожалуйста, команду включить в пролете полный свет, будь добр! – И я направился к кораблю.
Гости тесным кружком стояли вокруг Сергея Павловича. Он что-то рассказывал им. Чуть в сторонке, облокотясь на подставку приборного отсека, стоял их руководитель Евгений Анатольевич Карпов. С ним мы были знакомы еще по прошлым совместным делам, когда занимались подготовкой полетов животных. Я подошел к нему. Он, приветливо улыбнувшись, протянул мне руку и сказал вполголоса:
– Здравствуй, здравствуй, ведущий! Что-то не сразу узнаешь старых друзей!
– Не сердись, я на ребят твоих засмотрелся.
– Понимаю, понимаю. Но только, имей в виду, они не сверхчеловеки. Обыкновенные люди. Хорошие. И в этом ты скоро сам убедишься. Знаешь, перед тем как приехать в цех, мы у Сергея Павловича в кабинете были. Он решил вначале с ребятами, как говорится, с глазу на глаз побеседовать. Интереснейший разговор получился о ближайших задачах, о космических кораблях будущего, о сборке на орбите, об орбитальных станциях, о длительной работе в космосе, о планетолетах. Ребята затаив дыхание слушали. Знаешь, что Сергей Павлович сказал?
«До войны ученые считали, да и конструкторы тоже, что не хватит одной жизни, чтобы пробиться к звездам. А начиная с пятидесятых годов стало ясно: путь к звездам будет открыт в ближайшее десятилетие. И мы, как видите, не ошиблись». А знаешь, – продолжал Евгений Анатольевич, – мне кажется, в Сергее Павловиче удивительно сочетаются реальность и фантастика. Он так и говорил ребятам: «Давайте помечтаем, я люблю мечтать. Без этого, знаете ли, я не представляю своей работы! Я мечтал летать на самолетах собственной конструкции, но после встречи с Циолковским, беседа с которым очень повлияла на меня, решил строить только ракеты. Я ушел от него с одной мыслью – строить ракеты и летать на них. Всем смыслом моей жизни стало одно – пробиться к звездам…»
Да, Сергей Павлович был мечтателем. Но не праздным. Зайдет он, бывало, поздно вечером в цех, где на стапелях лежит громадное тело ракеты, отпустит сопровождавших его инженеров и конструкторов, остановит жестом руки особо нетерпеливых, стремящихся на что-нибудь пожаловаться мастеров сборки, возьмет табурет, сядет поодаль и молча смотрит на ракету. Сидит, молчит, смотрит. Лицо задумчивое. Потом, словно стряхнув с себя мысли, резко встанет. И лицо уже другое, совсем не то, что минуту назад, – решительное, подвижное. И – каскад четких, категорических указаний. Успевай только ловить их и, не дай бог, забыть!
Не сворачивая ни на шаг в сторону, Сергей Павлович шел к заветной цели – создать космический корабль для полета человека, послать человека в космос. Уверен, что благодаря его настойчивости и упорству это и свершилось в 1961 году. Именно в 1961-м, хотя было очень много сторонников того, чтобы отложить это событие на более отдаленные времена. Королев не побоялся взять на себя огромную ответственность перед народом, перед партией, перед правительством за подготовку и осуществление первого полета человека в космос. Он оправдал доверие, оказанное ему. Он это смог…
Мы с Евгением Анатольевичем подошли ближе. Сергей Павлович объяснял, что этот корабль еще не предназначается для полета человека. Кресло пилота в нем займет манекен, а вместо ненужного манекену блока с пищей будет установлена клетка с собачкой. Все же остальное, начиная с программы полета и кончая последним винтиком, соответствует основному – «человечьему» – варианту.
Летчики не только слушали и задавали вопросы, но кое-что и советовали. Прежде всего это касалось оборудования кабины. Чувствовалось, что они пришли сюда не как гости или экскурсанты, а как хозяева, как соучастники большого дела.
Немалый интерес вызвала у них теплозащита, особенно после того, как Сергей Павлович рассказал о ее замечательной способности сдерживать жар в несколько тысяч градусов, в вихре метеорного пламени донести до земли человеческую жизнь. И конечно, прежде всего интересовала их кабина. Они ведь впервые осматривали, «щупали» конструкцию, которая в космическом полете сохранит им жизнь, создаст условия для работы, снабдит кислородом для дыхания, питанием, водой.
Заметив нас с Евгением Анатольевичем, Сергей Павлович, кивнув в мою сторону, сказал:
– Вот ведущий конструктор вашего «Востока». Он расскажет все, что вас будет интересовать. А меня прошу извинить, я на минуточку отойду. Дела, простите, дела. Но я еще вернусь.
Я начал рассказывать о системе терморегулирования, о том, что на всех участках полета в кабине будет поддерживаться комнатная температура, причем космонавт сможет регулировать эту температуру «по своему вкусу». На нижнем конусе приборного отсека, под крылышками жалюзи, уложена спиральная труба. По ней насос прокачивает специальную жидкость. Эта жидкость проходит в шланге по кабель-мачте и подводится в спускаемом аппарате к радиатору. Радиатор такой, как в автомобиле. За ним стоит вентилятор. Жидкость остужает радиатор, а вентилятор прогоняет через него нагретый кабинный воздух.
– А почему эта труба, выходя из кабины, опять идет к нижней полуоболочке? – спросил кто-то из гостей.
Я объяснил, что, проходя по спиральной трубе, нагретая жидкость отдает тепло нижней полуоболочке, а та излучает его в космическое пространство.
В этот момент вернулся Сергей Павлович:
– Не устали еще, товарищи? За один раз рассказать обо всех системах корабля невозможно, да и не нужно это. Организуем специальные занятия. Наши товарищи расскажут вам все, что необходимо. И не думайте, пожалуйста, что мы так просто будем вам все рассказывать, – Главный улыбнулся, – мы у вас экзамен потом примем, так, Евгений Анатольевич?
– Конечно, Сергей Павлович, – ответил Карпов.
– Вот то-то. Так что смотрите – кто будет плохо заниматься, в космос не полетит.
– Простите, Сергей Павлович, а отметки нам тоже будут ставить? – этот вопрос, лукаво улыбнувшись, задал молодой, небольшого роста старший лейтенант с очень приветливым, открытым лицом.
– А как же вы думали, Юрий Алексеевич, обязательно будем. Вот закатим вам двойку, тогда не будете улыбаться! – шутливо ответил Главный. – А сейчас, я думаю, никто из вас не откажется посидеть в корабле? Вот только что нам привезли кресло. Давайте отойдем на минутку в сторону, пусть его поставят в кабину…
Через десять минут кресло было на месте. К кораблю пододвинули ажурную площадку. Старший лейтенант – тот, которого Сергей Павлович назвал Юрием Алексеевичем, – поднялся первым. Сняв ботинки, в носках, он ловко подтянулся на руках и опустился в кресло. Проделал он все это молча, сосредоточенно, серьезно. Думал ли он в тот момент, что ему придется почти так же – только уже в скафандре и сняв не ботинки, а специальные чехлы с них – садиться в легендарный «Восток»? Кто знает! Наверное, каждый из приехавших к нам в тот день летчиков думал о своем грядущем полете. Все они, аккуратно сняв ботинки и поднимаясь на руках, садились в кресло и через несколько минут, притихшие и серьезные, спускались с площадки.
Встреча подошла к концу. Евгений Анатольевич уже несколько раз с беспокойством поглядывал на часы. Летчиков давно ждали предписанные твердым регламентом занятия. Ребята уехали. А я, Женя и Владимир Семенович еще долго стояли около корабля…
Ракетно-космическая техника впервые готовилась принять на борт космического корабля человека. Ответственность была огромной. Принципиально возможность полета на «Востоке» была обоснована. Теперь все зависело от надежности ракеты-носителя и корабля. На одной из оперативок у Главного начальники отделов и я со своим замом получили указание в недельный срок подготовить предложения по повышению надежности всего бортового оборудования.
О том, что необходимо принять все меры по повышению надежности, предупреждала неудача при запуске третьего космического корабля. Тщательно испытанный и проверенный, с собаками Пчелкой и Мушкой на борту, он был выведен на орбиту 1 декабря 1960 года. 2 декабря программа исследований была закончена. Вовремя были поданы все необходимые команды, но спуск по расчетной траектории не осуществился.
Это была большая неудача. Можно понять, как нелегко пришлось прежде всего Сергею Павловичу. По натуре он был человеком, жаждущим как можно скорее положительных результатов. Однако в экспериментальной работе он был очень терпеливым, дотошным. Он требовал тщательного доведения всех систем и агрегатов, чтобы они безотказно работали во всех ситуациях. В тяжелых обстоятельствах особенно ярко проявлялся железный характер Сергея Павловича. За многие годы мне ни разу не приходилось видеть его в растерянном или удрученном состоянии. Неистребимое упорство и стальная воля, помноженные на знания и логику, казалось, руководили им. Но давалось это, вероятно, ох, как нелегко! И наверное, оставаясь наедине с собой в маленьком домике на космодроме, в рабочем кабинете конструкторского бюро, дома, он бывал другим. Но мы этого не видели. Другим Главный для нас быть не мог!
Все продуманные отделами мероприятия были объединены в общий документ «Основные положения для разработки и подготовки объекта „Восток“». Прежде всего этот документ предусматривал меры по повышению надежности корабля и ракеты-носителя, всех их систем. Систем ориентации предлагалось установить две: автоматическую, для ориентации на Солнце, с тремя комплектами чувствительных датчиков и электронных блоков, и ручную. В системе управления тормозным двигателем обязательно должны быть дублированы отдельные элементы и источники электрической энергии.
Особое внимание уделялась тем агрегатам, дублирование которых было в принципе невозможно. Это двигательные установки третьей ступени носителя и самого корабля. Предусматривалась необходимость самых придирчивых испытаний, вплоть до огневых, на которые отводилась половина всего изготовленного количества. Только в случае стопроцентного успеха этих испытаний двигательные установки можно было ставить на ракету и корабль.
Нет нужды перечислять все системы корабля и ракеты и называть меры обеспечения их надежности. Старались предусмотреть все что могли. Помимо мер чисто технических предлагались и организационные, например установление личной ответственности главных конструкторов, директоров заводов и руководителей организаций за качество, правильность принятых технических решений, отработанность и надежность всего, что создавалось для «Востока». Вводился такой порядок, при котором окончательное заключение о допуске ракеты-носителя и корабля к полету должно делаться совместно всеми главными конструкторами.
Отработка, проверка, испытания и еще раз испытания – таким законом руководствовались мы при изготовлении кораблей «Восток». Естественно, мы стремились максимально использовать при этом богатый авиационный опыт. Однако, обнаружив неисправность при выходе на орбиту, не посадишь взлетевшую ракету на космодром, не развернешься и не скользнешь на крыло, не катапультируешься. Первые космические корабли создавались не для испытаний и доводки их в космическом полете, а для гарантированного успешного полета человека в космическом пространстве. Техника должна была «принять в свои руки» человека, а не человек – технику.
Собрался совет главных конструкторов. Сергей Павлович прочитал проект «Положений». После обсуждения они были приняты и подписаны всеми участниками совещания. С этого дня порядок, определенный «Положениями», стал законом при создании и испытании всех приборов, систем и космических кораблей в целом.
Вслед за сборкой, монтажом, установкой всех механизмов и приборов корабль оброс электрическими кабелями. Они соединили бортовые приборы с контрольно-измерительной аппаратурой и пультами. Начались автономные испытания. Все тщательно регистрировалось, записывалось. Потом испытатели подолгу изучали «биение пульса» своего подопечного.
После того как каждый прибор подтвердил свою работоспособность, начались комплексные испытания. Не включался лишь двигатель. Корабль покоился на прочной подставке, а не мчался в космосе. Во всем остальном программа полета выполнялась полностью, работа всех приборов и механизмов велась строго по летному графику. Испытатели-комплексники, как дирижеры оркестра, глядя в партитуру – альбомы инструкций, то жестом, то по телефону давали указания тем или иным «службам» вступить в общий ансамбль. И звучала космическая симфония комплексных испытаний.








