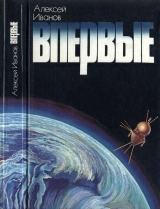
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Конструктор должен очень хорошо понять идею, заложенную проектантом в тот или иной отсек, прибор, узел, знать до самых мельчайших подробностей, как все это сделать. Но вот и понимаешь и знаешь, а все равно не надеешься, что все пойдет гладко и легко. Будут противоречия, будут и горячие споры. И обязательно выяснится, что, к примеру, для какого-нибудь прибора нужен больший объем или для какого-нибудь узла нужен совсем не тот материал… Спорить не возбраняется, в спорах рождается истина. И она обязательно должна родиться.
В конструкторском отделе Григория Григорьевича Голдырева народ опытный. За прошедшие годы научились понимать, что такое космические аппараты. И первый спутник разрабатывали, и «Луны», но корабль – впервые. А у каждой новой конструкции свои особенности. Когда что-то создается и тебе не говорят: «Так никто не делает, не мудри, делай, как люди!» – можно дать волю фантазии.
Но не забывает конструктор, что за ним производство, завод! Он-то нафантазировал, а у производственников ведь есть пределы. На заводе не волшебники, многое они сделать могут, но чего-то и не могут.
Рабочий обрабатывает на фрезерном станке сложную деталь – узел приборной рамы. Деталька небольшая – стружки вокруг куда больше. Рядом – начальник цеха.
– Товарищ ведущий, посмотрите, что делают ваши конструктора! Восемьдесят процентов – в стружку! Пять дней грызем этот узелок. Тут и токарная работа, и фрезерная, и сверловка – чего только не придумали! Да разве это конструкция? Директор завода Роман Анисимович сегодня на оперативке с нас столько же стружки снял, сколько ее вон под ногами. А что мы можем сделать?
Про себя тоже возмутишься таким узелком, но если сядешь рядом с конструктором, разберешься, послушаешь его доводы, то увидишь, что завязан он не от легкости в мыслях. Ведь было рассмотрено несколько вариантов и выбран, и обоснованно выбран, именно тот, который необходим…
Трудно привести примеры, рассказать о каком-то наиболее характерном узле конструкции. Таких узлов было много. Взять хотя бы восьмисотпятидесятиконтактный штепсельный разъем на кабель-мачте, соединяющей приборный отсек со спускаемым аппаратом. Приборный отсек перед посадкой должен отделиться от спускаемого аппарата еще на орбите – он сослужил свою службу. Дальше спускаемый аппарат летит самостоятельно. Но на орбите корабль – одно целое и конструктивно и функционально. Обе его части связаны между собой электрическими цепями. Эта связь и осуществлялась через кабель-мачту по 850 проводам. Нужно было провести все эти провода через толстую теплозащищенную герметичную стенку спускаемого аппарата к приборному отсеку. И не просто провести, а сделать еще и так, чтобы по команде практически мгновенно произошло разъединение всех этих проводов. Нужен был разъемный узел.
И разработали такой узелок. Представьте себе круглую тарелку диаметром почти полметра, состоящую из нескольких слоев металла и специального теплозащитного материала. На этой тарелке разместилось 850 электрических контактов, разместилось так, что она и герметична, и жаропрочна, и выдерживает перегрузки, – и умеет отбрасываться от спускаемого аппарата…
После выпуска чертежей работы конструктора не заканчивается. Из цехов сыплются вопросы. Разрешать их надо сразу, на месте. Конструктор полдня проводит в цехах завода, а на кульмане его ждет начатый чертеж следующего узла.
Но вот узел изготовлен, его надо испытать, скажем, на прочность. И если он чуть-чуть, самую малость, не выдержит, поддастся нагрузке (правда, нагрузке с запасом), значит, надо все переделывать. Однако это еще полбеды. Своя вина – перед собой ответ держать. И на заводе ее принимают как свою, посмеиваются, но понимают, что так оставить нельзя, переделывать надо.
А бывает хуже. Вот приборная рама – сложное ажурное переплетение труб, скрепленных пресловутыми узлами, с которых и за которые снималась стружка, – готова. Осталось сделать последние подчистки, окрасить, и можно передавать в цех сборки. И вот тут-то…
– Зайдите срочно ко мне! – в телефоне голос Григория Григорьевича.
– Григорий Григорьевич, здравствуйте, – спокойно и радостно приветствует явившийся на зов конструктор.
– Здорово, здорово. Как дела с приборной рамой 2200–0? – прикладывая к уху ладонь, спрашивает у конструктора начальник отдела (он чуть недослышит).
– Был утром в цехе. Готова. Сегодня в малярку передают. Не рама, а картиночка! Два метра диаметром, а поднимешь за край, вроде и не весит ничего…
– Это все хорошо. Но вот, – Григорий Григорьевич многозначительно стучит остро отточенным карандашом по лежащему на столе документу, напечатанному на бланке с двумя орденами и каким-нибудь прозаическим наименованием организации рядом с ними; к документу подколот канцелярской скрепкой чертеж-синька (кстати, почему синька, уже лет двадцать – тридцать, как светокопии стали коричневато-фиолетового цвета, а их по-прежнему называют синькой?), – уважаемые смежники, – в адрес смежников следует несколько ядовитых слов, – подарочек нам прислали. Изменили размерчики. И начальство решило, – Григорий Григорьевич показывает на косую резолюцию красным карандашом, – изменение принять. Давай думай, Виктор Иванович, что сделать можно.
Проходит примерно час.
– Григорий Григорьевич, – конструктор старается казаться спокойным, хотя это удается ему с трудом. – Ну что ж, все можно! Даже с золотым ободочком! Только раму всю, простите, коту под хвост! Вы-ки-нуть. Всего лишь.
– Ну, выкинуть дело нехитрое. А ты у нас для того и конструктор первой категории – первой! – чтоб решение найти!
– Да смотрел я! Не лезут новые габариты. Все соседние приборы двигать надо.
– Значит, мало подумал. Подумай еще, а завтра утром заходи опять – что-нибудь вместе придумаем, если сам не осилишь.
К утру конструктор решение нашел. Но все равно это доработка, выпуск так называемого «Извещения на изменение» – документа, который порождает неприятности на производстве, срывает сроки. И все на голову конструктора: ведь производство видит перед собой только того, кто выпускает чертежи и кто их меняет! А почему он их меняет, в чем причина изменений – неведомо. Да бог с ними, с причинами, все равно переделывать.
А бывает и так. Конструкция разработана, чертежи уже на заводе, ни смежники, ни проектанты ничего не изменили – самому конструктору пришло в голову более изящное и оригинальное решение: ведь не всегда самое лучшее приходит в голову первым. Вдруг человек увидел, что хорошее можно сделать еще лучше, и заболел этим! Факт сам по себе положительный, заслуживающий одобрения и поддержки. Но всегда ли в таких случаях надо идти на переделки? Не всегда! Как показал многолетний опыт, надо точно знать тот рубеж в разработке конструкции, после которого внесение изменений, пусть полезных, но непринципиальных, недопустимо.
Вот почему наступал такой день, когда по конструкторскому бюро издавалось распоряжение, запрещающее выпускать «Извещения на изменение». Каждый случай внесения поправок после этого распоряжения рассматривался заместителем Сергея Павловича или лично им.
Но вот чертежи сменились металлом. Наступило время испытаний. В корпусе спускаемого аппарата – два автоматически открывающихся люка. Это круглые отверстия диаметром около метра, закрывающиеся выпуклыми крышками. Один люк предназначался для установки и катапультирования капсулы с кабинкой для животных, на следующих кораблях – для входа, выхода или катапультирования космонавта на кресле. Другой люк – парашютный. Его крышка, такая же по форме и размеру, при отбросе должна была выдергивать за собой вытяжной парашют – первый в трехкаскадной парашютной системе. На последнем, основном, куполе этого парашюта площадью около 650 квадратных метров спускаемый аппарат должен был опуститься на Землю.
Итак, два люка. Их крышки помимо обеспечения полной герметичности должны были почти мгновенно отбрасываться по специальному электросигналу. Конструкторам пришлось много поработать и над замками крышек, и над устройствами для их отброса. Ответственность особая! Представьте себе: полет заканчивается, прошло торможение, начинается спуск. Высота 20 километров, затем 15, 10… Скорость – несколько сот метров в секунду. Наконец – сигнал на открытие парашютного люка, а механизм отказал, крышка не отбросилась. Катастрофа! Неподхваченная парашютом кабина врежется в землю. А герметичность? Если при взлете, на орбите или при спуске замки не выдержат, крышка чуть-чуть, самую малость отойдет от шпангоута люка (а ведь на нее изнутри давит атмосфера кабины – килограмм на каждый квадратный сантиметр поверхности, а всего около 8 тонн!), произойдет разгерметизация. Это недопустимо. Конструкция люка должна быть ультранадежной.
Для испытаний была создана специальная установка, имитирующая часть кабины с люком и со всеми пневматическими и пиротехническими устройствами. Программа испытаний предусматривала, что люк будет открыт и закрыт 100 раз. В пролете цеха на наклонной подставке собрали все необходимое для экзамена. От самого люка на десяток метров над полом протянута прочная сетка, сбоку – осветительные лампы, киноаппараты, самописцы. Все готово.
– Внимание! Отброс!
Глухой удар толкателей, и крышка, словно она и не весит центнер, срывается с люка и, кувыркаясь, подпрыгивая на сетке, замирает у противоположной стены пролета. Кажется, все в порядке. Механики начинают готовить установку к следующему отбросу. Крышка опять на месте, затянуты замки, проверена герметичность. Все готово.
– Внимание! Отброс!
И так 100 раз – при разных давлениях, при разных температурах. А через несколько недель…
Самолет широкими кругами набирал высоту. Он казался маленьким серебристым крестиком. Белый инверсионный шлейф помогал глазу не потерять его в голубизне чистого неба. Под фюзеляжем укреплен спускаемый аппарат. При сбросе с высоты 10–11 километров в свободном падении на высоте 7–8 километров он наберет скорость, близкую той, какую имел бы на этой высоте при возвращении из космического пространства. Значит, условия соответствуют реальным и, следовательно, так можно испытывать всю систему приземления: отброс первого люка, катапультирование капсулы, отброс второго люка, ввод парашютной системы спускаемого аппарата. Такова программа испытаний.
Самолет выходит в заданную зону. Сброс. В окуляр кинотеодолита видна точка, оторвавшаяся от самолета и стремительно несущаяся к земле. Сейчас, вот-вот сейчас от шара, раскрашенного черными и белыми квадратами, отделится комочек и тут же расцветет оранжевым зонтом парашютного купола.
– Катапультирование прошло! – докладывают наблюдатели. – Парашют раскрыт!
Все внимание теперь обращено на стремительно падающий шар. Подведет или не подведет второй люк? Не должен – ведь сколько раз все проверялось на заводе! Через мгновение громадный шатер, раскрывшийся с характерным хлопком, подхватывает падающий шар и, опираясь на тугой воздух, плавно опускает его на землю.
Первое испытание прошло нормально. За ним – второе, третье, четвертое…
Энергетики решили еще раз проверить и солнечные батареи на первом корабле. Впервые они были опробованы на третьем спутнике в 1958 году и почти два года обеспечивали электропитанием радиопередатчик «Маяк». Сам спутник за это время налетал более 448 миллионов километров, сделав более 10 тысяч оборотов вокруг земного шара. Потом солнечные батареи были на «Луне-3».
Панели, закрепленные неподвижно на неориентирующемся спутнике, не могли быть максимально эффективны – в этом случае работала бы только та панель, которая «смотрела» на Солнце, а остальные в это время «отдыхали». Вот проектанты и задумались. Одно из двух: или космический аппарат с неподвижными солнечными батареями должен «смотреть» ими в сторону Солнца, или батареи должны быть подвижными и «следить» за ним, а аппарат будет неориентированным.
Поскольку постоянная ориентация «Востока» в полете не предусматривалась, было решено сделать самоориентирующиеся солнечные батареи. В отделе Льва Борисовича Вельчицкого были разработаны чертежи механизмов, которым полагалось поворачивать батареи, а в лаборатории электроавтоматики Виктор Петрович Кузнецов со своими товарищами «сочинили» электрические приборы. Золотые руки заводских механиков и монтажников изготовили и собрали устройство. Окрестили его «Лучом».
Телефонный звонок. Снимаю трубку. Голос Виктора Петровича:
– Здорово, ведущий! Что-то ты совсем нас забыл, зазнался!
– Ну, не ругайся, не ругайся. Как-нибудь забегу обязательно.
– Дело, конечно, твое, но если сейчас не придешь, то многое потеряешь.
– Это почему же?
– Мы «Луч» собрали. Сейчас включать будем. Так что если хочешь своими глазами видеть двенадцатое чудо света, то приходи. Так уж и быть – десять минут ждем. И не опаздывай! Борис Ефимович тоже хотел прийти.
– Постой, постой! Почему двенадцатое?
– Мы так решили. После египетских пирамид, висячих садов Вавилона, храма в Эфесе, статуи Зевеса, гробницы Мавзола, колосса Родосского да маяка Фаросского – всем известных семи чудес (восьмое мы решили пропустить как понятие нарицательное) – девятое и десятое были созданы нами в прошлом месяце. Одиннадцатое – это невеста нашего Сережи Павлова, а вот двенадцатое – «Луч»!
Я был поражен столь прочной связью творений лаборатории Кузнецова с делами древних.
– Ну, раз двенадцатое, тогда иду!
В комнате на невысокой подставке красовалась метровая колонка, а на ее конце – два полудиска с солнечными батареями. Сбоку на штативе несколько мощных рефлекторных ламп – искусственное Солнце.
– А ведь мы тебя не случайно пригласили, – встретил меня Виктор Петрович. – Знаешь, что такое визит-эффект?
– Конечно, знаю. Отказ прибора в присутствии начальства. Ситуация, характерная для вашей лаборатории.
– Поскольку ты не очень большое начальство, мы и решили вначале «Луч» на тебе проверить, а уж потом Борису Ефимовичу покажем.
Обмен любезностями не успел закончиться (острых на слово у нас хватало), как в комнату вошел Борис Ефимович, заместитель Сергея Павловича «по электрическим» вопросам, и с ним начальник отдела Виктор Александрович. Ребята притихли. Виктор Петрович доложил о подготовке установки.
– Хорошо! Давайте посмотрим, что у вас получается. Командуйте, Виктор Петрович! – и Борис Ефимович отошел к окну.
– Сережа! Включай!
В колонке загудели моторы. Но полудиски-уши были неподвижны. Еще щелчок выключателя – никакого эффекта. Я посмотрел на Виктора: неужели действительно визит-эффект? Но он спокойно смотрел на пульт.
– Ну, вот, сейчас приводы и автоматика включены. Можно давать свет!
Ярко вспыхнули лампы на штативе, полудиски переливчато заиграли голубизной кремниевых пластинок.
– Борис Ефимович, вам первому брать «Солнце» в руки.
– Нет, нет, увольте меня от соучастия! Вон пусть ведущий, он помоложе!
Я взял штатив с лампами и не спеша пошел по лаборатории. Полудиски дрогнули и медленно повернулись вслед за мной. Остановился – остановились и они. Даже как-то неприятно стало – словно живые. На пути попался табурет. Встал на него и, вытянув руки, поднял штатив почти к потолку. Полудиски послушно повернулись вверх. Слез вниз – и они стали смотреть вниз. Пошел обратно и на ходу выключил лампы. Вначале полудиски бойко зажужжали, но, потеряв «Солнце», остановились.
– Что ж, Виктор Александрович, получается вроде неплохо, а? А в барокамере приводы проверяли?
– Да, Борис Ефимович, проверяли, работают безотказно.
– Хорошо, я сегодня вечером буду у Сергея Павловича, доложу ему, что «Луч» работает. В принципе. Ведь испытания, насколько я понимаю, еще не все закончены?
– Конечно, Борис Ефимович, сегодня проверка только так, для себя.
– Ну, до свидания, желаю успеха! – вместе с Виктором Александровичем Борис Ефимович вышел из лаборатории.
Вслед за ними в коридор вышли и мы с Кузнецовым. Закурили.
– Ну, Петрович, поздравляю! Здорово получается! А вот знаешь, если помечтать маленько, а? Представь: на орбите, в космосе, чернота бездонная, звезды и Солнце. И плывет наш «Восток», поворачивается так лениво, медленно и молча шевелит «ушами». Диски-то лучевые, как ушки на макушке. Вот бы посмотреть!
– А я гляжу, ты пофантазировать любишь…
– А как же нам без фантазии? В нашем деле без фантазии через год выдохнешься! Хочешь не хочешь, а фантазией кормимся! Наше дело ее в реальность, в железо, в приборы переделывать… Слушай, скажи, как это ты семь чудес света перечислил? Помню, что есть такие, но чтобы вот так, с ходу…
– Да очень просто. Мы сегодня в обед одну историческую викторину догрызали…
Через две недели испытания «Луча» закончились. Установка получила путевку в жизнь.
Фролов… Евгений Фролов… К этому конструктору я приглядывался давно. Не могу сказать, что причиной этому был талант или какое-то выдающееся свойство характера. Порой не скажешь, не вспомнишь, что привлекло тебя в том или другом человеке. Но что-то привлекло. Наверное, это были качества, которые импонировали мне: он был энергичен, жизнерадостен, оперативен, технически грамотен. На день-два я забывал о нем, но, как только проходил мимо его рабочего места и встречал его взгляд, приветливый кивок головы, опять мелькала мысль: «А что, если?..»
Справляться со множеством дел в КБ и на заводе, не говоря уже о связях со смежниками, с уймой вопросов при этом становилось все труднее и труднее. Частенько мелькала мысль: а что если попросить СП о помощнике? Вдвоем-то сподручнее. Михаил Степанович, в паре с которым мы начинали в 1957 году, отошел от наших забот. Он вел новую большую тему. У меня, правда, был один заместитель, но его целиком поглотили «лунные» заботы, и отрывать его на «восточные» было никак нельзя. «А что, если?..»
В один из очередных приходов в отдел, где работал Евгений Александрович, я, осторожно поговорив с его начальником, узнал, что Фролов окончил МАИ в 1953 году и с тех пор работает у нас. Я зашел к нему и после церемониала приветствий кивнул: «Выйдем, поговорить надо». Мое предложение не застало его врасплох. Казалось, он давным-давно только и ждал этого разговора.
– В чем вопрос! Конечно, согласен, дорогой! С большим удовольствием! – экспансивно и почему-то в кавказской манере ответил Евгений Александрович.
– Но только имей в виду, разговор предварительный, может быть, ничего и не получится. Надо с Главным поговорить, чтоб он согласился.
– Готов ждать, дорогой, готов ждать. Но хочу очень. Это прошу иметь в виду.
Главный согласился. Через неделю был подписан приказ, и Евгений Александрович стал моим замом. Это было очень кстати. Дел прибавлялось с каждым днем. Должен сказать, в своем выборе я не ошибся. Работалось с Женей очень легко. Взаимопонимание у нас установилось полное. Даже, кажется, и «периода акклиматизации» не было. Есть такие люди, словно самой природой созданные для того, чтобы слиться с другим человеком в работе и заботах.
В одном из цехов на огромном прессе, пахнущем разогретым маслом, штамповались заготовки для корпусов спускаемого аппарата: большие дольки шара. Сварщики соединят их в двухметровый шар. В соседнем цехе на станке, называемом карусельным (обрабатываемая деталь закрепляется на большом, горизонтально вращающемся круге), – шпангоут приборного отсека. Это большое, сложное по профилю кольцо. Потом к нему будет приварена конусная часть корпуса отсека.
Рядом на участке – станки поменьше и детали помельче, но нисколько не проще, иногда, наоборот, сложнее. А за стеклянной перегородкой – совсем ювелирная работа: здесь делают пневмоклапаны. Сами-то они величиной со спичечную коробку, но в каждом несколько десятков деталей, и каждая должна быть изготовлена с микронной точностью!
В здании по соседству – приборное производство, святая святых электриков и электронщиков. Над монтажными столиками белеют шапочки девушек – идет монтаж электронных приборов. Сотни, тысячи малюсеньких сопротивлений, конденсаторов, транзисторов, реле соединяются здесь по замысловатой схеме разноцветными проводами и прячутся в корпуса приборов. Изо всех цехов, со всех участков агрегаты, детали, приборы после строжайшего контроля и испытаний текут, как ручейки, в могучую реку, а та – в цех главной сборки.
В цехи производства прочно вошла «космическая» культура. Что греха таить, порой она не входила, а вдавливалась, но через короткое время приживалась прочно. В цехе сборки вы обязательно обратили бы внимание на спускаемые аппараты на специальных ложементах, окрашенных блестящей, цвета слоновой кости, эмалью, как в операционной или зубоврачебном кабинете. А ведь за несколько лет до этого и производственники и технологи были против такой окраски. «Техническими условиями, утвержденными для машиностроительных заводов, подставки положено красить в темно-зеленый или серый цвет! И точка!» – стояли они на своем. Помню, Леонид Иванович горячо доказывал, что на светлых подставках вся грязь и пыль будет видна.
– Вот и хорошо, что видна будет, – отбивался я, – значит, ее сразу смоют! А иначе как? Собирать на грязи – этого ты хочешь?
В тот день мы больше не разговаривали. Враги. На следующее утро состоялся разговор у Сергея Осиповича, заместителя Главного, руководившего конструкторскими делами.
– Вы правы, братцы мои, я с вами согласен. «Слоновая кость» будет культуру прививать. А что, есть уже такая оснастка? Зайду посмотрю. А технологам в цехе скажите, что я – за!
Космический корабль. На что он был похож? Да, пожалуй, только на себя, на то, что было нарисовано на компоновочном чертеже у проектантов. Тот, самый первый корабль, о котором шла речь на совещании у Главного, как тогда решили, был без теплозащиты. Его «голый» спускаемый аппарат был пристегнут к приборному отсеку четырьмя стальными полосами-лентами. На них – антенны радиоприемников. Ленты сходились вверху, на «северном полюсе» шара. Там специальный замок, на нем – колонка «Луча». Сверху над колонкой – два полукруга солнечных батарей. Приборный отсек по форме – два усеченных конуса, соединенных основаниями. В его верхней части – спускаемый аппарат, в нижней, в цилиндрическом углублении – тормозная двигательная установка (ТДУ). Снаружи – гирлянда баллонов с газом, трубопроводы, клапаны, свернутые в виде продолговатой петли откидывающиеся антенны телеметрической системы и «пятачки» – маленькие антеннки радиосистемы измерений скорости и дальности. Почти в самом низу – рулеточные антенны, такие же, как на первых «Лунах». Они прочно и надолго завоевали тогда место на космических аппаратах.
Корабль был красив своей необычностью. Была уверенность в том, что именно такой корабль, а не какой-то будущий, лучший, вынесет в космос человека. Если бы этой уверенности не было – не было бы и проекта, не было бы и корабля. Отойдешь, бывало, в сторону, посмотришь на это рогато-космическое чудище, и невольно рука тянется к голове – снять шапку. И только тогда вспомнишь, что шапка-то вместе с пальто в гардеробе, а на тебе белоснежный халат.
Корабль был необычен даже для нас. С чем его можно было сравнить? Красив он или нет, эстетичны ли его формы? Можно сравнивать два самолета, два парохода, два дома, наконец. Но с чем сравнить то, что создано впервые?
Закончились испытания на заводе. Все проверено. Все работает так, как должно работать. Дальше – космодром, вновь испытания, стыковка с ракетой-носителем, вывоз на старт, предстартовые испытания, заправка ракеты топливом. И наконец 15 мая 1960 года старт.
Радио и газеты сообщили:
«В течение последних лет в Советском Союзе проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке полета человека в космическое пространство.
Достижения Советского Союза в создании искусственных спутников Земли больших весов и размеров, успешное проведение испытаний мощной ракеты-носителя, способной вывести на заданную орбиту спутник весом о несколько тонн, позволили приступить к созданию и началу испытаний космического корабля для длительных полетов человека в космическом пространстве.
15 мая 1960 года в Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля на орбиту спутника Земли. По полученным данным, корабль-спутник в соответствии с расчетом был выведен на орбиту, близкую к круговой, с высотой около 320 километров от поверхности Земли, после чего отделился от последней ступени ракеты-носителя. Начальный период обращения корабля-спутника Земли составляет 91 минуту. Наклонение его орбиты к плоскости экватора равно 65 градусам. Вес корабля-спутника без последней ступени ракеты-носителя составляет 4 тонны 540 килограммов. На борту корабля-спутника установлена герметическая кабина с грузом, имитирующим вес человека, и со всем необходимым оборудованием для будущего полета человека и, кроме того, различная аппаратура, вес которой с источниками питания составляет 1477 килограммов.
Запуск предназначен для отработки и проверки систем корабля-спутника, обеспечивающих его безопасный полет и управление полетом, возвращение на Землю и необходимые условия для человека в полете. Этим пуском положено начало сложной работы по созданию надежных космических кораблей, обеспечивающих безопасный полет человека в космосе.
По получении с корабля-спутника необходимых данных будет осуществлено отделение от него герметической кабины весом около 2,5 тонны. В данном случае возвращение на Землю герметической кабины не предусматривается, и кабина после проверки надежности ее функционирования и отделения от корабля-спутника, как и сам корабль-спутник, по команде с Земли начнет спуск и прекратит свое существование при вхождении в плотные слои атмосферы… 16 мая 1960 года в 6 часов 11 минут корабль-спутник прошел над Москвой…»
Полученные с борта корабля сведения подтвердили: аппаратура работает нормально. Прошло трое суток. Близился завершающий этап – снижение корабля с орбиты, дорога к Земле. 19 мая на борт была подана команда на включение так называемого цикла спуска. Перед включением тормозной установки система ориентации должна была определить характер движения корабля (на орбите он мог двигаться «боком», «головой» или «ногами» вперед), «успокоить» его, потом плавно повернуть так, чтобы сопло тормозной установки смотрело вперед под точно рассчитанным углом (этот угол должна была «запомнить» система управления). И только после этого двигатель, включившись на заданное количество секунд, должен был «сорвать» корабль с орбиты и направить к Земле.
Так было задумано. Но так не произошло. Тормозная двигательная установка и система управления сработали, но подвела система ориентации. Она не смогла нормально и вовремя сориентировать корабль. Направление тормозного усилия (тормозного импульса, как его называют) по стечению обстоятельств получилось чуть ли не противоположным, и вместо торможения, вместо уменьшения скорости произошло ее увеличение. Корабль не затормозился, а, разогнавшись, перешел на новую, более высокую орбиту. Обо всем этом бесстрастно сообщили радиотелеметрия и изменившиеся параметры орбиты. Бесстрастны приборы, но не люди…
А дальше все было в порядке. Отделение спускаемого аппарата произошло, как и было предусмотрено, все приборы в кабине работали нормально.
«Это было на исходе ночи, – вспоминал потом Константин Давыдович Бушуев. – Как вы понимаете, устали мы все здорово. Напряжение сказывалось. Но и неудача, признаюсь, удручала. Сергей Павлович с особым любопытством выслушивал доклады измеренцев. Особенно баллистикам досталось: немедленно вынь да положь параметры новой орбиты. Возвращались мы домой вместе с Сергеем Павловичем в его машине. Не доезжая примерно квартала до дома, он предложил пройтись пешком. Было раннее утро, улицы города только-только просыпались. Мы медленно шли по тротуару. Я молчал.
Сергей Павлович возбужденно и, я бы сказал, даже с восторженным удивлением продолжал говорить о ночной работе. Я что-то поначалу не очень понимал его восторгов: работа-то была неудачной, корабль к Земле вернуть не удалось. А он безо всяких признаков огорчения увлеченно рассуждал о том, что это первый опыт маневрирования в космосе, переход с одной орбиты на другую. „Надо овладеть техникой маневрирования, это же имеет большое значение для будущего! А спускаться на Землю когда надо и куда надо наши корабли будут, как миленькие будут! На следующий раз посадим обязательно!“»
Так что же произошло с системой ориентации? Подробный анализ телеметрических данных показал, что неисправность возникла в приводе чувствительного инфракрасного датчика. Этот многократно проверенный механизм, нормально работавший в барокамерах с достаточно большим разряжением, в космосе отказал. В организации, разработавшей этот привод, начались поиски, эксперименты. Наконец причину удалось установить: в глубоком космическом вакууме, гораздо более глубоком, нежели тот, который достигался в барокамере, металлы изменяли свойства, возрастало трение, смазки утрачивали свои качества.
Все же нам чуть-чуть повезло. Датчик системы ориентации, перед тем как вышел из строя его привод, успел сообщить, что он чувствует тепловой горизонт Земли и может обеспечить ориентацию корабля. Работа тормозной установки в условиях глубокого вакуума и невесомости была проверена полностью.
Тщательно исследуя космос, познавая, каков он, порою ошибаясь, ученые, инженеры не имели права ошибиться в одном – в том, что могло стоить человеческой жизни. Следующие пуски кораблей планировалось совершить с животными. Из их обширного сообщества были выбраны прежде всего собаки.
Полным ходом началась подготовка нового корабля. Его спускаемый аппарат уже был покрыт теплозащитным материалом. Внутри устанавливали катапультируемую капсулу со специальной двухместной кабинкой для четвероногих пассажиров. Сборка и испытания прошли без особых приключений. Ракета тоже была подготовлена в срок. В начале июня 1960 года команда испытателей вылетела на космодром для подготовки корабля и его пассажиров к полету. В той же комнате, где когда-то готовилась к полету Лайка, медики опять организовали свою лабораторию. Они привезли с собой не только собак, но и крыс, черных и белых мышей, малюсеньких мушек дрозофил, водоросли, растения, семена – целое хозяйство. Отбирали крыс и мышей, пинцетом отсчитывали мушек. Водоросли и семена помещали в специальные пробирки, баночки, колбочки.
Для полета готовились две собаки – Стрелка и Белка. Государственной комиссии были предъявлены их паспорта, содержавшие гораздо больше сведений, нежели паспорт человека. Не обошлось и без шуток, например такой: а где на собаках штамп отдела технического контроля?
Стрелка и Белка предварительно прошли большой цикл подготовки. Начали с «первых классов» школы, а экзамены на «аттестат зрелости» сдавали в лабораториях института. Подготовка животных к космическим полетам очень хорошо описана Николаем Николаевичем Туровским и Марией Александровной Герд в книге «Первые космонавты и первые разведчики космоса», вышедшей в издательстве «Наука» в 1965 году. Лучше, наверное, и не расскажешь. Вот отрывок из этой книги:








