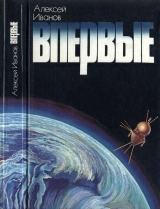
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– Пять… пять…
И вдруг с тревогой:
– Три… три…
Все притихли, насторожились. Что это? Отказ двигателя? Стучит кровь в висках. Сергей Павлович, стиснув в ниточку губы, почти вплотную придвигается к телеграфисту:
– Ну? Ну-у!!!
– Три…
Снова радостно:
– Пять… пять… пять!!!
– Что? Откуда была тройка?
Телеграфист впивается глазами в ленту:
– Сбой! Ошибка!
– Черт, – голос Константина Феоктистова откуда-то сбоку, – такие сбои намного жизнь укорачивают…
Ракета идет, не может не идти! Казалось, что не миллионы лошадиных сил, а миллионы рук и сердец, дрожащих от чудовищного напряжения, выносят корабль на орбиту. И «Восток» вышел на орбиту.
Срываемся со своих мест. Сидеть нет сил. Нет сил выдерживать установленный порядок. Самые разные лица: веселые, суровые, сосредоточенные – самые разные… Но одно у всех – слезы на глазах. И у седовласых, и у юных. Никто не стесняется слез. Объятия, поцелуи, поздравления.
В коридоре Сергея Павловича окружают друзья-соратники. Наверное, по доброй старой традиции подняли бы на руки, да негде качать. Кто-то снял с рукава красную повязку и собирает на нее автографы. Мелькнула мысль – надо сделать то же. Такое не повторится!
Все выходят наверх. На первой подвернувшейся машине, еле втиснувшись, удается уехать на пункт связи, в знаменитый «люкс». По дороге на очень большой скорости нас обгоняет машина Сергея Павловича. Около пункта связи много народу. Все возбуждены. Из открытых окон, из репродуктора, установленного рядом на площадке – торжественный голос Левитана: «…первый в мире космический корабль-спутник „Восток“ с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника „Восток“ является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич…»
Праздник, большой праздник! Человек в космосе! Человек на орбите! «Юра, Юрий, Гагарин», – слышно кругом.
«По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 98,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра».
– Ну что, здорово, а?
– А ты как думал?!
– «Поехали»! А? Ведь силен, а?
– Молодец Юра! Настоящий парень!
– Братцы, ну и дрожал же я! Пошла она вроде, а потом, смотрю, будто остановилась! Аж похолодел…
– Ну, что слышно? Как он там?
– Да по «Заре» докладывают, что вроде все хорошо. Чувствует себя нормально.
«Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов…»
Кто-то выбежал из здания, радостно кричит:
– Все в порядке! С борта передал, что чувствует себя хорошо. Пролетает над Африкой!
«…с космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь…»
Над Африкой… В эти минуты корабль и космонавт готовятся к спуску с орбиты.
Протиснувшись сквозь толпу, я вошел в помещение пункта связи. Стоящие в коридоре и у дверей, поворачивая в мою сторону головы, прикладывают палец ко рту: «Тише».
В небольшой комнатке перед кинозалом Сергей Павлович разговаривал с кем-то по междугородному телефону. Рядом Константин Николаевич – председатель государственной комиссии, Мстислав Всеволодович Келдыш, главные конструкторы. Сергей Павлович, очевидно, заканчивал доклад о ходе полета. Замолчал. В комнатке тихо. Несколько секунд слушает.
– Спасибо, спасибо вам большое. Нет, нет, рано еще, все основное, пожалуй, еще впереди. Спасибо. Передам, передам обязательно. Да, да, все в порядке. Пока к тому, что доложил вам Константин Николаевич, добавить нечего. Всего доброго вам. Да, будем докладывать.
Он положил трубку.
– Товарищи! Сейчас звонил нам секретарь Центрального Комитета партии. Центральный Комитет и правительство внимательно следят за полетом и волнуются вместе с нами. Секретарь ЦК просил передать всем большое спасибо за подготовку ракеты и корабля.
Прошло минут десять. Стрелка часов приближается к двадцати пяти минутам одиннадцатого. Сейчас должна включиться тормозная двигательная установка.
– Когда теперь у нас должны быть пеленги?
– Через двадцать две минуты, Сергей Павлович, – отвечают несколько голосов.
– Ну, хорошо, все идет нормально. Надо следить за «Сигналом».
Должно повториться то, что уже не раз было… Корабль входит в плотные слои атмосферы, мечется пламя за бортом, покрываются темным налетом стекла иллюминаторов, температура – тысячи градусов! Но сейчас внутри человек, не безмолвный манекен – человек!
– Есть «Сигнал»! – докладывает дежурный радист. – Принимают три наземных пункта!
Проходит несколько долгих минут. Сейчас, если все в порядке, «Сигнал» должен пропасть. Значит, спускаемый аппарат отделился от ненужного больше приборного отсека и мчится к Земле.
Голос того же радиста:
– «Сигнал» пропал!
Эти слова, подхваченные за окном, многократно повторяют десятки голосов на улице. Смотрю на часы. Это невольно делают почти все. Очень хорошо. Все идет точно по программе. Теперь еще несколько минут, и, пожалуй, самое последнее и долгожданное – пеленги. Если эти сигналы сейчас услышат дежурящие у приемников во многих пунктах нашей страны, то…
Минута, две… И радостный возглас:
– Пеленги есть! Ура!
– Ура-а! Ура-а!
Сразу снялось напряжение. Сразу – другие лица. Все кричат, хлопают друг друга по плечам, торопливо закуривают и спешат на улицу, на солнце. А оно светит приветливо, радостно.
Проходит еще несколько мгновений.
«…в 10 часов 55 минут московского времени „Восток“ благополучно совершил посадку. Место посадки – поле колхоза „Ленинский путь“ близ деревни Смеловка, юго-западнее города Энгельса…»
Собираемся группками. Равнодушных нет, да и могли ли они быть? Неподалеку с несколько ошалелыми глазами что-то ожесточенно доказывают друг другу Константин Феоктистов и Марк Лазаревич Галлай. Прислушался. Спор идет о роли человека и автоматов в исследовании космоса. Ну что ж, ученые готовы спорить в самых неподходящих местах и в самое неподходящее время… Но это сейчас. А день-два назад и конструкторы, и опытнейшие летчики-испытатели, и ученые не спорили, а работали, все свои знания, весь свой опыт стараясь отдать только одному – полету Юрия Гагарина. Он как бы впитал в себя и мудрость и знания ученых, и талант конструкторов, и опыт летчиков-испытателей. Он это смог. Поэтому он и стал первым.
Вот в окружении молодежи стоит Михаил Клавдиевич Тихонравов – ветеран нашей ракетной техники, гирдовец, конструктор первых отечественных жидкостных ракет. Это беззаветный энтузиаст ракетной техники и космических полетов, человек неудержимой фантазии, не мыслящий без нее космической техники, Михаил Клавдиевич очень доволен. Сегодняшний день – день воплощения и его мечты. И для молодежи, пришедшей в ракетную технику всего несколько лет назад, он стал таким же днем. В группе медиков стоит Константин Давыдович, рядом с Борисом Ефимовичем – главные конструкторы радиосистем, систем управления, инженеры, испытатели. Разговор о корабле, о его приборах и, конечно, о Юрии.
Подходит Борис Викторович Раушенбах. Минуту слушает.
– Да это что, братцы. Интересно: смотрю я на своих коллег, и знаете – чья система работает вот в этот момент, стоит, не дышит. А как только кончила, вздыхает с облегчением – и скорее в сторонку.
– Да, очень интересно. Но скажите, уважаемый коллега, почему вы после работы вашей системы ориентации перекрестились?
– Ну, это вы бросьте…
– Да что бросьте. За другими-то вы смотрели…
Я отошел от них. Неподалеку стоят ребята, с которыми мы вместе были последние минуты на верхнем мостике. Вот Володя Морозов улыбается широкой, открытой улыбкой:
– Ну, ведущий, поздравляем! Подпугнули вы нас…
– Постой, постой, когда же, как?
– Да вот выходите вы, когда еще Юрий Алексеевич на орбите был, а губу так прикусили, аж кровь течет. Ну, думаем, что-нибудь случилось. А потом сказали: «Все нормально, скоро будем сажать!»
На крылечко «люкса» выходят Константин Николаевич, Мстислав Всеволодович, Сергей Павлович, его коллеги, члены комиссии. Шквал аплодисментов. Сергей Павлович быстро проходит через бетонку к своему маленькому домику, стоящему рядом с домиком, где семь часов назад проснулся Юрий. Да, всего семь часов назад мир еще ничего не знал. А что, наверное, творится во всех странах сейчас?
Из дверей появляется дежурный с листом бумаги в руках. Он что-то кричит. Слышу одну фамилию, другую, третью… «Феоктистов», «Галлай»… И вдруг – свою. Протолкавшись поближе, спрашиваю, что это за список.
– Срочно собирайтесь. Сергей Павлович приказал через десять минут быть в машине. Выезжайте на аэродром.
Собираться? Какие там сборы! Схватив первые попавшиеся на глаза вещи, выбегаю на улицу.
Быстро летят степные километры. Наш «газик», подпрыгивая на стыках бетонных плит, словно не может не лететь бешеной скоростью.
Вот последний шлагбаум, поворот, и мы въезжаем на летное поле. Наш «ил» уже прогревает моторы. Взлет. В самолете творится что-то необычное. Пожалуй, это наиболее странная картина в калейдоскопе событий последних суток. У председателя комиссии, Сергея Павловича, Мстислава Всеволодовича, Константина Давыдовича, солиднейших ученых, академиков, конструкторов вид студентов-первокурсников, сдавших последний экзамен. Только что не пускаются в пляс. Радостный, счастливый день!
– Ну, молодец же Юрий! – Сергей Павлович, до этого смеявшийся до слез по поводу какой-то шутки, Мстислава Всеволодовича, вытирая платком глаза, сел в свое кресло. – На днях подхожу я к нему – он спокойный, веселый, улыбается, сияет, как солнышко. «Что ты улыбаешься?» – спрашиваю. «Не знаю, Сергей Павлович, наверное, человек я такой несерьезный!» Я подумал: да… побольше бы на нашей Земле таких «несерьезных» было… А вот сегодня утром, когда он и Титов одевались в свои доспехи, приехал я к ним, спрашиваю Юрия: «Как настроение?» А он отвечает: «Отличное. А как у вас?» – посмотрел на меня внимательно и улыбаться перестал. Наверное, хорош вид у меня был! И говорит: «Сергей Павлович, да вы не беспокойтесь, все будет хорошо!» Самому до полета час, а меня успокаивает!
Сергей Павлович замолчал и, задумавшись, откинулся на спинку кресла. Закрыл руками глаза, потер виски.
– А знаете, товарищи, ведь этот полет, слушайте, откроет новые, невиданные перспективы науке. Вот полетят еще наши «Востоки» – Титов, Николаев. Славные ребята, должен вам сказать. А ведь потом… потом надо думать о создании на орбите постоянной обитаемой станции. И мне кажется, что в этом деле нельзя нам быть одинокими. Нужно международное сотрудничество ученых. Исследования, освоение космоса – это дело всех землян…
Через несколько часов под крылом самолета – Волга. Садимся. Мы знали уже, что Юрий чувствует себя после полета и приземления отлично и уже отдыхает. На четырех вертолетах вылетаем к месту посадки «Востока». Приземляемся на берегу одного из протоков. Чуть поодаль, на гребне довольно крутого откоса, стоит спускаемый аппарат. Он обугленный, растрепанный…
Сергей Павлович с руководителями и главными конструкторами подходит к кабине. Арвид Владимирович и Олег Петрович, прилетевшие к месту посадки немного раньше, в составе поисковой группы, наперебой рассказывают: «Жив, жив, здоров! Никаких повреждений! Ни у Юрия, ни у корабля! Оба в полном порядке. Тому и другому чуточку отдохнуть – и можно опять в космос!»
Все с большим вниманием осматривают аппарат и кабину. Улучив минутку, залезаю в люк. Действительно, все в порядке. Арвид Владимирович стоит рядом и, облокотясь о люк, со смехом рассказывает:
– Знаешь, мы еще из окна вертолета увидели, что все в порядке. Как только сели, помчались к аппарату со всех ног. В кабине еще работали приборы. И представь себе, в ней уже успел побывать механик местного колхоза. Он отрекомендовался нам, сказав, что во всем полностью разобрался и что впечатление у него от космической техники осталось хорошее. Тубу с пищей, правда, отдавал нам со слезами на глазах. Вообще пришлось провести по части сувениров большую воспитательную работу. Куски обгоревшей фольги и поролоновую обшивку внутри кабины ощипали! Ну что с этим можно поделать!
Конец разговора услышал Сергей Павлович.
– Так воспитательную работу, говоришь, старина, провести пришлось? «Восток» чуть на сувениры не разобрали? Это безобразие! Это черт знает что такое!
Но глаза его смеются, да и сам смеется легко, счастливо!
– Ну, ладно, механику сувенира вы не дали. Ну а мне, товарищам, может быть, что-нибудь дадите, а?
Кто-то говорит:
– Сергей Павлович! Вам – весь спускаемый аппарат!
– Нет, дорогие товарищи, – глаза его становятся серьезными. – Он теперь – история! Достояние всего человечества. Слушайте, ведь пройдет немного времени, и «Восток» будет установлен на высоком пьедестале на международной выставке, и люди будут шапки перед ним снимать! Он уже не наш теперь, друзья мои, он – история!
Накидываем на шар большой брезентовый чехол. Арвид Владимирович и еще несколько добровольных помощников забивают лом в центр неглубокой луночки, оставленной шаром при приземлении. На нем зубилом вырублено: «12.IV.61». Отходя от кабины, случайно замечаю на земле обгоревший болт. Поднимаю его. Сердце застучало. Ведь это болт от замка люка! Очевидно, когда крышку люка несли к кораблю, болт выпал и его никто не заметил. Драгоценнейшая реликвия! Она будет памятью о тех минутах тревоги, которые доставил мне этот люк на стартовой площадке.
Садимся на вертолеты. Через несколько минут на аэродроме в городе Энгельсе пересаживаемся на наш самолет. Летим в Куйбышев. Там Гагарин.
День кончился. Радостный, напряженный день. День, памятный на всю жизнь.
Утро 13 апреля разбудило меня в гостинице праздничной музыкой. По радио рассказывали биографию Юрия Гагарина. К 10 часам утра в домике на берегу Волги собрались все – Константин Николаевич, Сергей Павлович, Мстислав Всеволодович Келдыш, члены государственной комиссии, заместители Сергея Павловича, главные конструкторы, ученые, инженеры, испытатели, медики. Как хочется увидеть Юрия, пожать ему руку, увидеть его улыбку! Сергей Павлович вышел в боковую дверь, и тут же вместе с ним и Германом Титовым в гостиную входит он, Юрий. Такой же, как и вчера, но только не в скафандре, а в новенькой форме с майорскими погонами.
Не помню, что в тот момент было, кто и что говорил: для меня существовал только он один. Юрия сразу же окружили. Вопросы почти одинаковые: «Как ты себя чувствуешь?», «Какие замечания по работе моей системы?». Наконец мне удается подойти поближе. Юрий, увидев меня, с улыбкой протягивает обе руки:
– Ну, здравствуй, ведущий, здравствуй, «крестный»! Как себя чувствуешь?
– Здравствуй, Юра, здравствуй, дорогой! А почему ты меня спрашиваешь о самочувствии? Сегодня этот вопрос задают только тебе – меня он не касается!
– Положим, касается! Посмотрел бы ты на себя вчера, когда крышку люка открывал. По лицу все цвета побежалости ходили!
Протягиваю ему «Известия», купленные только что, перед встречей. Юрий вынимает ручку и рядом со своим портретом в летном шлеме пишет: «На память добрую и долгую». И ставит подпись, которую многие впервые увидали в те дни.
Государственная комиссия и гости собрались в небольшом зале. Наконец-то немного успокоились. Юрий очень подробно рассказывает о работе всех систем корабля, о своих впечатлениях, обо всем увиденном и пережитом в космосе. Слушаем затаив дыхание. Потом опять вопросы, вопросы, вопросы… Медики, ревниво оберегающие Юрия, стали наконец беспокоиться. Ведь ему предстояла еще одна встреча – с корреспондентами…
Сергей Павлович вынужден «подвести черту»:
– До встречи! До встречи в Москве!
Поданы машины. Уезжаем на аэродром. Взлет. Под крылом нашего «ила» проплывали какие-то деревушки, еще голые перелески. Подлетаем к Москве. Небо за правым бортом поднялось и ушло куда-то. Земля – во весь правый иллюминатор, а в левом – небо, яркое, солнечное, весеннее. Еще несколько виражей, и самолет заходит на посадку.
Внуково. Здание аэропорта празднично украшено. Цветы, кумач, голубизна. И портрет. С него глядит Юрий. Большой, улыбающийся. Праздник. Столица готовится к встрече героя.
Легко коснувшись посадочной дорожки, наш «ил» отруливает к дальней стоянке, подальше от парадных входов и цветов. Сергей Павлович, а за ним и мы спускаемся по приставной стремянке на бетонные плиты и, невольно стесняясь своей несезонной одежды, пробираемся к выходу.
Вот она, Москва! Многомиллионная семья, в которой мы, уставшие и счастливые, пропали, растворились до следующего утра.
А утром Киевское шоссе работало только в одну сторону: тысячи москвичей ехали во Внуково, чтобы увидеть человека, имя которого узнал весь мир.
Заключение
Вот что осталось в памяти о первых ступенях в космическое пространство, о начале той эпохи, которая получила название космической. Это не летопись событий, связанных с покорением космоса. Такая задача была бы непосильна для автора, и он не ставил ее перед собой.
Это – воспоминание лишь о небольшом периоде освоения космоса, начальном, когда автору посчастливилось принимать самое непосредственное участие в создании космических аппаратов и их запуске. За страницами этой книги остались десятилетия, насыщенные крупнейшими достижениями космонавтики.
Космический век. Космонавтика. Космос. Редкий день в мире проходит, чтобы на страницах газет, толстых и тонких журналов не мелькали эти слова. Пишут ученые, пишут инженеры, пишут журналисты (писатели пока только подходят к этой теме). Эпитеты в превосходной форме перенасыщают статьи журналистов. Деловой, строгий тон присущ ученым и инженерам. Статьи о космосе стали обыденными. Порой они увлекают наше воображение, отвлекают нас от чисто земных мыслей и забот.
Из нечто эфирно-неосязаемого космос, спутники, космонавты, космические полеты, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн превратились в столь же привычные понятия, как паровоз, автомобиль, шофер, пилот, перелет через Северный полюс, которые будоражили наших бабушек, дедушек.
Космос открыт, открыт ночью 4 октября 1957 года не очень-то солидными, но эпохально-важными «бип-бип-бип» нашего первого спутника. И нет сил, способных «закрыть» космос, отвлечь человечество от новых возможностей приобретения знаний, проникновения в мир таинственного, непознанного.
Прошла четверть века. И если спросить сейчас любого не очень молодого человека на Земле, будь то ученый или политик, инженер или философ, думал ли он, предполагал ли он двадцать пять лет назад, во что превратятся те первые «бип-бип»? Мог ли он знать, что не в романах, а в технических документах будут писать: «Спутник для исследования природных ресурсов», что пройдет еще какое-то время, и появится «Спутник для электроснабжения Земли» и т. п.? СССР, США, Франция, Индия, Япония, Англия… Кто мог предположить, что за истекшие годы в космическое пространство будут запущены тысячи космических объектов?
Кто знал, что в космос полетит человек, что он встретится один на один со Вселенной, что он выйдет из своей космической скорлупы-кабины и сможет еще глубже почувствовать свою силу и вместе с тем свою малость, слабость? Кто верил, что не только герой-одиночка, но и космические экипажи будут опоясывать Землю эллипсами орбит? Что на космической орбите встретятся два корабля, советский и американский, и их экипажи крепко пожмут друг другу руки? Что на космическую станцию, летающую вокруг Земли уже несколько лет, будут прилетать, сменяя друг друга, не только советские, но и международные экипажи? Что космические вахты наших славных героев станут дольше гагаринской в 2700 раз (полтора часа и полгода)? Что посланец советских людей достигнет поверхности Венеры и оттуда, при температуре плавления свинца и цинка и давлении, как на километровой глубине в океане, передаст уникальные телевизионные кадры таинственного мира чужой планеты? Что американские станции пролетят между кольцами Сатурна?
Кто отважился бы утверждать, что человек глазами, не вооруженными очками телескопов, увидит под собой лунную поверхность, спустится на нее, оставит на ее миллиарднолетней пыли свой след? Что он будет держать в руках лунный камень и, затаив дыхание, исследовать его возраст и состав? Что созданные человеком автоматы умчатся от Земли на такие расстояния, в которые легче поверить, чем их представить, и оттуда, за сотни миллионов километров, откуда свет и радиоволны идут многие десятки минут, станут сообщать своим создателям все, что они видят и чувствуют?
Что в технических журналах можно будет прочесть: «Космический аппарат „Пионер-10“ стартовал с космодрома в США 3 марта 1972 года; в декабре 1973 года он облетел Юпитер, в феврале 1976 года пересек орбиту Сатурна, в 1979 году пересек орбиту Урана, а в 1987 году пересечет орбиту Плутона (в 6 миллиардах километров от Земли! – А. И.). Потом „Пионер-10“ выйдет за пределы Солнечной системы и направится к „красному гиганту“ – звезде Альдебаран в созвездии Тельца. Окрестностей этой звезды он достигнет через 2 миллиона лет»?!
Мало того, что Земля опутается сетью всевозможных орбит своих спутников. Приобретут искусственные спутники Луна, Марс, Венера… Кто верил в это? Кто знал это наверняка? Никто.
Была фантастика. Потом были планы – планы реальные, планы сомнительные. Прошло всего четверть века. И вот все это совершено. Таков космический взлет Человека.
А что дальше? Реальнее, ощутимее ли дальнейшие пути? И да и нет. Есть в космонавтике четкие задачи и реальные пути их решения. Все больше и больше используется околоземный космос. Он начал работать на землян.
Раньше других практическое применение нашли космические средства связи. Наш век помимо прочего характеризуется стремительно растущим потоком информации во всех сферах, во всех областях человеческой деятельности. Естественно, необходимо совершенствовать возможности обмена этой информацией, иными словами, совершенствовать линии связи, и прежде всего линии межконтинентальные.
Вот несколько любопытных цифр. Ежедневно в мире происходит более миллиарда телефонных переговоров (из них более 10 миллионов – междугородные и более 50 тысяч – межконтинентальные). Ежегодно объем информации, передаваемой через Атлантический океан, возрастает на 20 процентов. Дальнейшее совершенствование традиционных видов связи не так просто ввиду трудностей технических и экономических. Поэтому не случайно бурное развитие приобрела связь с помощью искусственных спутников Земли.
Первый спутник связи в СССР «Молния-1» был запущен в апреле 1965 года. Он обеспечил многоканальную телефонно-телеграфную и фототелеграфную связь и ретрансляцию черно-белого и цветного телевизионного изображения. В настоящее время помимо «Молний» в нашей стране успешно применяются спутники связи и телевизионного вещания «Радуга», «Экран», «Горизонт». За рубежом используются спутники связи типа «Интелсат», «Домсат» (США) и «Телесат» (Канада).
Но спутники связи, сколь бы совершенны они ни были, решить проблему передачи информации без соответствующих наземных приемопередающих средств не могут. Эти средства создаются одновременно со спутниками связи. В 1967 году в Советском Союзе начала действовать наземная сеть станций «Орбита». Сейчас таких станций в СССР около ста. Благодаря этому население почти всех республик, краев и областей страны одновременно с Москвой может смотреть передачи Центрального телевидения.
Для прокладки курса корабля или самолета необходимо прежде всего возможно более точно определить их местоположение в момент времени. С развитием межконтинентальных перелетов и океанских рейсов эта задача становится все более актуальной. Существуют традиционные средства навигации, использующие в качестве ориентиров небесные светила. Наземными радионавигационными средствами служат радиомаяки. Магнитные средства базируются на ориентации магнитных силовых линий Земли. С появлением искусственных спутников Земли возникла возможность применять их для тех же целей, но при одном условии – должны быть с большой точностью известны координаты самого спутника, что при современном развитии космонавтики и наземных средств связи вполне выполнимо.
Как показал опыт, с помощью спутников можно определять местоположение неподвижного объекта с точностью 20–30 метров. Изыскиваются пути повышения этой точности. Космическая навигация не только обеспечивает безопасность мореплавания и воздухоплавания в любое время суток и при любой погоде, но и позволяет сокращать время нахождения морского и воздушного судна в пути.
Рядом с задачами навигации стоят и задачи геодезии – науки об измерении Земли. Значительное расширение зоны видимости поверхности Земли со спутника существенно упростило решение геодезических проблем. Повысилась точность определения расстояний между материками, архипелагами, островами. Космическая геодезия позволила уточнить форму Земли, точно определить координаты пунктов на поверхности планеты, создать топографические карты районов земной поверхности, определить параметры поля земного тяготения.
«По данным Гидрометцентра СССР, завтра на европейской части Советского Союза ожидается…» Эти ставшие уже привычными фразы, произносимые диктором радио, порой вызывают улыбку: «Вот, обещали ясную погоду, а за окном – дождь…» Специалисты установили, что в мире из двенадцати месячных прогнозов погоды оправдываются в среднем лишь восемь. Почему? Несмотря на опыт, накопленный за последние десятилетия, на совершенствование способов и средств изучения и использования сведений метеорологического характера, глобальные атмосферные процессы и их связь с «кухнями погоды» – океанами, солнечной активностью и другими факторами – остаются еще далеко не познанными.
Космические средства позволяют вести глобальные наблюдения земной поверхности и околоземного пространства, в том числе тех районов, которые недоступны для других средств. Длительность исследований может быть сколь угодно большой при любых климатических условиях. Эти преимущества делают космические средства во многих случаях эффективнее и рентабельнее наземных. Традиционные средства получения метеорологической информации – это наземная сеть специальных станций. Их на Земле несколько тысяч. Если учесть, что 71 процент земной поверхности занимают моря и океаны, а на остальных 29 процентах огромные районы заняты пустынями, горами, джунглями, где вряд ли возможно размещение метеостанций, то становится понятно, что эти несколько тысяч станций вряд ли способны дать полностью всю необходимую для достоверного прогноза погоды информацию.
Искусственные спутники Земли предоставили возможность более глубокого проникновения в особенности атмосферных процессов нашей планеты, получения снимков облачных полей, выявления мест и характера развития циклонов, ураганов, профиля вертикального распределения температур, верхней границы облаков и ряда других данных. Использование космической метеосистемы дает весьма ощутимый экономический эффект. Американские специалисты подсчитали, что в год для всех стран он составляет ни мало ни много 60 миллиардов долларов! Прогнозы гидрометслужбы СССР, для которых используется космическая система «Метеор», по далеко не полным данным, позволяют ежегодно сохранять материальные ценности на сумму 500–700 миллионов рублей. Системой «Метеор» были зарегистрированы многочисленные циклоны, уточнены десятки тысяч атмосферных фронтов, что позволило существенно повысить надежность оперативных и долгосрочных прогнозов погоды.
Наверное, ни у кого не вызывает сомнения острота проблемы изучения природных ресурсов, оценки их запасов, возможностей их сохранения или восстановления, задач охраны окружающей среды, животного мира, борьбы с загрязнениями почвы, воздуха, водоемов, контроля за состоянием и рациональным использованием лесных массивов, воды и т. п.
И здесь неоценимую услугу оказывает космическая техника. Ее применение для изучения, контроля и рационального использования природных ресурсов позволило по-новому решать многие задачи. Вот далеко не полный перечень заявок, выполнявшихся спутниками «Метеор», кораблями «Союз», орбитальными станциями «Салют», американскими станциями «Скайлеб» и спутниками «Ландсат».
В области геологии: выявление месторождений полезных ископаемых, перспективных районов добычи нефти, газа, угля, картографическая подготовка территорий крупных строительств, оценка сейсмической и вулканической деятельности и т. д.
В области гидрологии: выявление местонахождения водных источников и оценка запасов пресной воды, контроль и прогнозирование паводков и наводнений, определение районов, которым угрожает стихийное бедствие, и т. д.
В области океанологии, океанографии, рыболовства: прогнозирование явлений, влияющих на судоходство и представляющих опасность для прибрежных районов, определение характера волнений водных поверхностей, ледовой обстановки в высоких широтах, образования и движения айсбергов и т. д.
В области биосферы и охраны окружающей среды: оценка загрязненности воды и воздуха, контроль за сбросом сточных вод, миграцией диких животных и т. д.
В области сельского и лесного хозяйства, землеведения и мелиорации: оперативная оценка стадий развития, степени зрелости и урожайности культур, выявление зараженности отдельных участков полей и лесов вредителями, планирование вырубок и посадок леса, обнаружение лесных пожаров, выявление заболоченности, оценка состояния пастбищ и т. д.
На бóльшую часть заданных вопросов космическая техника дала исчерпывающие ответы. В некоторых случаях они были неожиданными. Так, фотографии и визуальные наблюдения, сделанные с борта космических кораблей их экипажами, предоставили геологам совершенно новый материал, который заставил пересмотреть взгляды на строение, возраст и положение крупных складчатых систем в районах древних геологических щитов и платформ, на региональные и глубинные разломы земной коры, океанские впадины и вулканические зоны.
В одном из старых нефтедобывающих районов нашей страны за шестьдесят лет было обнаружено 102 перспективных участка. А обработка космических фотографий выявила 84 новых участка, содержащих нефть, что было подтверждено геофизическими данными и бурением. С помощью станции «Салют-4» обнаружены запасы пресной воды в пустынной местности. Феноменальные наблюдения проведены над океаном. Они выявили своеобразную ступенчатость уровня воды в океане, сводовые поднятия воды типа куполов диаметром около 200 километров, валы шириной около 5 километров и длиной в сотни километров – то, чего пока наука объяснить не может.
Исследование и разработка мер по рациональному использованию природных ресурсов с помощью космических систем – новая перспективная область научной и практической деятельности. В последние годы, после проведения ряда успешных экспериментов на космических кораблях «Союз» и орбитальных станциях «Салют», наметилось весьма перспективное направление космической деятельности – создание в космосе лабораторий, а в будущем, может быть, и специальных цехов, выпускающих продукцию, которую невозможно или очень трудно производить на Земле.








