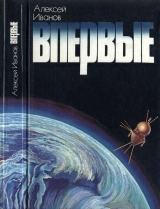
Текст книги "Впервые. Записки ведущего конструктора"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанр:
Астрономия и Космос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
– Сергей Павлович, что это? – недоуменно пробормотал я.
– А ничего особенного! Вот винодел-француз какой-то, говорят, в Париже пари держал, обещал поставить тысячу бутылок вина из своих погребов тому, кто на обратную сторону Луны заглянет. Недели две, что ли, назад в Москву, в академию, посылка пришла. Ровно тысяча бутылок. Проиграл мусье! Так что вот, тысяча не тысяча, а две бутылки твои. С Новым годом!
Лунная трилогия… Так названа эта часть книги. Первые тропы отечественной космонавтики к Луне. Первые шаги. Прошло двадцать с небольшим лет, и первые тропинки превратились в космические магистрали. За эти годы к Луне стартовало 30 советских и 25 американских автоматических станций, девять американских пилотируемых кораблей.
31 января 1966 года в Советском Союзе стартовала космическая ракета с автоматической станцией «Луна-9». 3 февраля в 21 час 45 минут впервые в мире «Луна-9» мягко опустилась на поверхность Океана Бурь. Ее телевизионный глаз передал на Землю панораму участка лунной поверхности с такими подробностями, какие были бы недоступны невооруженному человеческому глазу с расстояния один метр. Впервые был получен и ответ на вопрос: «Твердь или не твердь Луна?» Станция не утонула в миллиарднолетней лунной пыли.
31 марта того же года стартовала «Луна-10», впервые ставшая искусственным спутником Луны, положив начало исследованиям окололунного пространства и поверхности Луны с орбиты. Последующие лунные спутники – как советские, так и американские – позволили исследовать всю невидимую с Земли сторону Луны, получить материалы для создания полных карт Луны и ее глобуса, а также целый ряд уникальных данных о химическом составе Луны, структуре ее поверхности, гравитационных аномалиях.
Международное правило предусматривает особый порядок присвоения названий образованиям, открытым на небесных телах. Луна служит хранилищем имен выдающихся представителей рода человеческого всех времен и народов. Ее обратная, невидимая с Земли, сторона, естественно, предоставила дополнительное и весьма обширное поле для новых названий. Теперь на Луне есть кроме уже упомянутых кратеры Королев, Вернадский, Курчатов, Менделеев, Лобачевский, Бабакин…
20 сентября 1970 года в Море Изобилия опустилась автоматическая станция «Луна-16». На ней было установлено буровое устройство, которое позволило автоматически взять образцы лунного грунта и передать их возвращаемому аппарату специальной ракеты «Луна – Земля», которая, стартовав с Луны 24 сентября, возвратилась на Землю, доставив сюда кусочек натуральной Луны. А 17 ноября того же года на поверхность Луны, в Море Дождей, был доставлен самоходный дистанционно управляемый аппарат – луноход. В течение десяти месяцев с его помощью велись подробнейшие исследования интересного района Луны. Затем последовали второй луноход, прошедший по лунному бездорожью чуть ли не 40 километров, автоматические станции «Луна-20» и «Луна-24», продолжившие работу «Луны-16», серия лунных спутников.
Июль 1969 года. Человек на Луне! До сих пор такое происходило лишь в произведениях писателей-фантастов. 16 июля трое американских астронавтов заняли свои места в корабле «Аполлон-11». Пуск ракеты «Сатурн-5» был произведен с космодрома имени Кеннеди. 21 июля в 5 часов 56 минут на поверхность Луны впервые ступил человек – Нейл Армстронг, а в 6 часов 16 минут к нему присоединился Эдвин Олдрин. В 20 часов 54 минуты того же дня корабль стартовал с поверхности Луны и 24 июля в 19 часов 50 минут успешно приводнился в Тихом океане.
Человек увидел и ощутил мир далекого небесного тела. Это ли не фантастика сегодняшних дней? Это ли не достойное продолжение первых троп, проложенных в конце пятидесятых годов лунными посланцами, созданными гением советского человека?
Поехали!
…Рассвет. Еще не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»…
А он уже летит через созвездия.
Земля проснется с именем его.
К. Симонов
По дороге к «Востоку»
«В течение последних лет в Советском Союзе проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке полета человека в космическое пространство».
(Из сообщения ТАСС 16 мая 1960 года)
Три года. Три спутника Земли, три лунные ракеты. Многие задачи в изучении Вселенной могли теперь решаться новыми средствами. Но вместе с тем становилось ясным, и вся история свидетельствовала о том, что человек должен получить возможность прямого контакта с новой для него средой – космической.
Оторваться от Земли… Исстари человек мечтал об этом, наблюдая полет птиц. Конечно, не о космосе думал он в такие минуты, о нем он ничего не знал. Просто летать, летать, как птица. Легенды, мифы, фантастика… Писали, мечтали, думали… На смену желаниям летать «аки птицы» пришли желания полететь на Луну.
Не говоря здесь о сочинениях Плутарха и Лукиана, в которых описываются лунные путешествия, упомянем об Иоганне Кеплере. Его имя более знакомо нам как имя знаменитого астронома, открывшего законы движения планет Солнечной системы. Мало кому известна его повесть «Сон», написанная в 1609 году. Его «космонавт» попадает на Луну, правда, с помощью демонических сил. Но автору удалось в какой-то мере предвидеть сложности космического полета из-за воздействия на организм человека перегрузок и космического вакуума. Средства, которые были им предложены для борьбы с этими неприятностями, вряд ли могут быть отнесены к «гениальному предвидению». Он предлагал во время путешествия на Луну закрывать рот и нос влажной губкой…
Извечно стремление человека к познанию неизведанного. И в космос его тянул, по всей вероятности, инстинкт исследования нового. Сам человек должен был составить и необходимую часть нового исследовательского комплекса – космического. Ведь ни один прибор, ни один автомат нельзя наделить теми качествами, которыми обладает живой человеческий мозг. Человек способен приспосабливаться к наисложнейшим условиям. При этом он может использовать весь свой богатейший жизненный опыт и знания, может совершать ошибки, но может их и исправлять. А автомат?..
О предстоящем выходе человека в космическое пространство писали, об этом говорили не фантасты и историки, роющиеся в пожелтевших страницах, а ученые, усвоившие весь научный опыт XX века. Кто-то считал это задачей текущего дня, кто-то полагал, что полет человека в космос возможен через несколько лет.
– Зайдите немедленно ко мне! – эти слова Главного по диспетчерскому циркуляру многих сорвали с рабочих мест.
В кабинете собрались руководители конструкторского бюро и завода, секретарь парткома, председатель завкома, секретарь комитета комсомола. Сергей Павлович был в черном костюме, с Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. Значит, приехал с совещания «в верхах».
– Здравствуйте, товарищи! Так экстренно собрал я вас вот по какому вопросу. Я только что вернулся из Центрального Комитета партии. Там очень интересуются ходом создания космического аппарата для полета человека. Все мы должны ясно себе представлять, какое доверие нам оказывается. Прошу моих заместителей, всех руководителей отделов и завода, а также общественных организаций самым тщательным образом продумать, как нам организовать работу…
Решавшаяся в нашем конструкторском бюро задача была чрезвычайно сложна своей новизной и необычайностью. И опять советоваться было не с кем – подобного никто и нигде не делал. Проектировался космический корабль-спутник для полета человека.
Попытаться описать более или менее подробно процесс рождения космического корабля: расчеты, проектирование, конструирование, изготовление, испытания – в небольшой книжке – безнадежное дело. Пожалуй, трудно даже перечислить названия всех тех специальностей, представители которых сообща создавали космический корабль – от ученого-теоретика до слесаря-монтажника.
Теперь о космических кораблях с человеком на борту написано много разных книг, курсы их проектирования читаются студентам в институтах. Здесь же – только короткий рассказ, фрагменты создания первых кораблей-спутников, то, что осталось в памяти из тех лет.
В 1960 году была создана ракета-носитель, способная вывести на орбиту аппарат весом более 4 тонн. Эти 4 тысячи килограммов стали для проектантов первыми «исходными данными». Расчеты показали, что космический корабль, предназначенный для полета человека и возвращения его на Землю, может «уложиться» в такой вес.
Летать можно по-разному. Можно взлететь вертикально на ракете, как не раз летали животные. И тоже будет космос, и тоже будут условия невесомости, правда, на очень короткое время. Может быть, остановиться на баллистическом полете по траектории обычного ракетного снаряда, рассчитанном минут на пятнадцать – двадцать? Сторонники таких полетов были, и их оказалось немало. Но Сергей Павлович с присущей ему настойчивостью вместе со своими единомышленниками всю свою энергию употребил на то, чтобы доказать, что только орбитальный полет человека будет действительно космическим полетом и что для этого у советской космонавтики есть все возможности.
Для начала проектанты располагали немногим. Правда, им было дано время, но не годы! У них было большое желание сделать проект как можно лучше. Им могла быть обещана в преподнесена куча неприятностей за то, что предложенное ими окажется неоптимальным или оптимальным, но невыполнимым «по таким-то и таким-то соображениям», или… Да мало ли этих «или».
В проектном отделе на кульманах можно было увидеть несколько разных вариантов будущей конструкции. Да, пока несколько. Что в основном отличало новый проект от всех предыдущих проектов космических аппаратов? Прежде всего то, что аппарат предназначался для полета человека, поэтому он и стал называться кораблем. А раз так, то или весь корабль, или его часть должны были возвратиться из космоса на Землю. Если это часть, то в ней должна быть кабина для космонавта.
Предварительные прикидки со всей очевидностью показали, что спускать с орбиты на Землю весь корабль нецелесообразно. Та его часть, которая должна была возвратиться на Землю, получила достаточно прозаическое, но функционально точное название – спускаемый аппарат. Спуск – это ответственнейший этап полета, его финал, его завершение. Только две цифры для того, чтобы чуть представить себе сложность проблемы. Скорость корабля на орбите – около 8 тысяч метров в секунду. С какой вертикальной скоростью надо подойти к Земле, чтобы сесть благополучно? Никак не больше 8–10 метров в секунду. Итак, задача: уменьшить скорость с 8 тысяч метров в секунду до 8 метров в секунду – в тысячу раз!
Как тормозить, чем тормозить? Можно двигателем. Но выгодно ли? Вряд ли – потребуется очень много топлива. Можно использовать земную атмосферу, аэродинамические силы лобового сопротивления. Но при этом неизбежны перегрузка и сильнейший разогрев поверхности за счет трения о набегающий воздух. А торможение должно быть плавным, постепенным. Каждый хорошо знает, сколь неприятно резкое торможение в автомобиле, автобусе, троллейбусе. И это при скорости около 20 метров в секунду. Каково же будет человеку в спускаемом аппарате? Затормозив, автомобиль проходит каких-нибудь 10–15 метров, а космическому кораблю нужно на торможение около 10 тысяч километров.
Немалую роль играла и форма спускаемого аппарата: разные по форме тела испытывают и разное воздействие среды, в которой они перемещаются. При движении в атмосфере аппарат должен сохранять определенное положение. Значит, надо иметь какие-то средства, чтобы это положение поддерживать: стабилизаторы, рули или другие органы управления.
Но есть форма, равно переносящая воздействие атмосферы при любом положении, – шар. Его движение в атмосфере хорошо изучено, он не обладает так называемым аэродинамическим качеством, то есть не может создавать подъемной силы, он движется по законам баллистики, падает на Землю по вполне определенному пути, может не иметь органов управления и т. д. Именно это предложение проектантов и было принято Сергеем Павловичем: форма спускаемого аппарата – шар, спуск – по баллистической кривой.
Способ прохождения через атмосферу был выбран. Но как быть с посадкой? Конечно, «падая с неба», аппарат не может подойти к Земле сам со скоростью 8 метров в секунду. Спуск в атмосфере проще и надежнее проводить на парашюте километров с восьми от Земли.
Итак, спускаемый аппарат – шар. Хорошо бы поместить в нем все необходимое, тогда бы корабль состоял из одного шара, и все. Но анализ показывал, что это нерационально. Большая часть систем корабля закончит свою работу еще на орбите. Все эти системы лучше сгруппировать вместе в одном отсеке и перед спуском с орбиты отбросить его. Так в компоновке появился приборный отсек – вторая часть корабля.
Но еще многое было неясно, многое не решалось, еще не было ответа на кучу вопросов. А время шло, неумолимо шло. Его оставалось все меньше и меньше до установленного графиком срока окончания проектных работ. Вспомнились мне сейчас слова Бориса Викторовича Раушенбаха. Как-то он писал: «Да что греха таить, ведь в нашем деле зачастую кажется, что ставится задача, казалось бы, совершенно немыслимая. Но начинается массовая генерация идей думающих, как мы говорим, инженеров. Первая их реакция обычно такова: „Чушь, ерунда, сделать невозможно“. Через день кто-то говорит: „Почему же, сделать можно, только все равно ничего не получится“. Следующий этап: имеется двадцать предложений, причем самых диких, основанных на невероятных предположениях. Например: „Вот я слышал, будто в одном институте Ленинграда есть один человек, который эту вещь видел или что-то про нее читал…“ Начинаются споры, взаимные упреки, часто сами авторы хохочут вместе с оппонентами над собственными рухнувшими идеями. В конце концов остаются два варианта. Их долго и упорно прорабатывают, подсчитывают, вычерчивают. Потом остается один. А потом выясняется, что и это не тот вариант, который нужен. И все начинается сначала, пока не получится оптимальное решение, отвечающее задаче. Эти творческие поиски лишь начало работы. А дальше неизбежный процесс доводки отдельных элементов конструкции и составление документации – то, что называется черновой работой. В ряде случаев она заставляет пересматривать и первоначальные идеи. Тогда разработчики злятся и проклинают тот день и час, когда они связались с космосом. Но не верьте им. Они любят свое дело так, что их до ночи не прогонишь с рабочего места…» Очень точно.
Шли рабочие дни, вечера, прихватывались и ночи. Искалось наилучшее решение. Но ведь, ко всему прочему, проектанты не имели права ни на минуту забывать, что конец (да конец ли?) их работы – это начало работы конструкторов, а потом рабочих в цехах завода, превращающих идеи в металл, приборы, механизмы. Окончится изготовление, так сейчас же начнутся напряженные дни и бессонные ночи испытателей. А затем – космодром…
Все это проектантам нужно было помнить, все их волновало. Как назло, в приборном отсеке не размещалось четыре прибора, не очень гладко получилось с тепловым режимом тормозной двигательной установки. А тут еще выяснилось, что для аккумуляторных батарей требуется веса в полтора раза больше отведенного, а никакого свободного объема нет. И все надо менять, и нужно другое решение. Но какое? Что лучше – упрятать тормозную двигательную установку на две трети в приборный отсек, тем создав для нее приемлемый температурный режим, или расположить ее открыто, на раме, выиграв в весе? В последнем случае выгадывается и дополнительный объем, в котором можно разместить непомещающиеся приборы и аккумуляторы. Да и приборный отсек станет более простым по форме. Такому отсеку обрадуются и конструкторы, и заводские технологи (не далее как вчера они заходили, морщили носы по поводу «аховой» технологичности предлагаемой конструкции).
А сколько еще проблем, мешающих спокойно спать руководителям проектного отдела! Радиоприемники и передатчики выгодно располагать ближе к антеннам, хотя это далеко не всегда удается сделать. Да и два десятка антенн надо разместить так, чтобы ни одна из них не мешала другой. Нельзя располагать приборы, выделяющие много тепла, слишком близко один к другому, чтобы не образовалось «горячих мест», опасных для теплочувствительных приборов.
Как создать систему терморегулирования, которая обеспечила бы для приборов температуру, ну, скажем, от 0 до +50 градусов, а в кабине космонавта – комнатную? Еще не продумано соединение спускаемого аппарата с приборным отсеком. А ведь соединять надо так, чтобы на орбите они были как одно целое, а по специальной команде могли бы мгновенно разделиться, превратиться в две самостоятельные работоспособные части. И не найден еще способ защиты спускаемого аппарата от разрушительного воздействия атмосферы при спуске, чтобы не сгорел он, как метеор. А из чего сделать иллюминаторы, чтобы они были прозрачны, прочны, герметичны и выдерживали колоссальный нагрев при спуске?
Да разве можно перечислить все «как?», «что?», «где?», «из чего?», которые постоянно преследовали инженеров-проектантов? Преследовали и требовали четкого, определенного решения. И ничего нельзя было отложить на потом, ибо это «потом» могло попросту развалить весь выстраданный проект.
Сергей Павлович вошел в кабинет начальника проектного отдела, как всегда, быстро и энергично поздоровался, снял пальто, повесил шляпу на изогнутый рог вешалки.
– Ну-ка, друзья мои, показывайте, на чем расползлись? И когда это кончится? Понимаете ли вы, что мы больше не можем ждать, когда вы утрясете свои противоречия? Или думаете, что вам позволительно будет еще месяц играть в варианты?
Проектанты, вызванные специально для разговора с Главным, молчали.
– Показывайте. Я в основном ваши предложения знаю. Давайте-ка вместе еще разок посмотрим. Кто будет докладывать? Вы, Евгений Федорович?
Через три часа решение было принято. Варианты кончились. В конце разговора, уже надевая пальто, Сергей Павлович повернулся в нашу сторону:
– Слушайте, вы знаете, как в Центральном Комитете интересуются нашей работой? Нас с президентом академии секретарь ЦК очень подробно расспрашивал о ходе проектирования «Востока», потом сказал, что как-нибудь на днях заедет посмотреть, как идут дела. Мы, правда, – Главный улыбнулся, – просили приехать попозже, когда будет готов корабль, но наша «мысль» поддержки не получила. Так что теперь держитесь! – И, кивнув нам, он вышел из кабинета.
За две недели все приборы, системы, агрегаты, механизмы разместились на бумаге. Затем начались «дипломатические переговоры» со смежными институтами, КБ и заводами. Они не всегда шли гладко, и тогда в ход пускалась «тяжелая артиллерия» – заместители, а в особых случаях и сам Главный.
Постепенно стороны приходили к согласию. Правда, потом у какого-нибудь стола можно было услышать примерно такой разговор:
– Вот видишь, уважаемый Николай Николаевич, а ты говорил, что в двадцать семь килограммов уложиться нельзя. Просил тридцать два! А что теперь скажешь? – поблескивая стеклами очков, допытывался конструктор.
– А то и скажу, уважаемый Евгений Александрович, что уж больно лихо у вас получается – запланировать двадцать семь! Кто же такой прибор уложит в двадцать семь? Да если бы не вчерашний разговор, не видать бы тебе моего согласия. Только зачем вы сразу СП нажаловались?
– А мы и не жаловались. Вот ей-богу, о тебе, дорогой, и разговора не было. Он зашел, но интересовался совсем другими делами, а твой вопрос вчера был решен, очевидно, так, попутно.
– Да, мастер ты оправдываться… А вообще-то, зря. Что-нибудь мы бы и сами придумали…
– Вот видишь, а теперь и придумывать ничего не надо. Все уже решено, двадцать семь кил – и привет!
Помимо компоновки не менее важна и другая часть проектирования. Как, в какой последовательности оборудование корабля должно работать, когда и на какое время должен быть включен тот или иной прибор, та или иная система? Следовало продумать так называемую логику работы – составить временную программу. Теперь проектантам помогали прибористы, радисты, управленцы, двигателисты, энергетики, оптики, баллистики, но вздохнуть все равно было некогда.
Но и это еще не все. Надо было разработать порядок предварительных испытаний отдельных узлов, частей корабля, его систем и установок. Задолго до первого корабля, предназначенного для полета, нужно было изготовить чуть не десяток его собратьев, в лабораториях и на полигонах испытать их отсеки и системы.
Из широкого окна приемной на втором этаже конструкторского корпуса было видно, как к подъезду подходили «зимы» и «Волги». Съезд гостей – главных конструкторов систем ракеты-носителя и корабля. Приехали товарищи из Совета Министров СССР, из Академии наук СССР, руководители ведомств.
В приемной становилось тесновато. Кое-кто прошел прямо в кабинет. Пока не началось совещание, здесь, в приемной, шел разговор о технике, о пусках, о взаимных претензиях, о рыбалке. У окна смех, кто-то выдал новый анекдот.
На столе у Антонины Алексеевны резко прогудел зуммер. Она сняла трубку внутреннего телефона:
– Слушаю, Сергей Павлович! Хорошо, Сергей Павлович. – И, положив трубку: – Товарищи, Сергей Павлович просит в кабинет!
За длинным полированным столом всем не разместиться. Рассаживались и вдоль стен.
– Все собрались или не приехал кто-нибудь? – окинул взглядом рассаживающихся Сергей Павлович. – Василий Федорович звонил, сказал, что несколько задержится. Послушайте – ему ехать, видите ли, далеко. – И, улыбнувшись: – Вот объявим ему выговор, больше не будет задерживаться. Так что – начнем, товарищи?
– Конечно, надо начинать!
– Мы условились прошлый раз, что сегодня соберемся для обсуждения плана летных испытаний «Востока» – так мы предлагаем назвать космический корабль-спутник для полета человека.
В этот момент тихонько открылась дверь и в кабинет с весьма виноватым видом протиснулся Василий Федорович – главный конструктор радиотелеметрических систем. Сергей Павлович посмотрел на него с укоризной – три минуты! – и подошел к большой, занимавшей почти полстены, доске.
– Всем хорошо видно? Николай Александрович, ты бы пересел вот сюда. Там, я боюсь, тебя продует, да и видно оттуда плохо!
– Ладно, ладно, Сергей, – проворчал его давнишний соратник по ракетным делам.
– Вот на этом плакате мы изобразили все предлагаемые этапы летных испытаний «Востока»…
Да, «Восток» проектировался для орбитального полета с человеком на борту. Но можно ли было на первом корабле лететь человеку? Космическая техника развивалась не по авиационному пути. Человек летает уже за полвека, а в космосе еще никто не бывал. Новый самолет после всевозможных испытаний на земле передается в руки летчиков-испытателей, которые все свое уменье и опыт вкладывают в отработку, доводку машины, изучая ее поведение в воздухе. Космонавтов на нашей старушке планете не было. Никто из людей еще не поднимался в космическое пространство, никто не испытывал на себе невесомости, никто не только не летал на космическом корабле, но и не видел его!
Корабль проектировался. И никто не мог сказать, сумеет ли человек, каким бы он ни был сильным и опытным, проявить свои способности и выучку, оказавшись один на один с незнакомым космическим пространством. Нет, первый полет корабля должен быть без человека и с тщательной проверкой всех основных систем. Корабль должен уметь ориентироваться, а это значит, что в невесомости, где нет понятий «верх» и «низ», нет поддерживающего аппарат воздуха, при скорости 28 тысяч километров в час корабль должен «понять» свое положение в пространстве, а «поняв», суметь изменить его на такое, какое ему предпишут.
Управленцы предложили создать систему ориентации на принципе слежения за тепловым горизонтом Земли. Но что представляет собой тепловой горизонт, каковы его границы? Для получения ответа извольте подняться в космос и оттуда пощупать, померить. Да не в одном месте, а вокруг всего земного шара. Такова одна из главных задач.
Другая задача – двигатель. Но не для того, чтобы двигать, а наоборот – для противодействия движению, для торможения. Его и назвали ТДУ – тормозная двигательная установка. Это должен быть небольшой ракетный двигатель со всеми атрибутами своих собратьев, существенно более внушительных размеров и способностей. ТДУ – ответственнейшая вещь. Она обязана быть безотказной. Она одна. Она не дублирована. Ее не проверишь раз, два, пять на заводе, на технической позиции, на старте, в полете. Она разовая. Ей работать только в конце полета, перед снижением.
Замечательные люди создали эту установку. Замечательный человек руководил коллективом талантливых конструкторов, производственников, испытателей-огневиков. Ведь ракетный двигатель – это всегда огонь, всегда пламя. Огонь – стихия, а здесь – стихия, подчиненная воле человека. Главный конструктор Алексей Михайлович Исаев. Мне довелось видеть его много раз. Разговаривал я с ним не часто, вместе работать не пришлось. Не могу похвастаться, что я хорошо знал этого человека. Больше слышал о нем. Желание познакомиться ближе сдерживал – все неудобно как-то, как-нибудь попозже, когда не так занят будет. Словно он мог быть меньше занят.
Не буду писать об этом удивительном человеке. Это право тех, кто ближе к нему, кто трудился с ним. Скажу только, что его очень ценил, безмерно уважал и любил Сергей Павлович. Они были знакомы долгие годы, работали бок о бок. И не мог Королев не привлечь Исаева к своим космическим делам. Не мог и Исаев не войти в семью главных, создававших советский космос. Первой в его жизни, в жизни его конструкторского бюро космической поэмой была ТДУ для «Востока». Как-то, уже после полета Юрия Гагарина, на одном из больших правительственных приемов Сергей Павлович, с доброй улыбкой представляя Исаева кому-то из руководства, сказал: «А это Исаев, который „тормозит“ все наше дело».
Они были очень разные – Королев и Исаев. По-разному они жили, по-разному работали, но одинаково относились к делу, к долгу, к мечте, к будущему. К тому, чему оба посвятили свои жизни. И люди у Исаева в КБ подбирались такие, и атмосфера была такая, что делу отдавалось все. Исаева очень любили. Он никогда не давил, не кричал, хотя и был взрывным. Терпеть не мог расхлябанности, бездарности. Считал, что за дело должны отвечать каждый и все. Спрашивал строго, но перед начальством никогда не выставлял чьей-то вины, все брал на себя.
Я помню его очень незаметным, очень тихим, сидящим на больших и малых совещаниях и заседаниях всегда в последних рядах, в уголочке. Редко выступал, не бил себя в грудь кулаком на трибуне. Говорил тихо, но твердо: «Сделаем». Был очень принципиален и не боялся сказать прямо в лицо людям, и даже весьма влиятельным, нелицеприятное, если так думал. Замечательный, большой человек, жизнь и работа которого достойна талантливого, умного, чуткого пера.
Существовавшие до тех пор ракетные двигатели успешно работали в условиях глубокого вакуума на лунных блоках «Е». А как им вздумается вести себя в условиях невесомости? На это пока никто не мог ответить. Это был серьезнейший вопрос для двигателистов Исаева. Если будут работать система ориентации и ТДУ, то проблему торможения корабля для схода с орбиты и посадки на Землю можно будет считать решенной. Но оставался второй участок посадочной дороги – атмосфера. Как спускаемый аппарат пройдет сквозь нее?
Нужно было исключить возможность неприятностей, если вдруг откажут система ориентации или ТДУ. А последствия такого отказа? Случись так, и тяжелый спускаемый аппарат может приземлиться совсем не там, где предполагалось, – не дай бог, на какой-нибудь населенный пункт. Что же делать? Не покрывать первый спускаемый аппарат теплозащитой? Пусть сгорит в атмосфере – при этом ему до Земли не дойти… Но ведь проверка теплозащиты была необходима. Ведь при входе в атмосферу с такой громадной скоростью воздух будет так «облизывать» аппарат, что в приповерхностном слое, как показывали расчеты, температура достигнет нескольких тысяч градусов. Только тепловая защита спасет аппарат при спуске на высотах около 100 километров, а уж ниже, где-нибудь на высоте 8–10 километров, можно будет применить и парашюты. Это, к счастью, было нам знакомо.
Ничего не поделаешь, пожалуй, единственный выход – на первом, экспериментальном, корабле теплозащиту не применять. А все остальное, вплоть до системы жизнеобеспечения будущих космонавтов, должно существовать и должно работать. Такова была суть идеи, предложенной Сергеем Павловичем. Не скажу, что у нее не было противников и на совещании у Главного, да и до совещания. Противники были и среди своих, и среди смежников. Самому Сергею Павловичу, по всей видимости, страсть как хотелось как можно скорее решить задачу до конца, проверить все, вплоть до теплозащиты. Как-то она будет вести себя? Не сгорит ли спускаемый аппарат, не разрушится ли?
Совещание затянулось. Все, кто хотел что-то предложить, предложили. Все, кто хотел возразить, возразили. Были рассмотрены все «за» и «против». Подавляющее большинство склонялось к тому, чтобы принять план таким, каким его предложил Королев. Так и было решено. Дальше разговор пошел о порядке и программе полетов следующих кораблей – второго, третьего, четвертого… И тоже пока без человека. С животными. И конечно, по полной программе, с возвращением на Землю. Только после этого – человек.
– Так вот, товарищи, если вы поддерживаете такой план отработки «Востока», то позвольте мне от вашего имени доложить его Центральному Комитету партии, правительству и просить одобрить все наши наметки. Я думаю, что здесь не надо говорить о той громадной ответственности, которую все мы берем на себя…
Разъезжались поздно вечером.
На этом, пожалуй, можно и закончить весьма беглый и неполный рассказ о работе проектантов – людей, которые рождают мечту, заставляют ее осуществиться и, когда достигают своего, все равно не спят спокойно и не вздыхают облегченно…
Они проектанты. А проект – это всегда будущее. Это всегда поиск. Это всегда борьба противоречий. Это обеспечение плацдарма. Это закладка фундамента новых работ, новых проектов.
Проект корабля… Это не рабочие чертежи. По нему нельзя изготовить ни одной детали. Следующее слово – конструкторам. Из одного компоновочного чертежа проектантов нужно сделать несколько тысяч чертежей – детальных, сборочных, общих… Рабочих чертежей, по которым токарь, фрезеровщик, сварщик, медник, слесарь, механик-сборщик, электрик могли бы изготовить, собрать, испытать и проверить каждую деталь корпуса или прибора, каждую гайку и болт, каждый электрический кабель, каждый механизм.









