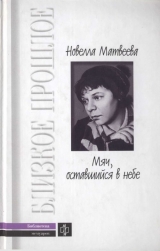
Текст книги "Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи"
Автор книги: Новелла Матвеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Но всё это, конечно, лишь к слову сказать. Ведь канувшая тетрадь навряд ли могла представлять для других такую же ценность, какую имела она для нашей семьи. Хотя, впрочем, у моей матери смолоду был до такой степени сжатый и замечательно-находчивый слог, что лица, прихватившие тетрадь, давно и наверняка поднялись уже с её помощью на целую ступень своего умственного развития! Отрешась от низменного мычания, они, думается, давно уже возвысились аж до детского лепета моей сестры (времён фартучка с бабочкой), записанного рукой моей матери. Её слогом!
(Ах, как зло! Как злы вообще всегда эти обкраденные! И насколько же добрее – эти милашки-воры!)
В прорве ночной
В черном окне
Вещи, скользнув, исчезали, —
Гасли на дне
Ночи и дали.
А выпархивали
Уже в той епархии они,
где люди живы,
где книги целы,
где нет печали.
Задолго до того, как фамилия обзавелась мною, в истории семьи имела место изба в каком-то (по моим представлениям, ото всего далёком) колхозе. Избу эту временно снимали родители. Хозяйка-молочница, как ни странно, всё ещё как-то связанная со своей коровой (видимо, ещё не всё было охвачено коллективизацией!), однажды куда-то отвлеклась от своего хозяйства. Отсутствовали в тот миг и Николай Николаевич с Надеждой Тимофеевной, так что при больших молочных бидонах, среди яркой скуки зноя, осталась, как на часах, одна только маленькая Лиана.
Если за избами и раскачивалось жаркое дневное равнинное марево, то не в нём был, по всей очевидности, пафос, а больше-то – в суетливом движении восторженных колхозных мух, наседавших на незакрытое молоко. Это не ускользнуло от напряжённо-ответственного внимания маленькой девочки. (Очень возможно, что во всё время отсутствия взрослых она отмахивала мух сжатыми кулаками!) И как только вернулись взрослые, —
– Б абуська! – обратилась она к хозяйке. – Б абуська, а твое молоко мухи кусают!
Да, именно так: не «едят», не «пьют», а «кусают»! Мухи всё-таки…
Мама любила пересказывать нам эту маленькую историю.
…Дело следующее происходило, если не ошибаюсь, всё в том же колхозе (или совхозе), когда однажды мама сварила исполинскую кастрюлю превосходнейшего компота и поставила её для прохлады на пол. Затем она и отец опять ушли – не то в гости, не то за покупками. И что же, воротясь, они видят? Выяснилось, что в их отсутствие Лиана залезла в компот с ногами и, одержимая духом чистоплотности, вымыла в нём ноги! Тем же компотом она вымыла и пол вокруг, после чего усердно вытерла его (боюсь, что не простой тряпкой, а каким-нибудь, опять же, чепчиком, платьем или чулками! Но не буду уж домысливать то, чего точноне помню).
Повесть о компоте так же залегла в фундамент изустной семейной хроники.
Видимо, ничто так не служило к пополнению этой хроники, как родительские отлучки из дома! В продолжение коих дитя, бывало, уж обязательно проделает что-нибудь непредвиденное или (в конце их) скажет что-нибудь неожиданное.
Как-то раз, когда сестра опять же осталась дома одна, на порог взошёл некий общий знакомый родителей, справился о них и, не застав их, тут же ушёл. Тщетно пытались потом отец и мать дознаться при помощи наводящих вопросов: кто же это был?
– Ну сколько ему примерно лет? – спрашивали они у дочки. – Как, хотя бы, он выглядит? Во что одетый? – Всё было напрасно; маленькую Лиану задачи портретной живописи явно застали врасплох.
– Ну хорошо, – подступились к ней снова родители, – а какие у него хоть волосы? Какого цвета?
– Волосы у него были лысого цвета, – вдруг ответила Роза-Лиана.
Как-то одна дама дала ей конфетку. Дитя приняло гостинец благосклонно, но в суровом молчании.
– А что надо сказать? – бросили ей намек папа и мама.
– Дай ещё! – мигом догадалась Лиана. (Вот что надо было сказать вместо «спасибо», оказывается!)
Этот случай – готовый живой анекдот! – стал впоследствии сказительской классикой нашей семьи. (И сама Роза Николаевна, сделавшись взрослой, часто вспоминала его с улыбкой и даже чуть ли не… с гордостью!)
Куклы были её слабостью. Быть может, родители не догадывались об этом, пока она сама не обратилась к ним с просьбой следующего порядка:
– Купите мне к укильки кикие-то.
– Что значит, – переводила нам потом мама с детского на взрослый, – «Купите мне какую-нибудь куклу».
Себе же я долго приписывала иной перевод (уверена теперь, что он тоже был мамин);«Купите мне куклу какую-нибудь, и не одну, а несколько!» (Может быть, даже не несколько, а много?Да нет, вряд ли! Несмотря на случай с конфетами, девочка была очень скромна.)
Так или иначе, а «кукильки кикие-то» – это всё-таки целый отряд… Однако же в кукольном деле сестра оказалась до суровости стойким однолюбом.
Была у неё, как рассказывали, кукла Мулёля. (Мама так назвала куклу или сама Лиана? Моё бывалое, бравое нелюбопытство оставило и этот вопрос теперь уже навсегда без ответа!) Этой Мулёле сестра была до того ль вассальски предана, что не расставалась, кажется, с ней ни на час. Влиятельную куклу я уже не застала, но даже и в самом семейном предании так и не запечатлелся момент молодости Мулёли. Как если бы немалый стаж её службы сестре был ей, Мулёле, присущ от природы; как если бы дряхлость была её неотъемлемая характерная черта и вообще главная особенность её кукольной натуры. Как если бы эта кукла уже родилась глубокой старушкой! Другими словами, от долгого служения, от перетаскивания её – хозяйкою – с места на место, от бесперебойно осыпающего её града забот (о ней же) кукла пришла наконец в такой очевидный упадок, что родители увидели в этом срочный сигнал для неотложной покупки новой куклы ребёнку.
И купили новую куклу. Нарядную, прекрасную! Кажется, даже с косами и с «закрывающими» глазами! (В нашей семье не говорили «с закрывающимися»; мама освобождала нас от преждевременных трудов по освоению длинных словес, а заодно и сама игралав слова, как в какие-нибудь игрушки!) Итак, новая кукла была всем куклам кукла! И той грязной, до умопомрачения замулёленной растрёпе – никак не чета.
Но финал истории был самый неожиданный. Взяв гордую фарфоровую красавицу, сестра со всего размаха тяпнула её об пол и разбила вдребезги. А затем торопливо схватила свою старую грязную Мулёлю и крепко-крепко прижала её к себе, обливая слезами…
* * *
Какие бы тайны души моего отца ни остались для меня навсегда закрытыми, всё же мне известно о нём и нечто совершенно бесспорное. Бесспорно, к примеру, то, что он почувствовал бы себя настоящим преступником, если бы увидел в магазине яркую занимательную игрушку и… не купил бы её нам, своим детям!
Сколько бы я ни ошибалась насчет истинного характера моей матери, а знаю, что и она не простила бы себе, замучилась бы достоевщиной, вернувшись домой без куклы, зайца или медведя, приглянувшихся ей для нас в какой-нибудь лавке. (Скольких недоразумений в отношениях с мамой избежала бы я впоследствии, если бы никогдане забывала об этом!)
Наверное, игрушки во времена нашего детства были достаточно дёшевы, а то не видать бы их нам в таких баснословных количествах! Более чем скромный достаток семьи несомненно расстроил бы их войска, не позволил бы им двигаться на нас такими стройными рядами! Но так ли важно, почем игрушки, если для нас, детей, они всё равно были связаны с представлениями о пышном великолепии, о почти римской неистовой роскоши? Одним словом:
Мы одуванчиками обеспечены
И с облаками хорошо устроились!
В нашей с сестрой комнате между большим окном и спинкой моей кровати был целый угол, заваленный игрушками. Чего-кого тут не было?! «Какая смесь одежд и лиц»! И мишки, и слоны, и оловянные солдаты, и кубики-строители (те, из которых складывались картины, нравились мне больше, чем просто жёлтые, синие да красные; что-то я даже зелёных среди них не вспомню, а строить из них было как-то слишком легко и скучно).
Была игрушечная посуда (или «посудка»), высоко ценимая нами! Были крошечные «голыши» – гладкие и нагие – действительно, как морские камни, – куклята из какого-то скользкого умывальникового мрамора или, наоборот, из легкого розового целлулоида. Их голубые глазки глядели прямо и отвлеченно-непримиримо, как целеустремлённые незабудки. Руку целлулоидовой куклы можно было повернуть, но никогда не в сторону, а только вверх, вниз или вперед, чтобы она как бы указывала (срабатывал легонький шарнир). Но лишь тогда, когда в результате верчения целлулоидные ручки у голышей внезапно отламывались, я проникалась неким подобием сострадания к новоявленным инвалидам – и они, дескать, люди! Однако же в число моих любимцев они никогда не входили. Это только взрослым требуется всегда что-нибудь умилительное! И поэтому они всегда перепутывают свои интересы с детскими, – так, обычными своими не-словами (но иногда даже уже и словами!) думала я. Это только большим нужны такие куклята. А при чём тут мы! И, главное, при чём тут я?!
Словом, я глядела на присутствие голышей в доме весьма неодобрительно. И, случись разговор, сказала бы им только одно: – Хоть бы прикрылись!
Даже в нечаянномкалечении таких кукол я участвовала редко, нехотя и лишь под руководством сестры, вечно обуреваемой духом исследования: целлулоида ли, фарфора, шарниров, тайны Движения, тайны ли неподвижности, – лишь бы исследовать! Довольно часто сестре удавалось поджечь мою любознательность к вещам и «наукам», но к некоторым игрушкам я относилась как бы лишь исполнительно:раз подарили их нам, значит, надо играть.(Вариант «надо мечтать»?)В худшем случае – признавать не играя.
Так, с душой, отрицательно заряженной благими намерениями («которыми…» – и так далее!), я играла иногда и в немилые мне настольные игры; играла скорее из вежливости, из чувства какого-то странного долга или из подчиненности старшей сестре, нежели для своего удовольствия. Подчас это так разоряло и опустошало дремлющую мою фантазию, что, пожалуй, только полуведёрье тепловатой кипячёной воды, принятой натощак, могло бы сравниться – по скучноте воздействия – с этим треклятым занятием!
Видимо, я становилась миролюбивее. Но делалась ли я от этого, что называется, благонравнее? Не думаю и не замечала. Ведь в некоторых сугубо принципиальных(на тогдашний мой взгляд) случаях я очень даже могла взбунтоваться!Однако об этом – после.
После – и о любимцах моих в среде игрушек (вспомнился анекдот – «Среда засосала»!), о личностях, о героях, о бедняках и еретиках, о ярких выразителях жгучих общекукольных чаяний… Даст Бог время – скажу и о них. А покуда мой сказ о игрушках в массе,без которой, впрочем, неоткуда бы и взяться героям вроде Щелкунчика!
Но… не из игрушечных «низов» и не из кукольных «верхов», а точно бы из самой преисподней, похоже, выползли изделия Гекаты [13]13
Геката —в древнегреческой мифологии богиня призраков, ночных кошмаров, заклинаний, покровительница нечистой силы, повелительница теней в подземном царстве. Считалось, что она носится по перекресткам дорог и среди могил в сопровождении адских псов и ведьм. Изображалась с горящим факелом в руке и со змеями в волосах.
[Закрыть]– сегодняшние игрушки! – бесстыдные, физиологичные, страшные! Попробуй нечаянно встретиться взглядом с такой уголовной цацкою, когда, поместившись (вероятно, с помощью прыжка) между цветными карандашами и газетами, выглянет оно на тебя вдруг из-за стекла киоска, – ведь на весь день потом настроение испортится! А у несовершеннолетних как?
Так вот вам – фабрикант игрушек – Стеклтон!
И вот – портниха кукол – Дженни Рен.
Вот где он! (А не она.) Потому что жестокосердый диккенсовский Стеклтон [14]14
Стеклтон– персонаж из произведения английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870) «Сверчок на печи».
[Закрыть]как представитель большого бизнеса (встарь выпускавший пушки – детские игрушки! – а теперь – очаровательные водородные бомбочки!) – продолжает безнаказанно разорять благородно-мирную Дженни (как представительницу бизнеса малого)…
Значит, со времён Чарлза Диккенса ничего не изменилось? Ой, что я?! Изменилось, да ещё как! Ведь же в старину Стеклтона всё-таки пришлось придумывать – пришлось не кому-то, а гению, – придумывать как злодея карикатурно-книжного ряда! Но даже как в такового, в него не все поверили: так и остался – сказочно-уродливым дитём пресловутых диккенсовских «преувеличений». А нынче – вот он живьём среди нас обретается! И все (то есть почтивсе) не только верят (ему и в него), но и глубоко чтятего. А главное, никто больше не обзывает его «диккенсовским преувеличением», – наоборот! – многие взирают на него, как на античный классический образец чего-то.
Детей родители учат
Игрушек своих не бояться;
На их шипы,
На их крючья,
На зубья их – не попадаться.
Но гаснет свет —
И крик несётся из детской…
Впрочем… последний из таких криков здоровогодетского страха, по-моему, оборвался и смолк ещё до начала девяностых годов. И смолк он, быть может, как шум последнего… счастья! Потому – никогда не знаешь: а что же ты будешь почитать за счастье в следующую минуту? (Таким вопросом, кстати, постоянно задавалась одна из героинь давнишнего моего, до сих пор не реализованного, романа!) Возвращаясь к шуму последнего счастья, скажу: то было счастье естественности, – ведь же и сами страхи шли от НАТУРЫ, а не от её извращений. И вот свершилось! Дети больше уж не пугаются чудовищных, страшных игрушек (опасаться коих таким нормальным делом считал мистер Диккенс, – и не только в специально им отведённом для таких опасений «Сверчке»), – а мы?
Над Здравым Смыслом празднуем победу,
Самодовольством гордость заменив.
(1987)
Свершилось! Дети приветственно облобызали своих корявых и склизких новых «друзей»; Бабу Ягу, Весёлого Роджера, не менее «весёлых» драконов и динозавров; кукол, похожих на Смердякова и на древних душителей прорицателя Лаокоона [15]15
Лаокоон– троянский герой, жрец Аполлона в Трое, прорицатель. Пытался помешать осажденным троянцам втащить в город оставленного греками у его стен деревянного коня (в котором были спрятаны греческие воины). Покровительствующие грекам боги наслали на Лаокоона огромных змей, удушивших его вместе с двумя сыновьями.
[Закрыть]… Кому это понадобилось – коверкать, калечить душу людскую с малолетства? Где и когда, для какого дела– это может пригодиться?
Вкуса у взрослых нет? И не надо! Но повторю вопрос: так где же он ТЕПЕРЬ, хотя бы тот первый, НОРМАЛЬНЫЙ! детский страх? Товарищ СТЫДА? Храбростью заменился? Ой ли? А не жестокостью ли ранней? А не остеклянением души? Как в страшных сказках – у Кая и Петера Мунка? [16]16
Кай– герой сказки «Снежная королева» датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875).
Петер Мунк– персонаж из сказки «Холодное сердце» немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802–1827).
[Закрыть]
Мы тоже в детстве не были совершенны. Не были идеальными, наверно, и наши игрушки. Но, рискуя вызвать неудовольствие потребителей фабрики «Стеклтон и К°», буду утверждать, что мы с нашими куклами, похожими всё же на кукол, а не на жриц Киприды [17]17
Киприда– одно из прозвищ богини любви Афродиты; производное от острова Кипр, где царил её культ. (Многие прозвища Афродиты связаны с местами ее культа: Киферея, или Цитера – от острова Кифера, или Цитера; Пафия – от города Пафос; Книдия – от города Книд в Малой Азии; Эрикиния – от города Эрикс на Сицилии.) В Коринфе, где богиня любви особенно почиталась, жрицы Киприды, жившие при храме, несли служение своей богине тем, что отдавались за деньги.
[Закрыть]; с нашими зверюшками, – похожими на зверюшек, а не на выходцев из прорв или выползков из хлябей, – мы были куда нормальнее и счастливее сегодняшних маленьких бедолаг. Живущих даже иногда в достатке, но для чего-то обманутых, ослеплённых взрослыми; это ведь не шутка – целые подрастающие поколения обречь играть хмырями да фуриями,выполненными ужасным Стеклтоном в духе какого-то Эжен-Сю-реализма [18]18
Э жен-сюрреализм– от имени французского писателя Эжена Сю (1804–1857), автора романа «Парижские тайны», изображавшего людей парижского «дна».
[Закрыть]и даже, может быть, ещё того хуже…
Взойдёшь ли ты снова, солнце Нормальности?! Возвестит ли твой восход новую весну игрушек, – натуральных детских игрушек? Вернётся ли в мир (гордящийся нынче своими вероломствами) кукла с человеческим лицом? О, это было бы добрым знаком! Или это сделалось уже невозможно и ничего поправить нельзя? Но что это?!
Вдруг – цзынь! —
орех раскалывает грецкий
Щелкунчик! Потеплели тени стен…
Заря приподымается с колен
Затекших… Глянь: потоки света
мчатся
С небес в долину!
Утро… В дом стучатся…
– Кто там?
– Портниха кукол Дженни Рен.
Почему бы и не помечтать?!
1995–1996
Тысячевёрстый путь

Разрешается скучать отсюда и до Константинополя.
Французское присловье
Когда-то отцу моему, – который, имея добрый, весёлый нрав, не упускал случая сострить или подхватить шутку, – очень понравилось моё определение себя как СУХОПУТНОГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯ и он даже всё повторял его! А я поясняла: – Это потому, что у меня МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ НА СУШЕ.
Морская – на суше? Увы! Отец обо мне это знал не хуже, чем я. Когда надо было куда-нибудь ехать, меня неизменно укачивало. Но странное дело! ПОМНЮ, как меня укачало при нашем въезде в Звенигород (хотя это было раньше), и СОВСЕМ не помню такой укачки при нашем въезде в «Мускатово» (хотя это было и позже). Иногда мне, впрочем, кажется, что полупарящую звезду широких белых ворот и дугообразное название санатория на них папа нам показал из кузова грузовика и, празднично торжествуя, огласил название – там же. Смутно иногда вспоминается, что всё ж я каким-то образом обратила внимание и на ту звезду, – чисто переплётную, не заполненную никакой фактурой, а только сквозную, и чрез которую вершинно просвечивал встречный парк. И – на того же гибкоплётного металла всепросвечивающие белые ворота, высокие, широкие, полувоздушные – тоже обратила внимание. А папа так ликовал, как будто мы въезжаем в собственное поместье!..
С другой стороны… – как же я всё это могла запомнить, если меня укачало? А если НЕ укачало, то почему? Этого просто не могло быть, если мы прибыли на транспорте! Так, может быть, всё-таки мы подошли к воротам – всею семьёй – пешком?Быть может, позади нас оставался какой-то перевалочный пункт, где мы уже сколько-то отдохнули?
Так или иначе, а всё равно я помню себя какой-то сонной и не совсем, как теперь говорят, «оклимавшейся», когда мы, семья, очутились вдруг в санаторной столовой, – то было, если не ошибаюсь, самое первое моё впечатление от «Мускатова» ИЗНУТРИ.
Настолько, помнится, пригодная к делу еды, как если бы мы пришли пешком, но и настолько вялая, как если бы мы всё-таки приехали, – я не без робости глядела перед собой. И ещё помню, что приступать к обеду-то я всё же боялась, – как человек, чья морская болезнь НА СУШЕ ещё не прошла. (Эх, апельсинчика бы туда! Прямо в царство моего прошлого. Или ломтик лимона! Но, может быть, эти великие лекарственные средства тогда ещё даже не были нами открыты?)
Итак, незнаемая столовая. Возможно, что папа и сестра находятся прямо передо мной, – просто за другим столиком. Но ненаблюдательность – надёжная спутница болезни Меньера, действует безотказно, и в этом периоде я их больше как-то не помню. Мне кажется, теперь только мы с мамой одни сидим за столом, что втиснут между порогом и выступом стены справа. И мама показывает и разъясняет мне разные вещи своим – для таких случаев – не только музыкальным, но и немножко строгим (музыкально-строгим) голосом. В таких случаях она разговаривает как какая-нибудь добродушная, но менторски настроенная скрипка. Я же слушаю, дичась многолюдства, и, несмотря на слабость, даже кое-что запоминаю…
Ах да! Всякий рассказ желательно ведь начинать сначала! А я чуть не упустила самое главное. А главное в том, что я слушала маму не просто «дичась многолюдства» (как бы подбавляющего к маминому «наставительству» ещё и от себя – укоризненности незримой!) – я слушала, ежеминутно вздрагивая от настоящей ПАЛЬБЫ! От которой вся столовая (переходящая в кухню и обратно), казалось, ещё и в ТИР сейчас перейдёт и вот-вот разорвётся! Это в допотопной – и тем великолепной! – печи стреляли крупнокалиберными искрами сухие, как порох, поленья. Можно было решить, что у самого твоего уха чешут из пулемёта! Не так часто, конечно, разреженнее, конечно, миролюбивее, конечно, но – не намного… А главное-то было всё-таки само КАЧЕСТВО треска: именно самое что ни на есть пулемётное качество; фальцетно-громобойное и – с отчётливым впечатлением великой воинской потехи…
Прямо в столовую, не на страх, а на совесть работающую сейчас ложками, ножами и вилками, – была распахнута (в переднем углу справа) дверь в кухню – прямо на кухонный фронт. Слева из двери выглядывал передний край плиты, на которой жарилось, парилось, варилось, творилось всяческое объедение. Видно было, как в огневеющий зев справа подбрасывалось и подбрасывалось всё новое топливо – источник повелительного, какого-то даже безапелляционного, как бы не терпящего никаких возражений и совершенно нестерпимого – я повторяю – тр еска!!! Ежели бы у меня на уме сейчас какое инакомыслиеуместиться могло, я его, наверное бы, устрашилась, душевно пятясь под этою канонадой. Но, как сказано выше, не до мыслей было мне, и не до инакомыслия было мне, а следственно, и не до крайностей подобного противного малодушия было мне. Тем более когда не знаешь – кому инакомыслить.
Так что и старинный – такой натуральный и живописный! – вид приготовления еды имел в себе конечно же не одни лишь преимущества. И всё же я предпочла бы его современному, низкому и лицемерному – без огня и дыма, без вида и цвета, без запаха и вкуса… И так, чтобы съестное походило на жвачку из промокашки двоечника.
Изысканно-зеленоваты
Сухого кекса экспонаты,
С музейной пылью пирожки
И коржики из терракоты…
Полумистические шпроты,
Как на папирусах, тонки.
(1990)
Но стоп! «Еда без запаха» сказала я? Это я немножко погорячилась. Потому что запах крашеного картона – он тоже чего-то стоит (только раскошеливайся!). А потом, бывает ведь не только еда без запаха, но и запах без еды. Это то есть когда «один запах»! Или два. Или три.
Но всё равно без самого съестного. А что? Или вы не приобретали в сегодняшних магазинах, например, «Суп-вермишель с запахом курицы»? Смешно, зато честно и откровенно. Чем не «Суп из топорища»? Суп из топорища с запахом курицы. Одним словом, нюхать подано! – как предвыразился ещё в 1970-е годы мой трубач Руперт из «Предсказания Эгля», которого, Руперта моего, ещё в 1984 году замечательно так сыграл на сцене артист Алексей Блохин, и это НЮХАТЬ ПОДАНО (из моих столь старых тетрадок) прозвучало в его устах так ново и выразительно! Даже торжественно! Ведь и уже ТОГДА все мы терпели если не голод, то достаточные лишения (что отразилось потом и в стишках, приведённых выше). Но кто поверил бы даже тогда —в настоящие, не театральные ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЮХА И ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННО – ДЛЯ НЮХА, да ещё и в то, что нам придётся взаправду их покупать?! Так действительность если и не опередит любую фантазию враз, то уж зато потом обязательно догонит и перегонит её. НЮХАТЬ ПОДАНО!
Мама ценила и часто повторяла пословицу: «Дорог аложка к обеду». И уже коль скоро ежели речь о «полумистических шпротах» из цикла миниатюр «Музей съестного», то как теперь не заговорить о некой… ИМИТАЦИИ КРАБОВ? Не из сказки, нет! И не из стихов 1990 года, а прямо на сегодняшних магазинных рекламках так и написано: «Имитация мяса крабов»! Каково? Ведь тогда их по меньшей мере надо бы и продавать исключительно дёшево. А у нас?
У Ивана Киуру было выражение: «Непроизвольный юмор». Это то есть когда человек, сказав смешное, сам не замечает комичности сказанного, а того паче – может не оценить собственного остроумия и во все последующие времена… «Имитацию», кстати, все продавцы отпускают нам с весьма серьёзным видом (вот он – качественный образец НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ЮМОРА!), хотя, что само собой разумеется, нипочём не позволят вам за имитацию снеди расплатиться имитацией денежных знаков. Нетушки! Деньги должны быть завсегда настоящими, – это закон природы. Даже если вы покупаете на них только фикцию жареную! Но это-то, по-моему… гм… не совсем справедливо.
Имитации имитациями, а между прочим нам не мешало бы знать, из чего этот краб состоит (или от кого родился). Раз уж всё равно признались, что он не настоящий. Страшно подумать даже иногда бывает – какие же в таком случае материалы пошли на его изготовление?! Ах! До хозяев пропитания нашего дойдёт же когда-нибудь и комизм названия: «Имитация крабов»!.. А покуда доходит, – подумаем и мы о чём-то более весёлом. К примеру о том, что надо бы нам закупить себе телескопы, вглядеться в микрокосмический вредно-красный шрифт на синих пачках и узнать всё-таки: из каких ингредиентов составлен краб. А что, когда… Что, если они окажутся… Но прочь, прочь суровое злое сомнение!
Изобретатели новой еды (старую, не модную, никуда не годную – вроде икры паюсной и тому подобной халтуры – долой в дорогостоящие ресторации!), – так вот: все эти басенные Лисы и Журавли, угощать привычные так, чтобы ни в коем случае не угостить; кормить так, чтобы не накормить часом, – никак не могут они того допустить, чтобы люди, давно не пользующиеся ничем НАСТОЯЩИМ, вдруг начали бы есть, например, настоящее мясо! Эта возмутительная картина не укладывается у них в сознании. Просто не укладывается – вот и всё! Вот и создают они, – наши кормильцы-то непрошеные, вот и разрабатывают они, вот и выпускают они из окаянных рук своих истинные шедевры непитательности, обезвитаминенности, вызывающей безкалорийности и какой-то удивительной всевыжатости! И не могут уже остановиться, напав однажды на золотую жилу; и творят они снова и снова прямые чудеса несъедобности, обессоченности для – безжизненного вида – бедняков… Кабы лимоны можно было выращивать заранее выжатыми, эти неслыханные (за чужой счёт) жмоты охотно растили бы их в «пользу» «лишних» людей на пиру… Да что там! НЮХАТЬ ПОДАНО.
В начале жизни своей я жила на Мясницкой. Но это ничего не значит, потому что вообще я не мясоедка, а – по примеру своей матери – больше склоняюсь к рыбе. Бывают, впрочем, исключения из этого правила, когда приходится прицениться и к мясу; на витринах же только одна говядина… Говядины – целые выставки; ракурсы и экспозиции; броские композиции – лувры и колизеи – одной лишь говядины, говядины, говядины… Однако ж народ, много наслышанный именно о коровьем бешенстве, а не о каком-то другом, остерегается покупать её, даже когда имеет такую возможность. На ней ведь даже не написано – откудаона! – вся эта говядина, – а таинственностью усугубляются страхи. – Скажите, есть ли у вас баранина? – Нет. – Жаль! Ведь же как раз о бараньембешенстве пока не слыхали. А вот о коровьем… Продавщица начинает беспокойно вращать туда-сюда головой как бы в поисках подмоги. Или управы на меня со стороны запропастившегося заведующего. Либо чего-то вроде магазинного вышибалы. Она делает вид, будто я хулиганю. (Ей вроде как ВОЗРАЗИЛИ, а к выслушиванию образчиков инакомыслия тоже нужна привычка!) Баранина? Ишь чего захотели! Баранина есть, а не про вашу честь, – она для избранников неба припасена – всё для той же ресторанной братии – порноаристократии…
Так что – нет и нет! – барашка нам не предложат, – ждут, когда бараны в бешенство впадут, – вот тогда пожалуй… И вообще мы созданы лишь для вдохновенья и для скупки всего подозрительного, овеянного смутными слухами, страшными фактами, требующими крепких нервов, а также балладами и легендами, в которых, к сожалению, каждое слово – правда… Впрочем, то, что самих крабов – в Японию и во Францию, а нам с вами – имитацию да из трёх пальцев знаменитую комбинацию – это даже ещё ничего, – а вот не проглотить бы в чистом виде отраву! А в чистом виде отравы не хошь – так и не ешь вовсе!
Что делать, как поступить, чтобы не ходить в поводу у разбойников, у головорезов, назначивших себя «честными малыми» – благодетелями и кормильцами нашими? Мы ведь – если вообще заработали – то честно заработали себе на еду. Может быть, чудом, но честно. А нам в уста – всё та же ведьмина клёцка из «Пропавшей грамоты»! То есть галушка. То есть множество вообще-то галушек, а собственно – ни одной. Как ведь и не вспомнить того казака бывалого, который – какую ни зацепит вилкой галушку и ни направит в рот себе, – а она, глядишь, уже во рту присевшей рядышком нечисти! Не то поел, не то приснилось…
Вот так Николай Васильевич Гоголь, сам того, конечно, не подозревая, нарисовал картину нашего благоденствия – всей сегодняшней экономики нашей. Конечно, если понимать её не по науке, а по совести.
Ну а что значит – понимать по науке?Экономика, думается, и вообще не должна относиться к отвлечённым наукам. Вроде алгебры, куда нынче её отнесли. Сыты люди в стране? – значит – экономика. Полусыты? А иные с голоду мрут? Значит, это уже что-то совсем другое. И экономика тут ни при чём.
Ах, не избранные мы с вами натуры! Не порновысший свет! И не посвящённые в тайну Кухни, – вот что! Поэтому в наилучших случаях мы не едим, а пробуем. (См. выше насчёт имитаций.) Да и пробуем только то, что НА НАС пробуют. И следят потом: ну как? – сразу мы или не сразу? Как в том – ни дать ни взять – старомексиканском фильме «Грибной человек», несколько примитивном, но не лишённом мудрой подсказки, – а там, как сейчас помню, ещё фигурирует специальный такой человек, – слуга, на котором господа испытывают: а что гриб? съедобный или ядовитый? Ну так пробуй! Пробуй! Кому было сказано – «Начинай с себя»? И несчастный пробует. На себе. «Но очередь наша. / И кончится ряд испытаний / Не нами» (А. Фет).
Я, конечно, далека от намерения утверждать, что здесь Афанасий Фет намекал будто бы на пищевые именно ИСПЫТАНИЯ. Почём было знать поэту, что всего чрез каких-нибудь несколько поколений его потомки выйдут… в Грибные люди? (И пошёл я в Грибные люди!) Да ведь тоже и нам – не до поэзии в прежнем, нормальном, смысле этого слова, ибо мы и впрямь грибные люди времени. Мы уже и того, – «грибков поели»! Мы… Но полно! Полно! Не забыть бы, как ценила мать и такую, кстати, пословицу: «Заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб расшибёт». Приходится учитывать родительские уроки.
Конечно, с одной стороны – где же, если не в столовой (да ещё с открытым видом в кухню!) – а именно там застал меня мой рассказ – где же ещё и впадёшь в разглагольствования насчёт пропитания? Но с другой стороны – «Не полно ли о съестном»? Я, кажется, и так слишком далеко ушла от прямого повествования. Так не вернуться ли? Не обновить ли в памяти (не в моей, так в Вашей, не в Вашей, так в моей) его первые звенья?
Итак, наш въезд в «Мускатово». Неточность воспоминания: как. Хотя помню звезду ворот. Радостный предсанаторный вид! Укачало ли меня или, в качестве исключения, обошлось? Во всяком случае мы, семья, как бы СРАЗУ в пышном хвосте зимы увязшие, в мороз, перевалившись через снега, оказываемся в столовой – в глубине санатория.
«Прекрасно – уходить и возвращаться!» – говорит Роберт Фрост. Не уходивши от темы, я могла бы и не вернуться в одну столовую – дважды. А значит (хотя это, может быть, и не важно для истории происхождения видов), значит, вовсе могла забыть о снежных заносах перед столовой! Которая находилась где-то в боковой правой стене, внизу высокого корпуса; обойти парадное крыльцо, зайти за угол справа, нырнуть прямо в снега, в их глухоту и укромность, а там – дверь! Да нет, не могла я это забыть! Всё равно потом вспомнила бы. Пышная снежная впадина, как берлога, и на самом дне её – небольшая тёмная дверь. Сезам, откройся!
В буре, в лесах, во тьме,
В снежном экстазе мы,
Как Теофиль Готье,
Славим дрозда зимы!
Так же я не могла забыть и не забыла: ни полыхания жарких очажных бликов (уже внутри дома), ни тогдашних тамошних поваров, что, с выражением пиршества в курфюршестве, сновали перед нами туда-сюда, ни их высоких белых колпаков, расширяющихся кверху так интересно…
Как? – снова повара? – удивится, может быть, тот, кто читал (и с любезным терпением перенёс!) главу под названием «Восстановить в памяти». Да, повара были уж е. Но, во-первых, всё новые появления их на сцене никем, слава Богу, не считаны, не меряны и, надеюсь, не будут нормированы – пока человек от еды ни откажется. Во-вторых, – тогда, в том вулканно-огненном окне (в рассказе «Восстановить в памяти») были не столько повара, сколько их тени – вроде предисловий к настоящим. Не столько сами кухмистеры во плоти, сколько пока ещё их силуэты. Здесь бывшие силуэты впервые представали В ОБЪЁМЕ. (И в каком!) И к тому же не в чёрном, а, наоборот, в белом выражении (изъявлении, изъяснении, воплощении. Согласно их рабочей форме – белой, как та далёкая зима за окном). Иногда, правда… и в краснорожем выражении они представали, не скрою. Но да будет это сказано не во зло! Потому «рожи» – здесь читай в хорошем смысле! Вообще для ПОНИМАЮЩЕГО человека (а я только с понимающими разговариваю) – здесь, в «краснорожести» этой, отчётливо прозвенит даже ВОСХИЩЕНИЕ! Понятливая душа не упустит эту ноту. Потому – понятливый мыслит не только буквами, но и живописью! – а это ведь замечательно: мыслить живописью восхищения! И как не восхищаться людьми, которые для нас так стараются, – так искусно готовят и стряпают! А вместо благодарности (когда, нажравшись, отвалившись и обнаглев, мы лениво высматриваем, к кому бы придраться) – вместо благодарности получают высокомерно-взыскательные напоминания, что женская часть их коллектива «не может управлять государством»! Да говорите вы что хотите! Но высказывайтесь лучше всё-таки ДО обеда, – когда вы ещё находитесь В ЗАВИСИМОСТИ от кормящей руки и не решаетесь её укусить заблаговременно. Несите вздор любой, всякий, но не тогда, когда наступившая сытость сделает вас (нас? нас? вас?) ещё более нахальными, чем во всё остальное время.








