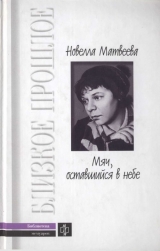
Текст книги "Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи"
Автор книги: Новелла Матвеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
P.S. Будь жив Александр Пушкин, он непременно внёс бы в свой «Table-Talk» историю о том, как автор старинной новогодней песни про «Золушку» («Я раздуваю пушинку огня, / Пламя бушует и варятся щи, / Если за печкой не сыщешь меня, / То уж нигде не ищи…»)попала однажды наяву, ну, не в царский дворец, а в Кремль, на вручение Государственной премии. И как, проходя по красной дорожке, чтобы получить из рук президента премию, потеряла туфельку (с ноги у неё буквально едва не слетела босоножка!)… Но то был бы не более чем повторившийся сказочный случай, если бы… Если бы Новелла Матвеева не написала когда-то ещё одну пророческую песню, в которой предсказала новый поворот темы своей Золушки, весьма подходящий к её кремлёвскому происшествию: «Но портить подошвы ходьбой / Не так по душе мне, / Я лучше приду к вам босой– / Так будет дешевле…»(«Платок вышивая цветной»)…
Но ещё поразительнее, что многие удивились этому государственному признанию её творчества – одни из зависти (почему она, а не мы?!), другие из раздражения (уж слишком любит Россию, того и гляди, станет российским Киплингом, певцом империи!). А Новелла Матвеева, вопреки всему, продолжает своё великое духовное странствие в мире, где почти уже не осталось места для поэзии.
Вы видели когда-нибудь, как ходят по земле «певцы империи»? У Новеллы Матвеевой это очень хорошо описано: «Свернуть бы? Да было некуда. Промедлить? Не имело смысла. У меня уже выработалась походка бродяг, – людей, которым спешить некуда, но и остановиться нельзя…»
2005Геннадии Красников

«Цвел ли, не цвел ли в долине жасмин…»
Старое дерево и жасмин.
Рисунок Новеллы Матвеевой. Конец 1940-х гг.
МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ
Аркадские пастухи

Родилась я в Царском Селе. И это было с моей стороны уже нескромно, потому что (надо ли напоминать?) именно там находится лицей, в котором учился Пушкин и в котором он был счастлив, как больше нигде. Таким образом, сама Судьба позволяет мне то, чего люди бы не позволили: повторить за великим поэтом:
…нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.
К сожалению, на этом сходство мое с Пушкиным обрывается (о чём я, впрочем, могла бы и не сообщать!). Да и оставалась я в «садах лицея» недолго. Когда у меня спрашивают – помню ли Царское Село, я обычно, шутя, отвечаю, что меня оттуда увезли в бессознательном состоянии.(То есть ещё до обретения сознательного взгляда на мир.)
«Жители Аркадии счастливой» [2]2
Аркадия – в античные времена единственная страна на полуострове Пелопоннес (Греция), которой не коснулось дорическое переселение (дорийцы – одно из основных древнегреческих племён; на месте их расселения возникли такие государства, как Спарта, полисы Крита, Аргос и другие, уже отмеченные наличием рабовладельчества). В Аркадии сохранились ее древние обитатели, которые жили в основном скотоводством и земледелием, почти не знали промышленности, искусств (за исключением музыки), наук и пользовались у остальных греков славой гостеприимного и благочестивого народа. Позднейшие поэты изображали Аркадию райской страной невинности, патриархальной простоты и мирного счастья, а «аркадские пастухи» стали предметом особого рода поэзии. Так, самый знаменитый поэт императорского Рима Вергилий (70–19 гг. до н. э.) в своих буколиках (от гр.bukolikos – пастушеский) изображал Аркадию сказочной идиллической страной; в эпоху Возрождения итальянский поэт Якопо Саннадзаро (1456–1530) прославился прозометрическим романом «Аркадия», который определил развитие пасторального жанра (идеализированное изображение пастушеской жизни). В переносном смысле Аркадия – страна счастья.
[Закрыть], – счастливым голосом иногда произносила мать любимую, неведомую мне цитату. Может быть, из Филипа Сидни? [3]3
Филип Сидни(1554–1586) – английский поэт, писатель, блиставший при дворе королевы Елизаветы и считавшийся образцом рыцарства. Погиб у голландского города Зутпен во время войны Англии с Испанией. Автор пасторального романа «Аркадия», цикла сонетов «Астрофель и Стелла», а также трактата «Защита поэзии», которые вышли посмертно.
[Закрыть]И этот возглас-вздох легко было отнести не только к её харбинскому детству, но и к периоду царскосельских рощ, где семья жила так недолго и – по странному совпадению – тоже счастливо! Можно подумать, что душа молодого Пушкина, «солнца русской поэзии», там, на лицейской земле, опекаламоих родителей как достойных и горячих солнцепоклонников! Можно подумать, что во всех прочих краях России ему (Пушкину) сделалось потом не в пример трудно им помогать…
Убеждена, что места обитания гения, где он был более-менее продолжительно счастлив, благотворно действуют и на людей, в них потом поселяющихся. Злым людям и злой судьбе надо как-то особенно постараться, чтобы добиться ослабления волшебства местности, а то и полного исчезновения благотворного её влияния. Иногда мне кажется, что под давлением ужасающей непочтенности нашего века аура царскосельских рощ давно уже ослабла или угасла, что сам досмотр богов за ними отменен… А то опять вдруг подумается, что моим родителям не надо было уезжать оттуда так скоро.
Кто не помнит (хотя бы как я – по репродукции) картину Пуссена «Аркадские пастухи»! Пасли, пасли они своих коз, да и набрели вдруг на некое надгробие и никак не могут понять – что это такое; и читают надпись на камне, а всё равно не могут понять, – ведь сами-то они бессмертны! Вот и Царское Село в моём позднейшем представлении было Аркадией (ещё и от множества арок!), а всё остальное в мире – всего лишь тем камнем с надписью, на который сразу же наткнулись аркадские пастухи – мои родители, – как только возымели неосторожность покинуть край, охраняемый божеством Поэзии. И с тех пор куда ни пойдут, – везде этот камень… Камень преткновения, которого только из Аркадии не видать было. И эту надпись давно уже читают многие люди нашего рода, а всё не могут понять её. И даже сами уже обучились нехитрому искусству исчезновения, а надпись понять всё не могут, ибо недоразумение, связанное с некоторыми из нас, распространяется и на них… Так – если не думала, то представлялая, когда узнавала Царское Село (по снимкам и гравюрам) как бы двойнымузнаванием: то есть – «узнавала» в смысле – видела впервые и «узнавала» в смысле – видела не впервые. Да: всё-таки как будто не впервые видела я свою родину, которую воспринимала почему-то и как прародину, где и мои родители и я некое – очень короткое! – время были бессмертны.
Хотя настоящей моей прародиной был Дальний Восток, бесчисленные пёстрые образы которого, выступая рядом с отцовской пушкинианой, также начинали уже влиять на мою неоперённую личность. Но заявляли они о себе то во всеуслышание, то… тихо-тихо, потому что не пришло ещё тогда для меня время Страны прибоя. До неё ещё дойдет разговор в последующих главах. Однако уже сейчас мне любопытно отмечать наш фамильный путь, пролегавший от Крайнего Востока до Крайнего Запада!
Сознавать себя я начала в Москве, где, как это ни странно (и тут начинается уже какая-то иная «география»!), я как будто стремилась вспомнить о предшествовавшем небытии! Оглянёшься назад, так дальше не легче! Как сейчас помню, меня в детской-спальне оставляли на ночь одну. И тогда мне в голову начинали приходить вопросы, по-видимому, философской важности. Например: была ли я давно? Была ли я… много, много, много раньше? И где находится это «раньше»? И… разве могла быть где-нибудь такая беспредельность, в которой не было ни моих мыслей, ни меня самой? От этих, всегда врасплох застававших меня, вопросов становилось не по себе. Хорошо ещё, что взрослые, уходя, оставляли включённым свет! (Вероятно, без света я вообще не засыпала.) Хорошо, что иногда на соседней койке ночевала сестра. Хорошо, что по стенам у нас всегда были развешаны, в основном выбранные мамой, картины; они уводили мысль от непонятной предмировой «пустоты» с её грозной беспредметностью. Тем меньше теперь понимаю: каким же образом я успела тогда добыть для себя чувство пустой стены? Разве что – мы не обжились ещё на новом месте и картины не сразу свои места заняли? Или я не вдруг их заприметила? Или – по малости лет – воспринимала их как бессмысленное нагромождение пятен?
Ненадолго ещё вернусь к этому времени до-картин, к своей личной небольшой «вечности», к личному своему «белому безмолвию» (если воспользоваться выражением Джека Лондона). К «белому безмолвию», вдруг свалившемуся на дитя малое, неразумное! Но этот, самый беззащитный, период, это моё смутное время (или безвременье) – до первого освоения первых картин на стенах – мне долго вспоминать всё же не хочется. Задержусь лишь на том, как жадно я хваталась за первые образы бытия, на собственном горьком опыте успев понять, что всё самое страшное идет от бесформенного или неопределенного.
Итак, при всяком новом начале ночи я обычно боялась даже шума в собственных ушах, похожего на глухой стук; шума, которого не слышишь, пока не припадёшь ухом к подушке. Поэтому я избегала припадать к подушке ухом, – а на одном затылке долго ведь не продержишься. И наконец придумала остроумный выход! Я уже знала от родителей кое-что о таких людях, как солдаты. (Как это хорошо – хоть что-нибудь знать!) Знала и о военном барабанном бое (почти уже эрудиция!) и, чтобы дальше не опасаться ночного шума в ушах, придумала, что это не шум никакой и не стук, а это… солдаты, поместившиеся у меня в ушах (и, должно быть, маленькие, точно атомы!), бьют в барабаны!
Первое представлениеспасало и выручало. Я успокоилась. Тут и вообще догадалась, что для преодоления неназываемого белого безмолвия надо обязательно что-нибудь представлять.
Что же мне представлялось ещё – на той ранней заре «туманной юности»? Кажется, следующим этапом было раздумывание перед сном о микроскопических китайских водоносах (или разносчиках, это вернее) с корзинами на коромыслах (коромысла-то и повинны, что корзины я путала с вёдрами!), и у каждого китайца на голове была конусообразная шляпа. Разносчиков этих я пронаблюдала на развороте (не это ли называется «фронтиспис»?) в одной из домашних наших китайских книг. (Папиных, подаренных маме, желтых, синих и других толстых книг о Китае.) Крошечные китайцы, все одинаковые, располагались на одинаковом расстоянии друг от друга примерно в шахматном порядке. Фигурки были так малы, что до сих пор в толк не возьму: как при таких, едва видимых, средствах выражения могли они изобразить, – все разом полуотвернувшись, – столько буддийской невозмутимости! Рисунок весь был выдержан, если я правильно помню, в коричневатом или бронзово-зеленом (не настаивающем на себе, но незаметно всепроникающем) цвете-вздохе. Я всё размышляла на ночь: какую бы задать им, этим китайцам, работу в моей неопределённой сказке? Они подталкивали меня на какой-то героический шаг воображения. Но оттого ли, что все они стояли полуотвернувшись (а для новой работы – у них и так уже все руки были заняты!), или по малости лет моих, – кончалось всё лишь тем, что я засыпала.
Помогал мне и Театр Одного Зрителя, – как потом я это назвала, записывая некий сон.
Окна дома напротив, освещенные таким же электричеством, как наше, были у меня перед сном (всё перед тем же сном!) прямо перед глазами. Я не вдруг догадалась, что их можно использовать как театр, но, едва сделав это открытие, с живостью сняла помещениеи немедленно включила его в моё первое «Хлеба и зрелищ!». Правда, это был всего лишь Театр теней, но ведь это даже ещё лучше; театр не-теней, а людей, как есть, я могла видеть и днем, сама сколько-нисколько принадлежала к этому дневному нетеневому театру. К тому же дневных – светообъёмных – людей я часто дичилась (конечно, если это не свои были), а перед силуэтами можно было почти не испытывать робости. Я, конечно, не могла ещё знать, что такое «Театр теней», но когда в окнах напротив, на опущенных, но желтовато просвечивающих шторах, появлялись, исчезали, а потом опять появлялись движущиеся тени людей, я, лежачий зритель, преисполнялась к ним каким-то особенным, не дневным, мечтательным интересом. И любопытством, начинавшим помаленьку уже исключать из моей жизни страх. Так через силу, но неуклонно отвоевывала я первые дюймы площади у белого безмолвия. Картины на стенах… Но, впрочем, теперь, когда позиции мои сколько-то укрепились, когда, по меньшей мере, по доброму взводу солдат поместилось у меня в каждом ухе, чтобы перед сном барабанным боем отпугивать злых духов и вообще – неприятеля; теперь, – ободряемая микрокосмическими китайцами и развлекаемая силуэтами, – я, кажется, могу и отсрочить описание картин, украшавших стены нашей квартиры. Да и вообще негоже так много внимания уделять своей личности, так долго валяться в кровати; положение, при котором разглядыванье картин обретает уже оттенок нахальной праздности…
Отец мой, Николай Николаевич Матвеев (по псевдониму – Бодрый), по моим всегдашним (времён детства) представлениям имел – при любых переменах – три основные должности: историка, лектора и партийного работника. Лишь много позже я поняла, что отец не просто историк, но и краевед(хотя любимый предмет и любимая тема его краеведения – Дальний Восток и Сибирь – исстари переполняли наш дом: рукописями, фотографиями, вырезками, книгами, открытками). Коммунист? Это бы я тоже ещё как-нибудь поняла, не будь при этом слове сопутствующего (и всё – путающего!) «партийный работник». «Докладчик»? Ну, это для того, что взрослые очень умны и мудры, а я не должна даже надеяться во всём так легко разобраться. Иное дело – «лектор»! Значение этого слова дошло до меня почему-то очень рано, а дополняющее «оратор»звучало даже ещё лучше! «Оратор»! – что за чудесное слово! И замечательная должность какая! К этому выводу я пришла (в большой мере) самостоятельно, отдельно и тайно от всех. Одним словом, не у всех детей отцы – лекторы. А нашего – разбуди в три часа ночи – так он тебе сразу лекцию прочтет!
Как человек сугубо увлечённый, энтузиаст во всем, к чему был привязан воспитанием и средой, идеалист в чем-то – до пылкого ослепления, отец даже нам, своим детям, стремился внушить почтение к тому, что он считал романтикой революции. В повести Максима Горького «Детство», как мы все это помним, у деда Каширина был свой Бог, – карающий и якобы беспощадный. Зато у бабушки героя повести (в наше время почти такой же знаменитой, как сама Арина Родионовна!) Бог был, как мы знаем, другой – добрый и всепрощающий. Всё так. Но вот ведь и революция была – у кого какая! Тоже не у всех одинаковая. Если взять её в мечтах, а не в практике (на которую рано или поздно, а у всех людей, точно у кукол хлопооких, должны были раскрыться глаза), то и она, революция, – у кого была карающая, у кого – всепрощающая. И у отца моего была как раз эта, вторая. Не только принципиальная, доблестная и честная, но и – (как сам Господь!) – добрая и милосердная, одно слово – «гуманистическая». Во всяком случае такою её отец видел, потому что имел в виду её первых авторов, – давних, далеких, и её, так сказать, посылы, а не ссылки её и не начинавшиеся последствия.
Его зрение было приспособлено видеть лишь Идеал Коммуны; при всей его умной наблюдательности его глаза не были так устроены, чтобы в обожаемой Коммуне быстрее и раньше всех других начать замечать неладное. «Беззаветная преданность», «беззаветное служение» – вот понятия, смолоду прижившиеся в его словаре и звучавшие в его устах кристальной искренностью и честностью, тем более несомненными, что на своих убеждениях он не только ничего не нажил, но и категорически не хотелнаживать.
С каким высоким воодушевлением он произносил своё любимое четверостишие из Гюго!
О Родина! Когда без силы
Ты пред тираном пала ниц, —
Раздастся песня из могилы
В ответ на стоны из темниц!
Каким громоподобным делался его голос на двух вторых строчках, каким ликующим ударением он подчеркивал слово «песня»! И – с глазами, сияющими верой (и непобедимым добродушием!), – крепко сжимал кулак… Все тираны оставались для него, конечное дело, в прошлом. (В настоящее забредали оттуда разве лишь отдельные горькие недоразумения!) И никакие обстоятельства не властны были своротить отца с однажды (в прекрасной, отважной юности) избранного им пути.
Мама – хотя и находилась под явным политическим влиянием отца (особенно в молодости, что и отразилось на молодом её творчестве) – всё же, чем дальше, тем больше склонялась к скептическому пересмотру происходившего. И уж во всяком случае критическому.
Думаю, что в юности моих родителей наверняка был какой-то период их совместного поклонения героической поэзии Гюго. Медленно, бережно, издалека мать начинала – с какой-то печальной важностью (вроде бы вообще ей не свойственной):
На баррикаде,
кровью залит ой,
Ребенка лет двенадцати
С толпой
Других бойцов – солдаты захватили…
Даже т о, как произносила она первые два слова: «На баррикаде…», – вдруг пригвождало вас к месту. И запоминалось уже на всю жизнь. Речь, конечно, о чуть более позднем детстве (не из этой главы), но именно тогда, в детстве, был мне первый спазм; первый перехват горла перед явлением настоящей поэзии. Виной – не только сами (вышеприведенные) стихи, но и то, как читала их моя мать.
Все чтецы-декламаторы (в том числе и те, которые считаются лучшими), все, кого мне ещё доводилось слушать после знакомства с декламацией моей матери – декламацией баснословно-богатой и недосягаемо-простой, – все они показались мне потом такими суетными, словно бы не читали, а торговали искусственными павлиньими перьями… (Естественные павлиньи перья я никогда не ругаю; их, во всяком случае, никто не подделывал.)
Возможно, я была к большинству артистов несправедлива. Но ведь меня и самоё – как подменили! Если так можно выразиться, мой слух был навсегда испорченмузыкой Идеала и ничего иного больше не принимал.
Разумеется, баррикады Виктора Гюго (всегда общечеловеческие, никогда не сектантские) никак не могли бы развести отца и мать на два враждующих лагеря! Поэт вообще никого не разъединяет. И в этом подобен тому Небесному Коню (из поэмы Ивана Киуру «Скакун»), который – конь – говорит:
Я дружбу сеял. (Пусть вражду
разносит подлый раб!)
и который (конь) объединяет и связывает гору с горой, город с городом и со страной – страну… Но ведь известно, что не одни великие поэты и небесные скакуны в революциях бывают замешаны, иначе революции не приводили бы не только к семейным, но и к мировым «размолвкам»… (А прежде всего – они ведь и сами бы не понадобились, революции эти!)
Итак, мама далека была от восхищения существующим строем. Она принимала его принципы, но в их так называемом воплощениивидела много порочных мест. О Сталине она говорила: «Как же ему можно верить, если он сампозволяет себя называть „великим“?!» И произносила она это таким спокойно-презрительным тоном! – пренебрежительно-ровным, без повышений и понижений. Помню, отец, отвечая ей, ссылался на то (железное и впрямь!) обстоятельство, что льстецы не спрашивают: называть ли и кого им называть «великими»; что это они делают обычно «по собственной инициативе», но… слово за слово – и у матери с отцом доходило даже до ссоры и полного разруга. Отец уходил, хлопнув дверью…
Тут я, конечно, опять забегаю вперед: говорю не о детстве из этой главы, но о более позднем, чуть-чуть более понятливом детстве. А натурально, я ни в какие времена не любила обстановки размолвок! Мне гораздо больше нравилось то, как все мы «чайпили». (Не «пили чай», а именно – в одно слово – «чайпили»: – «Ты почайпила?») Нравился мне и час, когда мы находились всего лишь где-то на подступах к этому дальневосточному священнодействию. И папа, шумя новой газетой, читал её то про себя, то (в особенных для него местах текста) – вслух… Или с живостью рассказывал последние новости, витающие внегазеты, но как бы слетавшиеся на её шум, и – с непременной доброжелательностью, а то и с восторгом – называл имена своих (общих с мамой) друзей и знакомых.
Впоследствии мама рассказала мне – как ретиво и сосредоточенно я участвовала в малолетстве в семейных чаепитиях. «Ты пила чай до тех пор, пока на носу пот бисером ни выступал». Между прочим, я и взрослая сохранила верность ордену знаменитых «московских водохлёбов». Но всё-таки я не знала, что вступила в него так рано и так рьяно! И свидетельство матери было для меня некоторым образом неожиданностью. Помню ещё, что (периодически) на наших семейных чаепитиях кто-нибудь из взрослых произносил: «Чаепитие в Мытищах!»
Как сейчас помню, отец никогдане отмахивался от нас, если мы начинали приставать к нему со всеми этими нашими «где», «когда», «кто», «как», «почему» и «зачем», а терпеливо, охотно и весело разъяснял нам любой, приличный для наших калибров, вопрос. И – никогда никаких «некогда мне тут с вами» или «вырастешь, Ваня, узнаешь».
Конечно же, даже такие две маленькие завзятые эгоистки, какими были мы с сестрой (во всяком случае за свойэгоизм я ручаюсь!), будучи и постарше и поумней – могли бы заметить (по той усталой рассеянности, с какой подчас отвечал нам отец), что ему бывает и не до нас. Но… «Сестра и я вопрос возводим на вопросе: / Нас потрясает мир и все, кто в нем живет», – как сочинила я впоследствии… Потому что у нас хватало нахальной дерзости даже удивительную рассеянность отца относить к полю чудес и новооткрытий света. Как пеликан, говорят, питает своих детей собственной кровью, так даже отдельные незадачи наших родителей, казалось, питали нашу неутомимую пламенеющую любознательность! Лишь до открытия сострадания нам было не в пример далеко, – да и что мы в ту пору могли по-настоящему понимать?! Но зато мы сразу учуяли, что отец наш в чем-то и сам – дитя, и, собственно, наш товарищ. И что при всей глобальности обуревавших его взрослых забот и проблем он, может быть, и сам рад бывает отвлечься от них на наши, не такие серьёзные, но зато куда более светлые, занимательные, весёлые… (Какими они ему несомненно казались, какими показались бы теперь и нам самим!)
Иное дело – мама… «Мир, и все, кто в нем живет» продолжали потрясать нас на каждом шагу, но если, к примеру, была у матери в руках в это время тряпка или швабра или она занята была стиркой-мойкой, а то даже и просто книгой (вот ведь где, кажется, отвлекай-не хочу!), она без обиняков и околичностей указывала нам прямо в глаза на всю несвоевременность наших утомительных приставаний и решительно прогоняла нас прочь. Так что в следующий раз мы уже не смели приступаться к ней, заведомо не обдумавши всех положений и не взвесивши предварительно всех обстоятельств.
Правда, и тут не всегда всё было так плохо. Именно благодаря своей неровности, порывистости мать весьма неожиданно могла сменить гнев на милость, да так, что даже худший случай здесь выглядел хорошо. Нет, наше «спрашивай – отвечаем» могло всё равно не состояться. Но были всё-таки мы довольны. И не потому даже, что мать прогоняла нас теперь более приветливо, а потому, что при этом она примолвливала словечки, – всегда какие-нибудь интересные!
К примеру, вместо: «Идите, играйте» – она говорила: «Идите, играйтесь!» К тому времени мы уже отлично знали, что слово это не так произносится, и я хорошо помню первую оторопь своего удивления. Но ведь при усилии можно было догадаться, что мама так странно говорит – «понарошке». Так или иначе, а ни у кого из детей не было – в их семьях – такого словооборота, а у нас – был! Следовало принять его и оценить.
Явно под влиянием этого маминого «играйтесь» (вместо «играйте») мы с сестрою и сами изобрели вскоре новое словоупотребление: «живется» вместо «живет». И однажды, вернувшись с улицы, к немалому, видно, удивлению матери, грянули «хором» – прямо с порога – песню нашего собственного изготовления и следующего глубокого содержания (петь размеренно, четко):
Пьяный дурак живется в тряпке!
Пьяный дурак жи-вет-ся в тряпке!
Грянули именно «хором», мощным и торжествующим, так как не понимали ещё, что такое «дуэт», и даже совершенно бесповоротно были убеждены, что вдвоем-то и осуществляется всего успешней могучее хоровое исполнение! Даже не берусь теперь разобраться и рассудить внятно, кто из нас был первый поэт-зачинщик. Скорее всего, мы и сложили-то его «хором» – это произведение, состоящее из единственной, но с жаром повторяемой строчки! И «музыка» у нас тоже была своя; тоже являлась конечно же результатом внезапного, как нападение, коллективного вдохновения нашего. И этот никем как следует не предвиденный вклад наш в песенно-исполнительское искусство не может сейчас не напомнить мне «Петрушку и вора» – небольшую поэму Ивана Киуру и то место в ней, где Петрушка взывает к вору:
Пой, братец, пой! Искусство душу
Тебе немало облегчит
И всколыхнет моря и сушу, —
Злодеев мира обличит!
И хотя речь тут идёт всего лишь о блатной песенке вора, которую наивный Петрушка воспринимает слишком серьёзно, – что с того?! Ведь главное – энтузиазм! Переходящее, так сказать, знамя энтузиазма, – если уж не исполнительского, то слушательского…
Подобно отцу, мама никак не чуждалась ребячливости, игры, проявлений веселости. И всё, конечно, кончилось тем, что она… подхватила напев (здесь разумею напев «Пьяного дурака»). Скроив себе другое лицо, а голосом – негромкоизображая безобразную уличную громкость «исполнения», она оказала-таки поддержку нашему начинанию! Лицо она «сделала» себе, как сейчас помню, нарочно-заспанное, я бы сказала, дерзко-невыспавшееся, взгляд – вызывающей-тусклый и (пользуясь её выражением) рот «кошельком». Московская квартира огласилась разудалыми звуками. Теперь «хором» пел уже не дуэт, а целое трио!
А надобно вам сказать, что в ту эпоху совсем неизвестно было такое явление, как (лишенное истиннойдетскости и настоящей – честертоновской– Игры) массовое паясничанье взрослых. Мать и отец никогда не паясничали, они были попросту веселы. Они были слишком благовоспитанны для того, чтобы ёрничество и возмутительное немилосердное кривлянье (какое мы видим сегодня вокруг) считать очаровательным и приличным. Не имея к таким вещам никакой охоты и склонности, никогда не разрешили бы они кривляться и детям своим. Обладая хорошим вкусом, оба они отлично понимали разницу между природным артистизмом и развязностью, между безобидным озорством и вульгарностью, между искусством весёлости и эстетикой бесчинств. Но их собственный природный артистизм, но их собственная живость, весёлость, непринуждённость выглядели – при тогдашних формах жизни – точно какой-то одинокий и опасный подвиг. И это вот надо особенно отметить!
Теперь, время спустя (большое довольно время!), я, кажется, начинаю постигать: почему родители мои не нравились ни мелко-среднему преуспевающему обывателю, ни покровительственно рокотавшему совбуру высоких рангов. В обществе свирепствовала тогда ханжеская благочинность, так же, как, впрочем, и коровья мода на светскость. Куды! Даже ещё и на чопорность. Конечно, и то было хорошо, что люди у вас на глазах не кривлялись. Но зато они сильно ломались, то есть необыкновенно важничали! Всё это, разумеется, была только внешность, рваная маска; поминутно падая, весьма плохо прикрывала она образину лукулловых пиров, разнузданных оргий. Но моим родителям от этого было не легче (даром, что они и вообще тут были ни при чем!). Свобода и простота, с какой держались они, пролетарии разэтакие, необеспеченные, всерьез верившие (даже мама!) в великое донкихотское пролетарское счастье впереди, – не могли не приносить им всё новых и новых неудач. Сколько помню, родителями моими всегда были остро недовольны как власть предержащие, так и восторженные прихлебатели оных.
Бесконечная творческая фантазия моей матери распространялась часто и на быт – сказывалась в ухищрениях, применяемых ею к домашнему хозяйству. И нередко скучная житейская польза («Ему бы пользы всё!..»), приходившая к нам не просто так, а через хитроумную выдумку матери, – тем самым становилась для нас и веселой и праздничной. (В худшем случае – сносной и не такой противной!)
Мы жили на улице Кирова. (Отец и мать, правда, продолжали называть эту улицу по старинке: «Мясницкая».) Жили на четвертом этаже, но мне казалось, что мы располагаемся где-то очень, очень высоко. И я этим была вообще-то довольна. Наша квартира, лишённая вспомогательной площади – (все подсобные службы вынесены были за скобки коммунального житья, в колоссальный тусклый коридор, в общую кухню), – состояла из двух комнат. В светлой, сильно продолговатой задней комнате была наша с сестрой детская, она же и спальня. А в квадратной (и темноватой) другой комнате, снабжённой выходом в широкий мир – в коридор то есть, находилось всё остальное. (Запомнившееся больше всего как папин кабинет.) Подозреваю теперь, что в наших окнах тогдашних… не было форточек! (Или не везде они предусматривались по архитектуре?) Во всяком случае мы, во время нашего самого раннего детства, форточек не видывали. Иначе, с нашей наблюдательностью, мы бы их на всю жизнь запомнили! Не потому ли и Надежде Тимофеевне, нашей матери, для того чтобы «открыть форточку», приходилось отворять всё окно целиком? И даже, кажется, выставлять обе зимние рамы враз – в зимнее время! Чтобы как-то подготовить нас к столь разительной перемене климата в доме, а главное, чтобы не простудить нас, мама придумала следующий фокус. «Вы будете сейчас дома гулять», – обращалась она к нам, детям. Или ещё так: «Сейчас на домашнюю прогулку пойдём». Быстро и решительно она одевала нас тут в тёплые зимние пальто, в тёплые шапки-капоры, обматывала вокруг наших воротников тёплые шарфы («Шарф ты носишь, как хомут!» – говаривала она в других случаях папе) и даже варежки не забывала всучить нам для завершающего штриха. И только тогда начиналось проветривание, чем-то похожее на тайфун…
Гулять – а дома! Дома, а – гулять! Вначале это было ново, свежо, а при повторениях – всё равно свежо, во всех смыслах свежо! и всегда интересно! Опять-таки я догадывалась, что не у всех такие порядки, что это только у нас, и (почти ещё подсознательно) гордилась изобретательностью нашего рода, чуждого низости предрассуждений! И вот мы начинали расхаживать вперед и назад по комнате, закутанные, как снеговики, и, вероятно, очень серьёзные, – делая вид, что «гуляем». И в первые минуты было весело (не по-бытовому, а по-событийному!), однако же сравнительно скоро я начинала уставать от какой-то, что ли, малосодержательности и недоконченности приключения, от неизбежного «ну и что», уже видневшегося – так ясно! – в конце «путешествия» нашего. Всё это было, конечное дело, прекрасно, превосходная «дома – а прогулка», но не хватало «изюминки», «соли», «искры», «гвоздя» и «зерна», и «чего-то», а главное – новых, ещё не известных достопримечательностей по сторонам. Не было чего-то, из-за чего стоило пускаться в Путь, и как ни был он быстр, короток, а наскучивал мне ещё быстрее. А ведь и то ещё следовало учесть, что при всей оригинальности наших домашних прогулок их нельзя было назвать даже уютными. Слишком свистало бесприютностью из большого окна в конце длинной, как чулок, детской комнаты; слишком открыто несло морозом, шумело, бубнило и как-то буднично ослепляло изнуряющей белизной бессолнечно-яркого (так мне запомнилось) – дня. Приходилось радоваться, когда мама закрывала окно, и воздух в комнате успокаивался.
Но предпочитала ли я той, до каких-то минут всё же интригующей, домашней прогулке – прогулку уличную, настоящую? Нет, как ни странно! Покуда сестра моя мало-помалу (а лучше сказать, много-помногу) превращалась в неуёмную добровольную бродягу, я, коли случалось выглянуть, выйти в широкий мир, – в тот же миг торопилась убраться восвояси, то есть обратно домой. Далее – ужас и смятение становились моим уделом, если дома шла уборка и мама прогоняла меня опять на улицу! Дело в том, что я сызмалетства была всегда человеком сугубо замкнутым и львиная доля моего «утра жизни», особенно раннего, была буквально отравлена нахальным присутствием во дворе и на улицах – разных «чужих» людей. Моя немыслимая застенчивость, нестерпимая дикость, как сейчас помню, делала для меня заведомо ненавистным всякое проявление внимания взрослых ко мне – на улице. (Почему-то именно – на улице. Дома – не так. Дома благодаря защитному присутствию родителей, а также их смелости, естественности и природному такту, я даже успела привыкнуть к некоторым из наших взрослых гостей.)








