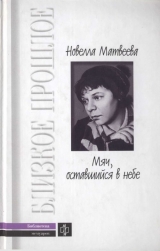
Текст книги "Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи"
Автор книги: Новелла Матвеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В гости к нам довольно часто заходил некто дядя Захар (которого я почти сразу же окрестила по созвучию дядей Сахаром. А будь он Глебом, – мне ничего не стоило бы прозвать его дядей Хлебом!). Другим нередким нашим гостем был виртуоз-балалаечник дядя Лёня. Ещё один дядя Лёня, заглядывавший к нам на огонёк, отличался в моих глазах главным образом тем, что на балалайке он не играл. Я так и называла их (чтобы не спутать) дядя Лёня-С-Балалайкой и дядя Лёня-Без-Балалайки.
– Кто без нас приходил? – спрашивали родители.
– Дядя Лёня-С-Балалайкой.
(Как если бы эта балалайка всегда находилась при нем! – обедал ли он, «чайпил», спал, клеил обои, чистил зубы или шёл, например, на службу!)
– А сегодня кто у нас был?
– Дядя Лёня-Без-Балалайки.
(Словно отсутствие у какого-либо лица этого музыкального инструмента нужно было понимать как самую отличительную черту его натуры. Словно человек без балалайки – это вроде как «большой, а без гармошки». Словно таковая безбалалаечность непохвальна. Хотя обозначение было, конечно, условно и в сущности-то никакой кривой смысл в него не вкладывался.)
Дядя Лёня-С-Балалайкой был молодой человек с маленьким лицом, всегда выражающим крайнюю благожелательность, предупредительность и чистосердечность. Но эта усиленная учтивость, этот всегда чуткий наклон к собеседнику, пожалуй, не означали ничего особенного, кроме обычной вежливости, а вообще-то – подозрительно походили на простодушную выплату отступных всякому, кто не обидел. Всякому, кто не отнял у него – у дяди Лёни – его заветный музыкальный инструмент, а ведь могли бы! Многие могли бы! Казалось, под видом учтивости (и якобы толькоучтивости!) на лице его отражалась тревожная обязательность благодарностивсему свету за то, что ему позволено заниматься любимым искусством. Потому что по-настоящему он думал только о балалайке.
Склонив голову чуть-чуть набок, он слушал вас, как бы говоря: «Я весь – внимание! Какие удивительные сведения! Надо же!» Но вы могли поклясться, что ничего-то из сказанного вами он не понял и ровным счетом ничего не слышал, так как мысли его находились в это время в довольно-таки далёкой отлучке и даже, лучше сказать, в самоволке! Отсюда и некоторая виноватость в его лице – да, именно отсюда, а не от недостатка гордости. Музыкант не прислуживался, он – прислушивался. Не к вашей речи (отсюда и виноватость!), а к внутренней музыке, – обдумывая заранее всяческие ходы её, каскады, пассажи… Мысленно – уже давно играя…
Со всем тем он был, кажется, очень привязан к нашей семье, тем более что у нас его слушали и признавали. Очень возможно, что отец открыл его в каком-то кружке самодеятельности и, разумеется, с той же минуты начал, по своему обыкновению, поднимать, выявлять для всё более широкой публики ещё одно неизвестное дарование. Недаром же «Тянулся вслед за ним» (то бишь за отцом моим) «всегда и млад и стар!». Недаром —
Все, кто не знал, как быть,
Кто в чем-нибудь нуждался,
Кто денег не берёг, удачи не дождался,
Все шли к нему. И всем он помогал, пока
За ним не прижилось прозванье «чудака».
Ибо помощь богатого бедному называется всегда «меценатством», а помощь бедняка бедняку почему-то «чудачеством». С чего бы это?
Который-то из двоих дядей Лёнь носил, смутно помнится, длинное тёмное кожаное пальто. Вероятнее всего – дядя Лёня-Без-Балалайки! Потому что в человека в кожаном пальто до пят и с балалайкой в руках я что-то никак не могу поверить! В жизни, конечно, чего только не бывает, но, не соблюдая заповедей, люди всё же стараются соблюдать – каждый свою стилистику.
Кажется, этотдядя Лёня был несколько замкнутый, даже суровый. А может быть, и не был. А может быть, у него и скулы были кремнёвые? И, если уж о стилистиках, – то и наган в кармане? Может быть, да, а может быть, и нет. Теперь мы, конечно, превосходно знаем, что за типы разгуливали некогда в кожах! И всё-таки я не могу дать расписку с печатью в том, что дядя Лёня-Без-Балалайки был тоже из их числа. Как-то не хочется ни на кого (ни с какой стороны) возводить поклёпы. Ну и что же, что в кожах? Платье обязывает, но не настолько же… Если же и ходил к нам какой-нибудь «Природы праздный соглядатай», изучавший моих родителей на предмет посадок, то он как раз не обязательно был так уж строго подстилизован под носителей кожаных тужурок, и, главное, это совсем не обязательно был дядя Лёня-Без-Балалайки.
У меня плохая память на лица, но довольно хорошая – на выражениялиц. Настолько, что – по одному лишь выражению – я снова и само лицо могу вспомнить. Не такое простодушно-проникновенно-учтивое, какою являлась круглая физиономия дяди Лёни-С-Балалайкой; более бледное, продолговатое, городскоелицо другого дяди Лёни злодейским не было тоже. Ручаюсь, что и на нём не было ни плутовства, ни угрозы, ни спеси (так свойственной соглядатаям-провокаторам, потому что их непочтенное занятие требует от них особо-возвышенного внутреннего оправдания, которое им довольно легко для себя придумать). Словом, лицо было как лицо. Или я ничего не смыслила в лицах (а теперь – ничего не понимаю в делах ребяческой интуиции, почти всегда безошибочной. И даже иногда пророческой! Чему надеюсь привести в скором будущем красноречивый пример).
Итак, я не сохранила впечатления, будто те наши гости ходили к нам с низкой целью. Да и, собственно, что с нас было взять?! Будь мой отец костеровским Клаасом [8]8
Клаас– персонаж из «Легенды об Уленшпигеле» бельгийского писателя Шарля Де Костера (1827–1879), отец главного героя Тиля Уленшпигеля; был сожжен на костре как еретик по доносу соседа (старшины рыбников), позарившегося на его имущество. Тиль носил на груди мешочек с пеплом отца, повторяя: «Пепел Клааса стучит в моё сердце».
[Закрыть], вряд ли бы костеровский рыбник побежал доносить на него инквизиции – ради вознаграждения в виде двух наших столов, нескольких наших стульев да папиного архива, ценности коего не понимал в то время никто, кроме нескольких специалистов-дальневосточников… Правда и то, что уже надвигались облавы обвальные. Правда и то, что где-то совсем близко от нас аресты превращались уже в чистейшее «искусство для искусства», от которого никакое пролетарство, никакая бедность никого уже защитить не могли. Но случай всё ещё миловал нас. До поры до времени…
Теперь я думаю, что дядя Захар мог иметь некое отношение к организации папиных лекций. Не лишено вероятия, что у нас дома он и отец обсуждали именно это. Но для меня осталось загадкой: почему же таким неуверенным «на лицо» и не преуспевающим вообщевыглядел этот человек? Его сложение было даже дюжим, но, как сказал бы истинный романист, отнюдь не «дышало силой». Он носил военную форму, но казался нескладным, да и форма была какая-то выгоревшая. Бритое его лицо, сырое и рябоватое, казалось тяжёлым книзу, а высокий чуб (или – как там называется кипа волос, похожая на картонную, потому что она никуда не падает?) продолжал его физиономию далеко вверх. Седине приходилось чуть ли не приступом брать неколебимую причёску дяди Захара. И, одним словом, на вид это был типичный служака-организатор, если не служака-хозяйственник, – бодрящийся, безропотный, деятельный, но… неуловимо всё-таки невезучий. Был ли он «честный и смелый», как «парень» из песни или как мой отец? Не знаю. Я только догадываюсь, что это был человек, принимавший имперскую службу очень всерьёз, как большинство рядовых сизифов-энтузиастов того драматического периода.
Делается похоже, что по запомнившемуся выражению лиц я (как некий перевернутый Кювье! [9]9
Жорж Кювье(1769–1832) – французский зоолог, реконструировал строение многих вымерших животных.
[Закрыть]) могу восстанавливать не только лица, но и фигуры! Если, конечно, я действительно восстанавливаю их… Но ведь даже и за то не могу поручиться, что в вечер (о котором речь впереди) все здесь отпортретированные (зато, надеюсь, не третированные!) были у нас в полном составе. Как не возьмусь и утверждать, что не было среди них и ещё кого-то, – нашей, например, соседки Берты… Как бы там ни было, никто из этих людей конечно же не заслуживал участи, какую я для них приуготовила!
…И вот гости собрались. И когда все они особенно оживлённо разговорились между собой и меньше всего ожидали удара, я пронзительным голосом, перекрывающим все голоса, враз потребовала прогулки. Как предсказано уже, – на своем новом наречии. И – в одно только слово!
На мгновение всё замерло. А затем…
– Деточка, деточка, да как жетак можно?! – поражённой скороговоркой и с сильным ударением на «как же» заговорил отец.
– Кошмар! – вскричала мама. – Кто это, интересно, её научил?
Родители были ввергнуты мной в смятение, в настоящую панику! Но негромко и холодно, почти лениво прозвучал вопрос к ним одного из гостей:
– Где она у вас это слышала?
Я смутилась. Во мне с глупостью уживалась всё же некоторая сообразительность, и я превосходно уловила это вот самое «у вас». Я его даже отдельнопро себя отметила. И показалась я себе тут настоящей злодейкой – хуже, чем предательницей своих родителей! Предают ведь то, что есть. Предают скрываемое, но все же имеющееся в наличии. Тогда как я, получается, попросту оклеветалаи отца и мать! Я возвела на них ни за что ни про что совершенно удивительную напраслину! Да, случалось, что при мне они спорили. Иногда даже очень сильно! Но кому, как не мне, лучше всех было знать, что подобных слов – даже в крайней горячности – они не употребляли никогда! А теперь гости подумают, что я слышала это – от них! Теперь всё время так будет считаться! Я была не на шутку огорчена, сконфужена, пристыжена. Вот так случай! И до меня вдруг дошло, что не всё из ряда вон выходящее обязательно уже тем самыминтересно, смешно, забавно, остроумно и весело.
– Чтобы это было в первый и в последний раз! – твёрдо сказал отец.
У него, когда он был расстроен, после чеканнейшей речи обычно оставался на языке как бы ещё такой постепенно опадающий и не очень ясный уже речевой осадок. Вроде не вдруг замирающей за горизонтом грозы и в виде одного или нескольких «понимаешь ты» или – «вот те здравствуйте, я говорю… пожалуйста!». Теперь, после своей графически-чёткой мне укоризны он, заблудившись вдруг меж гостями, ходя вперёд и назад и треща пальцами растерянно соединённых рук, всё бормотал: «Воттт ведь понимаешь ли!..» («Вот» – всё ещё громко, а дальнейшие слова – тише, тише, тише, и потом уже без «вот»)… Мама, по-видимому, пыталась как-то объяснить гостям случившееся. Я – совсем поникла и приуныла. И как было не сникнуть? Получалось, что маленькая девочка из интеллигентной семьи выругалась, как сапожник!
Но я смело утверждаю, что это было в моей жизни действительно в первый и в последний раз.
А как же с облагораживающим влиянием той фабрики-кухни, где повара – по совместительству – работали ещё и силуэтами? (За что им полагалось бы, конечно, двойное жалованье – одно светообъёмное, другое – теневое!) Спрашиваю себя и уже не могу поклясться, что замечательный тот поварской танец в окне я видела до, а не послерассказанной здесь хулиганской истории. Но даже если и после, то что с того? Даже и встреча с божеством лишь ненадолго делает человека лучше, – будь он взрослый или дитя. Всяк человек хоть немножечко – да факир, потому что умеет быть плохим и хорошим почти одновременно. «В башке ведь всё перепутано!» – как заметил мне один редактор, отвергая мою распланировку книги, по его мнению, слишком стройную. Я, правда, не совсем согласна, что путаницу в собственной «башке» мы вправе механически переносить в голову читателя. Стремиться-то надо всё-таки к Идеалу! Не надо куражиться над ним только за одно то, что он недостижим! Тем более что это ведь не его вина, а, наверно, всё-таки наша? Но – так как речь тут зашла не столько о желательном, сколько о существующем, то, возвращаясь к сюжетам детства, скажу: мечтать о чудесном я могла само собой, а капризничать, осуществлять деспотизм и хулиганить – само собой.
И потом: почему прекрасное вид ение вечерней фабрики-кухни (даже если предположить за ним силу, «развлекающую поучая») – должно было перевоспитать меня сразу? Наверняка же те фантастические повара изрядно умели приготовлять фундаментальные деликатесы, поварята, быть может, применяли уже волшебную выдумку по части соусов (а силуэты всё это смекалисто сверху перчили), но воспитывать и перевоспитывать сразу– умели на моей памяти… только мои родители.
«Сразу» – это значит вовремя. Воспитать человека рано, а не поздно, это и есть – воспитать вовремя. Но… да не подумает кто-нибудь, будто и меня им удалось отшлифовать на славу! Они просто бы и не успели. Все дальнейшие обстоятельства работали против них.
Осуществляя суворовский переход к следующему сюжету (суть в том, что придётся вновь говорить о вещах серьёзных и трудных), – не сделать ли ещё один, кажется, и необходимый – привал? Довелось мне однажды (по нечаянности, конечно!) сильно развеселить одного человека, сообщив ему, что «данное мне моими родителями аристократическое воспитание не пошло мне на пользу». Учуяв парадокс, он много смеялся. (Что, впрочем, не помешало ему потом обокрасть меня по линии песен, – но это я так, только к слову!) Главное здесь для меня в том, что нечаянный тот парадокс парадоксом почти что и не был! Конечно же, отчасти я пошутила. Но ведь и кроме шуток– я получила недурное воспитание. Но ведь и кроме смеха– я не сумела воспользоваться им как подобает.
Вернёмся, однако же, к нашему повествованию и поведём его не только о родительской строгости.
В живописуемый (а вернее, в скоромалюемый!) период многое по части вылазок и капризов сходило мне с рук. Как младший человек в доме я – до поры до времени – обживалась в системе баловства и поблажек. Но, даже и в том своем полуварварском состоянии, я не могла уж совсем не замечать прекрасных качеств моих родителей – их деликатности, их терпения. И временами вдруг словно бы просыпалась от осаждающих наваждений, чтобы увидеть их лица глазами стыда и раскаяния.
Однажды утром я (в прямом смысле) проснуласьпод впечатлением сновидения, словно нарочно списанного с крымских открыток, хранившихся в домашних альбомах. (То были яркие ялтинские виды, собранные отцом и матерью в память о их путешествии на Юг, – о магнолиях, о купанье, о Байдарских воротах…) Снилось мне, впрочем, уже не открыточное, но своенравно вырвавшееся из всех изображений море. Я давно хотела увидеть его таким: не «заснятым», а настоящим, в натуральную величину, живьём! Таким, каким видели его папа и мама. Но – странное дело! В моём сне оно было не столько широким, сколько… высоким! И лезло ещё выше. И всё крупней клокотало, грозя смыть меня с места. Не на шутку встревоженная его кидающимися движениями, его тяжёлыми взмахами, его слишком быстрым ростом и приближением, – я не успевала заинтересоваться его далью и ширью; взбалмошное, сумасбродное – оно само же и заслоняло свою даль, пугая ею почти заочно, не давая успеть и предположить о ней что-нибудь хорошее…
Южное море? Да. Голубое? Да. Но оно не было голубым по-радостному, оно было скорее лишь взбаламучено-голубым, казалось поднявшим весь ил свой со дна – осадок всех досад… И само дно вывернувшим наизнанку – вверх низом, как святочный тулуп… И даже небо, – неподвижное небо всех снов, – здесь – близкое, знойное, бледное и всё-таки голубое, не могло отразиться в таких волнах лазурью, а могло оно отразиться в них только в желтоватом, грозном и выцветшем виде.
А главное то, что волны – каждая, – поворачиваясь всем своим крупно-клокочущим корпусом, с каждым таким поворотом делались, повторяю, всё выше и всё ближе к моему пристанищу. Лезли вверх, всё вверх, и это было очень страшно! Тем более страшно, что я стояла на верхушке всё быстрее затопляемой скалы. И хотя её желтоватый пористый камень был до уюта прочен, сейчас он поглощался морем на каких-то слишком уж вероломных, бессовестных, сверхчеловеческих скоростях. Мы так не договаривались! Но не было никакой надежды, что эту скалу отпустят.
Я, конечно, и одна не знала бы – что делать в такой обстановке. А тут ещё за моим плечом стоит будто бы моя сестра, преисполненная самой безжалостной решимости столкнуть меня в волны! И вот… она толкает меня! И я кувырком лечу в волны! И… – от того ли, что дальше уже не было перспективы что-либо увидеть, – на лету просыпаюсь.
Я всё ещё была тогда немыслимо простодушна, но не настолько уж е, чтобы не отличать снов от яви (как это имело место незадолго до моей «крымской кампании»). Поэтому я до такой степени быстро сумела опомниться от пережитого страха, что на скорую руку придумала даже способ пересказа этого сна семье, – способ, как мне казалось, очень весёлый. Немного же времени и занял мой пересказ!
– Зязя! – (так величала я свою сестру) – Зязя, – обратилась я к ней, – зачем ты меня в моём сон ев море бухнула?
Кинув на меня беглый презрительный взгляд, сестра не удостоила меня ответом. Едва уловимым и лишь мгновенным было на лице её легкое удивление; очень заметным зато – выражение пренебрежительности. Но отец и мать пришли от моего «пересказа» в совершеннейший восторг! И вскоре мама уже обращалась к соседке с вопросом, вполне риторическим: «Знаете, она чт осказала сегодня, когда проснулась?! – Зязя, зачем ты меня в моём сон е в море бухнула?» «А знаете, что она у меня сегодня сморозила? – вторил маме отец, останавливая по одному друзей, знакомых: – Зязя! Зачем ты…» И так далее, и так далее… Похоже, мой словесный оборот начинал прочно входить в золотой фонд изустных семейных преданий.
Он произвёл действие, на которое – пора признаться! – я как раз и рассчитывала. Но отчего же успех меня совсем не обрадовал? Меня не только не ругали – меня хвалили. Но отчего при первом же звуке похвал я сама себе вдруг показалась отвратительной кривлякой, канальей и фальшивомонетчицей?! Ах! Секрет не только в том, что, приступаясь к «Зязе», я уже отлично знала, что (как сочинила я впоследствии) «Редьку „Ландышем“ не спрыскивают, / Наяву за сон не взыскивают»! А ещё и тем объяснялось моё начинавшееся уныние и самоедство, что я и о том ведь давно уже знала, как произносится фраза «в моём сне». Но вместо верного произнесения я подсунула слушателям ложное «в моём сон е»! Я вполне была властна рассказать свой сон по-человечески. Но вместо этого вдруг засюсюкала, подделываясь под своё детство, как под чужое, и нахально напрашиваясь на восхищение взрослых! Восхищение, которое, оказывается, мне совсем и не нужно было. Больше того, которое теперь так стесняет меня и гнетёт! А будучи взято вместе с восхищением ещё и чужих людей (ну и хорошо, если оно у них хоть поддельное!) – прямо-таки засахаривает меня живьём, как муху в банке с вареньем!
Следя за изменениями в моем словарном запасе, отмечая в нем всё забавное, всё нечаянно-остроумное и, наоборот, возмутительное, требующее немедленного искоренения, на сей раз мать и отец (видимо, по вечной занятости своей) явно проглядели какой-то этап моего языкового развития. Не заметили, что некоторые слова я давно уже говорю, как взрослая. Это-то и позволило мне преувеличить долю моего косноязычия в их глазах. И вот, – всегдашние враги паясничанья и фальши, – на этот раз они попались: приняли мое комедиантство за чистую монету. Тем более – я не должна была их обманывать! И теперь я охотно вернула бы назад, отменила бы свой «пересказ» вместе с его успехом. Да было поздно! Слишком скоро он сработал – этот мой загот-экспромт (если так можно выразиться). И сразу же, в следующий миг – стал ненавистен мне!
(А выражение – за год – экспромт, – то есть экспромт годовой растянутости, всё равно мне напрашивается. Ничего не могу с собой поделать!)
Будь тот мой поступок ложью, – ложью от начала и до конца, должно быть, я созналась бы в этом и попросила у взрослых прощения. Но ложь была частичной, а работа по отпутыванию – (своей ли, чужой ли) – лжи от истины, трудная иногда и для взрослых, ребёнку представляется вовсе непосильной. Ребёнок становится в тупик перед ней, точно перед китайским узором или китайской грамотой. И ещё более непознаваемыми были для меня (чтобы не сказать – остались и до сих пор!) мотивымоей дурацкой выходки. Для чего всё-таки я старалась? Неужели только «для красного словца», для которого уж ведь известно – кого не жалеют?!
И вот мой внутренний голос приказал мне (вместо отцовского голоса) – чтобы и это тоже было в первый и последний раз.
Постепенно родители перестали пересказывать мой сон (и расписывать мою выходку) друзьям, знакомым и малознакомым. То ли случай себя изжил? То ли однажды они всё же заметили, как мало я радуюсь моей неожиданной славе? (Мне даже кажется, будто я помню момент какой-то их молчаливой догадки обо мне! Неужто они взяли и мой внутренний голос подслушали?!) Ну а он? Внутренний голос? Неужели он говорил со мною и о воспитании? О воспитании впрямую, когда с тобой для чего-то суровы? Болтала ли я с ним по-свойски и о воспитании от обратного, когда тебе приветливо верят, а ты этого пока не заслуживаешь? Неужели я была уже так сознательна? Разумеется, нет! Как явствует из рассказанного, внутренний голос уже кое-что запрещал мне, но его распоряжения долетали до моего сознания смутно, как дуновения, и как будто издалека. Да и вообще он говорил со мной тогда не словами. Разве изредка. Гораздо чаще – картинами, вернее даже, эскизами. Обрывками снов, то тяжёлых, как мой крымский сон, то иных. Вероятно, так беседовала с собой непонятная полустихийная девица из гофмановской сказки о Повелителе блох! Но не излишним тут будет вспомнить и Афанасия Фета, который сказал:
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова.
1995








