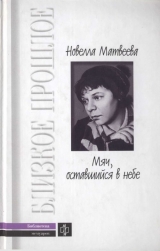
Текст книги "Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи"
Автор книги: Новелла Матвеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Правда, когда я была уж совсем, совсем мала, – меньше копейки, меньше, чем здесь говорится, – тогда я просто не догадывалась, что людей надо бояться. Об этом-то времени сейчас и рассказываю… но уж так получается, что всё забегаю вперед… В описываемый период я всего лишь закладывала фундамент своей невероятной застенчивости на будущее. Но всё-таки была уже где-то на подступах… А предлоги – почему я не хочу на улицу (один другого вдохновенней!) – придумывались как-то сами собой.
То есть они даже не придумывались, а как будто существовали всегда.
– Идите на песок! – приказывала мать и уже вдогонку нам кричала: – Пеките куличи из песка! Играйтесь! Далеко не уходите!
Для игры в песок были у нас даже «формочки», окрашенные снаружи красным, а внутри – натурального деревянного цвета (и даже с завитками бывших сучков), – бочонки, чашки, грубоватые рюмки – и всё для строительства песочных «куличей». Кто не знает нехитрой техники их изготовления?! Захватываете полную форму песку, перевертываете её, но не с воздуха, а к земле впритирку, – и вот вам, пожалуйста, – гладкий, очень красивый кулич… И все же я не любила быть ссылаемой к кому-то там «на куличики». Это казалось мне почти туда ссылкой, «куда Макар телят не гонял»! Ибо счастье пекаря-песочника – в любом смысле – строилось «на песке». Во-первых, из-за ведёрок. Ведь, кроме формочек и совочков, были у нас и ведёрки (железные, по ведру на брата). Голубые, с жёлто-красненькими цветками, на боку нарисованными, и сколько-то даже вместительные. Это, значит, чтобы песок носить. Ну, там, куда-нибудь. Вообще. Таскать и перетаскивать.
Но ведь не зря мы уже обмолвились о непрочности людского счастья. Как часто совочки терялись в песке, либо кто-то бессовестно отбирал их у нас! А чарующие ведёрки выдергивались из наших рук постоянно! (После чего, правда, только и обретали в моих глазах настоящую ценность.) Не помню, как было с формочками, – кажется, грабители их оставляли в покое ввиду почти всегдашней упёртости формы в песок. И потом, эти ярко-красные фетиши в игре были самыми главными и неотъемлемыми – не вдруг-то их у нас выхватишь! Другое дело – все остальные игрушки.
Помню, что за выяснением судьбы наших ведёрок мать даже ходила к соседкам, родительницам охальников-ведрокрадов. Было ли успешным это предприятие, – теперь запамятовала, но здесь была хотя бы какая-то познаваемость. Иное дело – потеря или покража мячей! В связи с ними впечатление глубины пропажи и широты панорамы обиды было гораздо острее и западало в сознание на более долгие времена. Ведёрко – всё где-нибудь там да зацепится. (Это почему-то слегка утешало, даже если ведёрка и не вернуть.) А мяч – он слишком скользкий и гладкий, – укатится – так уж, наверное, за самый горизонт! и ешё дальше… А даже если разыщется – то надолго ли? Иметь его было тревожно. Владеешь им – а всегда как будто не до конца… Ведь сама его форма – укатывающаяся! Так «думала» я. (Но по малости лет конечно же думала не словами, а представлениями, как во сне.)
Итак, выходить на улицу, в мир с игрушкой заранееукатывающейся формы, с игрушкой, заранее как бы замышляющей бегство, – повторю, было очень уж беспокойно. Это был, если не ошибаюсь, не имущественный страх (то есть не за имущество), а какой-то другой… Может быть, страх какой-то несправедливости, начинающей вкрадываться в план судьбы? Или недоразумения, более глубокого, чем кажется при поверхностном взгляде? Мать и отец были так добры к нам, что при всякой потере старой игрушки спешили купить нам новую. Почему же это не утешало? Или так необходим был именно тот, первыймяч? (Особенно, если – мяч?) Давно заметила, что именно потеря мячав детстве есть, может быть, лучший образ потерянности самого детства (но это-то нам ещё только предстояло!), а также и образ какой-то особой томительности раннего детства– то скучной, то страшноватой, а иногда даже и грозной. Во всяком случае для меня это было так.
С потерей мяча для меня было связано впечатление глобальности, великой округлости и необъятной (округлой) неуловимости, и отовсюду скатывающейся недоказуемости и ненаказуемости самой идеи воровства. «Глубокие переживания на мелком месте»? Да, но маленькому человеку (здесь я разумею и ребенка, и чаплинского Бродягу) нетрудно впасть в большое преувеличение. С потерей мяча для меня было связано всё, что заочно-дерзко, загоризонтно-враждебно, непонятно и непоправимо, горестно и невозвратно, и вызывает глобальную неутешность. И оттого, что нельзя было узнать и понять – кто вор (хотя иногда я это знала) и где он – за какими дворами, садами и городскими арками? – терялось понятие о том, где начинается, а где кончается Воровство… С пропажею мяча для меня было связано представление о Воровстве до горизонта и за горизонты простирающемся… Да, Воровство казалось не только пронизывающим всю округу, но и всю землю, всё небо! И – до горизонта и за горизонт – простиралась обида…
«Есть отчего в отчаянье прийти», – как сказал бы Ростан. Но маленький человек вынослив (не то что большой!). И сила, взявшаяся меня спасать, заодно сослужила мне и другую службу… (если это была служба, а не новый ущерб). То есть, вероятно, потеря мячей в детстве была связана с самым первым моим (и долгое время – лишь подсознательным) стихотворным замыслом. (До того ль первым, что, подозреваю, первей даже, может быть, и самого «Дурака, живущегося в тряпке», – вышеописанного однострочного произведения двух авторов, в котором я имею долю по крайней мере на целую половину строки!) Повторю: в малолетстве я не могла знать, что это у меня насчет мячиков – замысел, – тогда это была просто череда горестей. Но через много лет (а именно – к середине 50-х) они стали складываться в большую поэму «о не вернувшемся мяче» – из трех частей: I. «Мяч, укативший в будущее», II. «Мяч, укативший в прошлое» (то есть – обратно в детство) и III. «Мяч, оставшийся в небе».
Увы! Поэму, долго незрелую, до сих пор докончить не удалось. Но в продолжение многих и многих лет я, как-то невольно, – как железо к магниту, – всё возвращалась и возвращалась к теме потерянного мяча, – возвращалась и в стихах, и в прозе… Даже иногда в… интервью! Но в книги (а конкретно – в «Ласточкину школу») вошло только одно стихотворение с мячом: «За санаторием, что скован „мёртвым часом“» 1969 года:
…Не бойся странности, в душе хранимой свято,
Не бойся лестницы, с которой вниз когда-то
Скатился красный мяч, и укатился он
Туда, где страх весны…
(Кстати, единственный жанр, в котором – внутрикоторого – дозволено, я думаю, цитировать собственные стихи, это жанр мемуарный. В других случаях это, наверное, было бы не очень скромно, но в мемуарах бывает даже необходимо. Особенно если сильно придется к слову! Или… если в памяти у тебя застряли подсказанные прошлым опытом соображения будущей безопасности… Опасность в том, что иной твой стих могут «переосмыслить», а проще говоря, – переврать! Между тем, как ни мало ты ценишь свой стих, – ведь что-то в нем для тебя есть, или было, – а здесь тебе предоставляется, быть может, первый и последний случай добыть его из недр полузабвения вместес приставшей к нему почвой – обломком его истинной предыстории! Иди же на это, поскорее цитируй собственные стихи, какие ни есть… Если не хочешь, конечно, чтобы кто-то другой, совсем неожиданный, вдруг начал тебе рассказывать: как, почему, где, зачем и в какой обстановке у тебя они возникли!)
О людях, занятых, по его мнению, пустым делом или пустым разговором, отец обычно говорил: «Они обсуждают внутреннее содержание футбольного мяча!» Боюсь, что и я обсуждаю на этих страницах нутро мяча! – разве что не футбольного. Однако же я до такой степени уже в этой теме увязла, что… не вижу возможности выбраться из неё сразу. (Кстати, мой муж, поэт Иван Киуру, называл это так: «Завертеть всё остальное вокруг чего-нибудь одного».)
«Завертевши» вокруг мяча почти всё остальное, сошлюсь на то, что ведь и вся наша планета была когда-то не больше детского мячика! Покуда, вертясь и вращаясь, не навертела она на себя и «всё остальное», в том числе и всех нас, передвигающихся по её терпеливой поверхности. Нас – горюющих, воюющих, ворующих и опять горюющих, и ворующих снова… И, словом, как сказал – опять-таки – Ростан:
… в бильбоке ему попался
В конце концов весь шар земной.
Но… это-то уже не про нас. Я не знаю, существуют ли вообще дети, которые на одних находках воспитаны. Если так, то это были не мы. Что до нас, то мы росли, воспринимая детство как страну потерянных вещей.
Вернее будет сказать – страна потерянных игрушек, но в детстве игрушки – такие же вещи, как во взрослом мире, и даже ещё крупней! Поэтому мне трудно покончить сразу и с темой крушения куличей (первых иллюзий наших!), с темой ненадежного производства Стройпесок, так близко подползающего к игрушечной эпопее…
Если песок был сырой и – после не очень сильного дождя – даже красноватый немножко, куличи печатались гладкие, классически-правильные, радующие глаз. (Даже оба глаза радующие, сказала бы я!) К сожалению, почти всегда где-то поблизости играло дитё, обуреваемое непреодолимой обязанностью подойти и пинком ботинка (такого же маленького, как твой, но чужого и враждебного!) – развалить гордое сооружение. Тогда же или потом? – не помню, но я догадалась, что по всей Москве, собственно говоря, такие дворы есть, как наш – с одинаковыми песочницами, одинаковыми формочками, одинаковыми ведёрками, совочками и куличами, и что в каждом дворе есть такой же маленький злой ботинок, пинком разваливающий чей-то кулич. И от каждого разрушенного кулича бежит к дому свой незадачливый «строитель чудотворный», «строитель Сольнес», можно сказать, – бежит весь в слезах, с прыгающим от бега криком:
– Ма-а-аме ска-а-ажу-у-у!
И весь этот, – если можно так назвать его, – Стройпесок, и всё это близкое Закуличье наскучило мне, даже как следует не успев понравиться. Ибо, если на то пошло, то ведь и в самом Стройпеске, а не только в происходивших от него неприятностях, с самого начала сидело некое, томясь-изнемогающее, скучное «Ну и что?!». Действительно: вот кулич получившийся, не кривой. Но даже если никто его и не пнёт, – что дальше? Ведь его даже ничем сверху украсить нельзя! – былинку воткнешь, – и уже он весь ползёт, едет… «Зачем воздвигаешь ты чертог, о сын крылатого времени?» (В данном случае – дочь.) И не то чтобы мировая скорбь на уровне Екклезиаста посещала тогда юную строительницу на песке, – нет, конечно. А всё же среди всякой всячины (начисто забытой между предшествующим и последующим небытием) – вдруг – один блиц-кадр, никуда не девшийся: бессмысленное мое сидение перед тем ли сооружением из песка, и моя непродолжительная, можно сказать, перво-последняя и безуспешная попытка его осмыслить. То было неосознанное прощание с изделиями Ближнего Закуличья.
Середина 1990-х
Восстановить в памяти…

Посреди почти космической тьмы неведения, забвению равного и с забвением слитого, тьмы, в которой буквально тонет, захлебываясь, моё раннее детство, есть отдельные звёзды, – внезапные, редкие, но резкие круги освещённого вдруг пространства. Редкое избранное волшебного фонаря памяти.
Помню, как тёмным, – нет, – огнисто-синим вечером отец и мать, а с ними и я вошли в магазин, расположенный в нижнем этаже одного из больших городских домов. (Что за прекрасная это неповторимость! – раннее шкетство с выходом в город и в ночь; к её огням и на её снег – под охраной обоих родителей! Дивное, – ведь больше нигде его нет и не будет, – сочетание Покоя и Приключения!)
Какие-то тени дневного уныния и стеснительности, дневных страхов – всё ещё были со мной; вечерний уличный ветер сначала даже как бы раздувал их и увеличивал, но затем начинал уже сносить, уносить, развеивать. Ночь вообще гораздо лучше, чем день! – думала я теперь. Чего бояться? Улицы пустынные, магазин, куда мы вошли, сначала насторожил, но и тот оказался внутри пустынным, – свободным от неуловимо-иронического давления чьих-то любопытствующих присутствий. Повстречай мы в пути или теперь, в магазине, хотя бы нескольких человек – этого было бы для моей дикарской застенчивости довольно, чтобы вообразить себя ведомой, толкаемой к издевательскому многолюдству на заклание. Но если даже такие, как я, не могли пожаловаться на тесноту и давку, – представим же себе вечерний покой и простор тогдашнего города!
Магазин был большой квадратной комнатой, низкосидящей и плавающей в полумраке, а слева от входа сиял – крупным планом – аквариум с красными и золотыми рыбами. Никогда ничего похожего я не видывала! Родители пошли и полурастворились где-то далеко в сумраке, у прилавка (где был даже, может быть, и продавец, подумывающий о закрытии лавок на ночь). Я же немедленно приковалась (нет, не носом, а только благоговеющим взглядом!) к рыбам, которые довольно смело рассматривали меня в ответном порядке. Я ещё не знала, что такое «аквариум», но общее впечатление от него – стекло, свет, вода, блеск и сияние красок – меня заворожило. Впрочем, скоро из глубоких и далеких теней вышли родители и оторвали меня от рыб. (А ведь отрыв от рыб– неплохая рифма?)
Помню ровные, как линейка, зелено-коричневые детские санки. Если, сидя на них, одну ногу поджать, видно, как внизу, между планками, просвечивает «улица». От рождения я страдаю болезнью Меньера, но, катясь на санках, я даже не догадывалась, что в них меня «должно» укачать! Разгадка же, видимо, не только в том, что санки не трясло, но и в том, что они превосходнейше овеивались и обдувались изобилием безупречно-чистого воздуха и дивным зимним запахом снега, который больше нигде не увидишь и не учуешь так близко, как раскатившись на них.
Спасало от укачивания, конечно, и то, что сопутствующий снег и соответствующий мороз никак не были связаны с давкой любопытствующей толпы, что санки, мчась, не давали злопыхательского бензинного перегара и что – вместо зримого шофёра или невидимого машиниста, одна мысль о которых внушала мне почему-то утомительнейшую ответственность (странно: чем ответственней «пост», тем больше спать хочется!), – санки тащила мама. И тянула она их за обыкновенную верёвку, видимую простым глазом и такую натуральную, что даже немного лохматую. А когда воочию видишь тайные пружины, приводные ремни и поршни, сообщающие тебе движение, – тебя может и не укачать!
Если отец когда и катал меня на санках, то я этого не запомнила. Подозреваю, что мама просто и не могла ему эту роль доверить. Она конечно же опасалась, что моя личность у него сразу же из саней вылетит! И что он вообще потеряет ей ребенка!Точно так же, как «постоянно» терял деньги, пуговицы, платки, перчатки, шапки, и даже однажды – страшно вымолвить! – потерял партбилет!
Помню ещё один зимний вечер… Я еду на санках. Мама везёт. Отстранённый от этой должности, отец шагает рядом. Было, помнится, не столько темно, сколько сине от удачного совпадения первой вечерней мглы со свеженаметённым снегом, по которому там и сям перескакивали и – далеко, широко, – «веером» разбегались от нас цветные морозные искры. (Эффект первых фонарей.) Очень занимательные для меня цветные искры! Но, впрочем, любознательность моя была всё ещё какая-то полудремотная, чем-то недовольная и почти печальная. Да, искры меня даже очень устраивали! Но к ним, по моему почти сознательному убеждению, полагалось и требовалось ещё что-то – важное, главное. Бывает ли оно? А может быть, всего того, что я согласилась бы считать важным и главным, вообще не бывает?
Но тут, справа от нашей тропинки, завиднелось большое, из красных кирпичей (сейчас уже вишнёвых от ночи) выстроенное здание в виде широкой печатной буквы П. «Буква» была открыта с нашей стороны, и вся площадка (да нет, – почти площадь!), образуемая тремя её стенами, была свежезавьюжена не то что «девственным», а даже, я сказала бы, совсем святымснегом. От крыла до крыла строения стихия располагалась большими свободными полукольцами, надвигаясь и на середину. Было заметно, что никто ещё туда сегодня не лазил и там не вязнул (да и куда – к ночи?), ибо чистая структура кристаллов нигде ещё не была нарушена.
Если в окнах обоих этажей и усматривался кое-где свет, то никак не более, чем кое-где. Вообще же здание запомнилось мне целиком погруженным во мрак наступавшей ночи. И только в самой его середине и в самом низу – в центре низа– одно-единственное окно, очень широкое и наверно полуподвальное, откровенно пылало светом, как пещера циклопов! Среди ночи, зимы, бездействия – действующий окновулкан!
И что же я увидела в том окне, сияющем на дне снежной площади? Что увидела я, проезжая мимо по уже синим от ночи заносам? На красно-золотом фоне света-пламени сновали и двигались, что-то делая, повара и поварята в настоящих белых поварских колпаках! В колпаках, расширяющихся кверху так интересно и занимательно! И увиденных мной впервые! То были толстые, тучные (как правило) старшие повара, повара средней комплекции и, как я уже сказала, особо отмеченные восторгом моего открытия малые поварята. Их самихбыло человек девять-десять (и взрослых и детей), но ведь ещё сверх того – их на редкость выразительные тени (как всё ещё крупна была жизнь!) проносились иногда по стеклу, жаром горящему за решёткой, стеклу, – и тогда их полку прибывало! А ведь если отдельно силуэты – хорошо, если отдельно повара – ещё, может быть, лучше, то повара с силуэтами вперемешку, бегающие и как бы танцующие с ними в одной связке, – это уже был верх всего, на что я могла рассчитывать! О, теперь мне их надолго хватит! Теперь я разбогатела, как Рампсенит [5]5
Рампсенит– египетский фараон, обладатель несметных наследственных сокровищ; герой одноименного стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне (1797–1856).
[Закрыть](о котором, впрочем, тогда и не слыхивала). Теперь у меня были (горой противу всех белых безмолвий вставали) не только солдаты с барабанами, но и китайцы, но и силуэты! Не только китайцы и отдельные от людей силуэты, но и повара, тени которых действовали при них же!
И странники бредут по эспланадам
Живые – с нарисованными рядом.
Итак, мой секретный внутренний мир – он не был каким-нибудь вызывающим: он всё ещё никак не шумел, но он начинал заселяться и заселяться всё плотнее, теснее… И окно-театр, в котором живые повара плясали вместе со своими тенями, набегавшими на пламенное стекло – живые с нарисованными рядом, – явилось такой важной вехой моего земного странствия в самом начале его, что, быть может, кому-то это покажется даже смешным. При всех возможных скидках на причуды малолетнего воображения (всё чего-то ждущего, но ни к чему не готового) подобный тип первого «освоенья желтых далей», может быть, и вправду смешон! Порядочные люди, вон, открывают законы, эликсиры, заливы, проливы, острова, земли и звёзды, а я-то открыла… лишь несколько человек поваров, работающих в вечернюю смену, не более! Но… судя по необъятным размерам и высокому качеству моего восторга в тот вечер, я, видимо, всё же узнала тогда: что испытывает про себя настоящий, напавший на новую мысль изобретатель или поражённый великим пейзажем подлинный путешественник,
И как бросается в лицо румянец, —
Когда страну откроешь!
Теперь я, конечно, могу и домыслить, и довспомнить что-то. К примеру, предположить, что в рисуемое время мне довелось наблюдать скорее уж ритм пекарни, чем поварни. А кроме того, вспомнить и позднейшее объяснение матери, что самый высокий и толстый – это шеф-повар. (Итак, повар, а не пекарь всё-таки. И, значит, все варёное можно так же быстро передавать, – по цепочке и приплясывая, – из рук в руки, как все печёное!) Но к чему объяснения? Зачем рушить очарование зимы и ночи, огненного окна, безымянной мечты? «Я имени её не знаю / И не хочу узнать»… А что хотела узнать, то я и узнала ведь! Да! Теперь я наконец-то знала – чего так не хватало морозным искрам, которые скакали вдаль по снегам. Не хватало же им, оказывается, какой-то одной, но главнойкартины – черты ( срединной– будь бы она даже с краю). Не хватало какого-то выразительного центра, от которого они (искры) могут разбегаться дальше – теперь уже с чистой совестью. И скакать – хоть за край света! И это уже не будет пустопорожний бег, потому что теперь у них есть что разносить по свету (как Жоффруа Рюдель разносил по всему свету славу принцессы Мелисанды [6]6
Трубадур Жоффруа Рюдель и принцесса Мелисанда– герои драмы «Принцесса Грёза» французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868–1918).
[Закрыть]); потому что они обрели теперь содержание! (Я имею в виду опять – снежные искры.)
Таким образом, с бедностью впечатлений навсегда было покончено. Ибо поиски их получили наконец определённое направление. Несомненно, как-то связанное с жаждой сказки. И, по-видимому, сказки гофмановского типа. Почему же именно гофмановского? Ведь я и понаслышке ещё не знала тогда о Гофмане! Но и потом, уже о нём прослышав, мне всё равно пришлось искать его книги в продолжении… всего последующего детства и всю первую половину юности, и – всё… безуспешно! Правда, как-то всё-таки попала мне в руки – отдельной книжкой (к концу отрочества моего) – пленительная история «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья». Но, во-первых, как мне показалось, это была не совсем сказка, а во-вторых, я нашла её… нетипичной для Гофмана! Можно только гадать, каким образом могла я решать, что типично, а что нетипично для автора, которого я вообще не знала! Повторю: «Мастер…» был первым его сочинением, которое я держала в руках, и сравнить его мне было не с чем. Вероятно, оно просто расходилось в чём-то с моими представлениями о великом сказочнике, сложившимися вдали от его книг и независимо от степени моей «образованности». Словом, это тоже отдельная история. Но не она занимает сейчас мои мысли.
Сейчас я снова спрашиваю себя: среди чего очнутся от долгого, силой навязанного им летаргического сна возрождаемые теперь московские храмы? Посреди какого мезозойского дизайна они прозреют? И не захочется ли им снова закрыть глаза при виде обморочных манекенов, толстых зеркал в форме сердец, заканчивающихся розовыми бантами, и рекламных щитов, с холодным цинизмом, впрочем, весьма нескладным, разыгрывающих раннеамериканскую угорелость? Нуворишеской ляпотойзаслоняется, завешивается сейчас естественная красотаМосквы. Обратим этот путь или теперь уже навсегда исчезнут светящиеся краски Москвы, замечательные хитроступенчатые просветы, неожиданные дали? Ведь у неё, у Москвы, была тайна, – своя тайна. Чудом державшаяся до сих пор (под натиском новостроек, ей-то – ненужных) и подразделявшаяся на многие множества других тайн, одна из которых – каким бы парадоксом это ни прозвучало, – вела, как мне кажется, и к частичному постижению тайны Гофмана! Имея в своем распоряжении любые проулки и закоулки на любой (неиспорченный) вкус, она – Москва – могла себе и это позволить… Хотя, впрочем, и тут ничего утверждать нельзя. Ведь, как заметил Иван Киуру, не так давно прошедший «таинственными её дворами», – «бессильно тут слово любое»! Над Москвой облака высоки, – писал он в 70-е годы, —
Над Москвою ревущие зори,
Над Москвою – небесной реки
Рукава! И небесное море.
И шумит и вздыхает Кольцо
До полуночи – тяжким прибоем.
И текучи душа и лицо.
И бессильно тут слово любое.
Только главные ритмы лови!
Но сознанью откроется бездна…
И зачем говорить о любви?
О любви говорить бесполезно.

«Тиран (сие понять пора давно!)
Созданье благодарное: оно
Из наших воскурений рождено.
Так то ж мы недовольны?»
Культ личности.
Рисунок Новеллы Матвеевой. 30 сентября 1956 г.
«Главные ритмы лови»! Быть может, у меня они были временные и частные и лишь на то (правда, длительное) мгновение детства – главные, но какие-то своиритмы я всё же тогда (в рассказанном выше периоде) – уловила. Вернее, это они поймали меня. Зимой. К ночи. Вблизи обыкновенной московской фабрики-кухни.
А внизу все огни потухли,
Только в кухне скачут отблески углей.
И впоследствии повара с поварятами (вовсе не ради еды, которую они стряпали, а с художественной точки зрения и в силу непонятной причуды) долго ещё казались мне сказочными существами высшей категории из неведомого мне Джиннистана! [7]7
Джиннистан – волшебный город добрых фей, упоминаемый в сатирической повести-сказке «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822). Задолго до рождения Цахеса феи переселились в его страну, зная, что ею «правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особливо в лесах частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий, плененный восторгом и блаженством, вполне уверовал во всё чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был весёлым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане…». После смерти Деметрия ему наследовал юный Пафнутий, который «тотчас распорядился отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться». Начались нелепые притеснения и ограничения, и феи вернулись в Джиннистан. Осталась лишь одна из них – фея Розабельверде, из-за которой и начались все события, связанные с крошкой Цахесом.
[Закрыть]И наоборот, – силуэты, при полной сохранности их изначальной загадочности, стали у меня считаться гражданами, вполне гораздыми (при определённых условиях) смешиваться с толпой обычных светообъёмных людей и уживаться с ними как ни в чём не бывало. Словно «силуэты» – это должность такая! Или профессия. Или нация. Или вероисповедание. Или гражданское состояние. Очень возможно, что я начинала их немного путать с чёрными невольниками и трубочистами. И вообще – с чернокожими. Хотя я, разумеется, отлично знала, что чернокожий – будь он того черней! – не может быть плоским, как тень, всё-таки (лет через пять после всего здесь рассказанного) – при первой попытке сочинить пьесу, я – как сейчас помню! – украсила её следующей ремаркой: «Входит несколько силуэтов. Поварёнок принимает у них подносы, уставленные всякой посудой. Последний силуэт ведет за руку маленькую дочь госпожи Пиликановой».
(Бедная «маленькая дочь госпожи Пиликановой»! Не хотелось бы мне очутиться на её месте!)
…Но чем же ещё примечательно и увлекательно было течение «тихого, но не сирого Детства на улице Кирова»? И на прилегающих улицах?
Как-то (уже во время войны) встретилась мне переводная фраза из автобиографии Марка Твена. Вроде бы ничего особенного: «Я могу восстановить в памяти» – так звучала она. Однако подкрепляемое замечательной яркоцветущей речью и с упорством повторяемое через разновеликие промежутки её, предложение это произвело на меня впечатление до того сильное, что (удовольствовавшись ссылкой на первоисточник) я должна обязательно повторить его для себя!
Итак, я могу восстановить в памяти(хотя «я вспоминаю» было бы, конечно, короче), что одно время соседи ссужали нас (нашу семью) санками своих детей, неимоверно великолепными; даже со вторым высоким сиденьем и в кистях, – вроде странствующего трона!
Я могу восстановить в памяти, что затея с треском провалилась, так как те же соседи вдруг почему-то грубо и хмуро лишили нас этого одолжения. После чего родители и приобрели для нас куда более скромные, но зато свои санки. Надеюсь, не худшие. Ведь человек на передвижном троне и охраняемый мамелюками (и папелюками) вместо обычных, простых родителей, думается, никогда не встретит на своем пути ни одного настоящего приключения! (Позже я и вообще убедилась, что только с обыкновенными – в неплохом смысле – людьми случается все самое необыкновенное! Что романист, во всяком случае, почти обязательно терпит провал, вздумав вывести своего основного героя в заведомобросающемся в глаза и сразу же – с первой страницы – великом или выдающемся виде!)
Я могу восстановить в памяти и то, что в обсуждаемую здесь эпоху мы с сестрою ещё не знали пословицы «Не в свои сани не садись». Но с тех пор, кстати, и действительно больше никогда не садились в чужие сани.
Я могу восстановить в памяти свое уважительное восхищение вечерними, неярко освещёнными витринами, где сидели куклы, дымились меха, горели «драгоценности», красовалась посуда…
И ещё многое могла бы я (оказывается!) восстановить в памяти. Например, то, что в дневное время родителям некогда было водить меня на прогулки. А то, что вечерние наши выходы в город как-то меньше стесняли и устрашали меня, чем дневные, терпеливому читателю уже известно.
Ох уж эти прогулки! Довели они меня однажды всё-таки до греха.
Подобно моим родителям, я, кажется, совсем не умею скучать, томиться и маяться. Но похвальным неумением этим я овладела не сразу. Должна признаться, что чувство ненавистного штиля и опущенных парусов мне было даже слишком хорошо знакомо. И как раз – в самую раннююпору моего существования. Наверное, мне тогда все ещё сильно недоставало материалов для обдумывания. Ведь только дома я была «в своей тарелке» (и тут можно бы заметить, что «тарелка» моей сестры стояла на улице!), добывать же яркие впечатления, не выходя из дома, я к тому времени ещё не научилась. Играла я сравнительно мало. К игрушкам привязывалась очень уж избирательно. Не помню – умела ли я читать. Но даже если буквы уже мне были показаны, взрослые тексты, которыми изобиловал дом, были мне пока не под силу. А картинки внутри книг (некоторые) меня страшили. И, во избежание повторных встреч с ними, я подолгу не раскрывала книг. Разумеется, такое положение вещей было своего рода пыткой для моей деятельной натуры!
И вот однажды вечером, при электричестве уж е, когда родители о чём-то негромко переговаривались, а я, сидя перед сном в своей кроватке, ломала голову – чем бы заполнить немыслимые пропасти выпавшего на мою долю досуга, мне вдруг подумалось, что надо бы как-то доработать, подредактировать скучное слово «гулять». Сделать его как-то поинтересней, что ли. Чтобы оно иначе повернуло краску и, так сказать, заиграло новыми гранями. Перво-наперво следовало, конечно, убрать у него первую букву и заменить какою-то другой. Но… – какая же другая буква тут лучше всех подойдет? – размышляла я (являясь, как видим, уже всё-таки большим грамотеем и желая как можно скорее пустить свою образованность в ход)! Ну что? Взять букву «Д»? «З» или «В»? Нет! Всё не то. И в конце концов мой выбор остановился на букве «Б», приноровив которую к началу слова, я любознательно заглянула в «конец задачника». И что же?! Неожиданно вышло так, что в результате напряжённой работы моего мыслительного аппарата (ещё и одержимого идеей новаторства!) я получила в своё распоряжение слово… гм… не такое уж новое и к тому же не то чтобы умное! Надо ли уточнять – какое? Если из «бывшего» слова «гулять» вы – в честь иной буквы – изымете не только «бывшую» первую, но и «бывшую» вторую (что я не преминула почему-то сделать), и если вы всё ещё помните, с какими словами, вывернувшись из-за угла, обратился к вам в стельку упившийся незнакомец, которому вдруг показалось, что вы не друг ему, – пожалуй, вы получите истинное понятие о словце, вышедшем из моей детской лаборатории!
Разумеется, я не могла предвидеть – каким окажется мое фаустовское открытие. Ясно, что не понимала я и подлинного смысла таких речений. Но всё-таки я уже знала, что слово это плохое, запретное. Ведь моя овеянная ветрами странствий сестра, занимавшаяся доставкой мне из большого мира самых разнообразных слов, давно растолковала мне это!
Как сейчас помню бледный, но несомненный огонёк лукавства, дугой мелькнувший в дикарской тьме моего сознания! Хулиганская полуулыбка заиграла на невинных устах моих. Я рассудила за лучшее завтра же испытать новое слово в кругу семьи. (Ведь во всяком случае словоупотреблениебыло новым.) Но… нет! Расходование новых слов среди своих, среди близких и только, показалось мне вдруг бесхозяйственным. Нет! Лучше уж я прокричу это слово, когда у нас будут гости, – решила я. И, устроившись поудобней, заснула сном праведницы.








