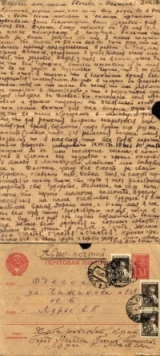
Текст книги "Небо и земля"
Автор книги: Нотэ Лурье
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Надо же, не написал, с кем посылает, – ворчала старуха. – Прямо хоть плачь…
Зелда вышла во двор посмотреть, где дети.
Было уже темно. За ставком догорали остатки хозяйственных строений, в воздухе пахло гарью. Как и прошлой ночью, с Мариупольского шляха доносились частые тревожные гудки машин и тяжелый, неумолкающий грохот колес.
Глава седьмая
Этой ночью Зелда, как и все бурьяновцы, не прилегла, не присела. Задернув в доме занавески, всю ночь готовилась в путь. Коптящая керосиновая лампа, от которой уже давно отвыкли, слабо освещала вещи, разбросанные по столам, табуреткам, кушетке, по полу. Купленная к майским праздникам широкая никелированная кровать и детские кроватки, одна меньше другой, были тесно составлены вместе, а вся постель – перины, одеяла, подушки – увязана в узлы и сложена в углу около двери. На этих узлах вповалку, одетые и неумытые, спали усталые дети. Только поздно ночью Зелде удалось уложить их. Вся мебель была передвинута, стол со стульями и кушетка поменялись местами, коричневый шкаф стоял посреди комнаты с открытыми дверцами; в комоде были выдвинуты ящики. Убрали вышитые салфетки, сняли грамоты и фотографии со стен, и там, где они висели, теперь белели пятна и торчали ржавые гвоздики. От этого беспорядка в доме, от неряшливого, беспризорного вида детей, спавших на узлах в одежде, а главное, от мысли, что вот приходится уезжать, не дождавшись письма от Шефтла с новым адресом, у Зелды сердце кровью обливалось. Но она крепилась изо всех сил, не хотела выдавать себя перед свекровью, которая и так все время охала и причитала. Еле двигая слабыми, высохшими ногами, старуха бродила по дому, собирала то, что еще осталось: бельевой валик, тяпку, ступку и кухонную доску, подсвечники, которые ей еще к свадьбе подарили, тяжелый медный ковшик, привезенный покойным мужем с ярмарки, когда родился Шефтл… Ей дорога была каждая вещичка в доме, каждая о чем-то напоминала, была частью жизни, частью ее самой. С этими вещами, чувствовала старуха, она еще что-то значит, а без них? Что она без них? С полки, висевшей на стене боковушки, она кряхтя сняла старые запыленные молитвенники, что лежали там с дедовских времен, вытащила из чулана ухват и кочергу, собрала все горшки и крынки.
– Куда вы все это тащите? Мы самое нужное и то не можем взять. – устало произнесла Зелда.
У нее уже не было сил препираться со свекровью. Обвязав бечевкой сверток с едой, она опустилась на узлы рядом с детьми, на минутку закрыла глаза…
– Нашла время дрыхнуть, – ворчала свекровь. – Ей что… Хоть все оставляй, ей не жалко… О нахлебничке, о немчике, вот о ком она беспокоится.
Старуха возилась, пока не стало светать. Тогда она вспомнила, что надо же еще на кладбище сходить, проститься с могилой мужа, с могилами отца и матери, деда и бабки, с землей, где похоронены первые бурьяновские колонисты. Заросшее травой кладбище лежало по ту сторону плотины. Старуха накинула на голову темный платок и вышла из дому. Сквозь голубоватый рассветный туман она увидела идущего мимо их двора председателя.
– Доброе утро, – поздоровалась она, ускоряя шаги. – Ну, как там?
– Вещи, вещи выносите, – ответил ей Хонця на ходу– Через пятнадцать минут подъедет подвода. Поторапливайтесь! – крикнул он, удаляясь. – Нам нельзя задерживаться ни на минуту.
Услышав эти слова, старуха опрометью бросилась в Дом. С криком, словно горела крыша над головой, она стала будить Зелду и детей.
– Чего вы спите! Подвода сейчас придет! Скорей! Скорей!
Зелда, вскочив, первым делом схватила на руки Шолемке, который с перепугу залился отчаянным плачем. Шмуэлке с Куртом, а за ними и Тайбеле с Эстеркой, протирая глаза, побежали во двор. Не прошло и пяти минут, как на улице в самом деле показалась подвода, которая стала заворачивать к их двору. Дети с радостными криками побежали ей навстречу.
Выкрашенная в зеленый цвет подвода уже была наполовину загружена узлами и утварью. Спереди, с хмурым видом, свесив короткие ноги на дышло, сидел Юдл Пискун. Одет он был в ту же засаленную куртку и вытертые узкие штаны, в каких приехал. Доба, бледная, пришибленная, съежившись, сидела сзади. У распахнутой настежь двери дома подвода остановилась. Доба молча слезла и пошла в дом помогать выносить вещи. Юдл, прикусив тонкий ус и щуря глаза, продолжал, не отпуская вожжей, сидеть на возу. Он простить себе не мог, что допустил такую страшную, такую дикую глупость. Надо же ему было вернуться в хутор как раз к эвакуации! Разве не мог он остановиться где-нибудь неподалеку, на станции или в чужом селе, где его не знают, и переждать? Дождаться, пока придут немцы, если бы он мог сейчас исчезнуть… Но куда бежать, где спрятаться? Надо было ночью. Но откуда он мог знать? Да нет, свалял дурака, понадеялся, что немцы займут хутор, прежде чем бурьяновцы соберутся и уедут. «Что делать? Как спастись? – ломал себе голову Юдл и ничего не мог придумать. Его поддерживала лишь надежда, что немец перережет им дорогу. – Так и будет, – утешал он себя. – Иначе и быть не может. Далеко мы все равно не уедем…»
Приободрившись, он с затаенным злорадством оглянулся на Зелду и старуху, которые, притащив тяжелый тюк, взваливали его на подводу. Прибежавшие следом дети, босые и растрепанные, громко спорили.
– Я первый! Я сяду раньше всех, – кричал Курт, прыгая у подводы.
– А я еще раньше, я прямо сейчас влезу! – и Шмуэлке уцепился сзади за грядку.
– Я тоже хочу.
– И я! И я! – зашумели девочки.
Юдл искоса посматривал на них. И вдруг ему захотелось вот так, ни за что ни про что, огреть их кнутом. «Шефтлово отродье… Пока я там пропадал в лагере, он тут с женой спал, детей плодил… Целый табун!» – с ненавистью думал Юдл.
Зелда из последних сил поднимала на подводу огромный узел, завернутый в пестрое рядно.
«Хоть бы помог ей, нет, сидит как истукан, – Доба с раздражением посмотрела на мужа. – И не почешется…» А ведь ей они еще как помогали все эти годы, пока его не было, – и Зелда, и Шефтл. Но сказать ему она не решалась. Боялась. И так уж она натерпелась от него за те дни, что он дома. Доба только вздохнула, влезла на подводу и, тяжело дыша, начала разбирать и складывать сваленные там вещи.
Когда подвода была нагружена доверху домашним скарбом – старыми корзинами, малыми и большими. узлами, подушками, перинами и ящиками с посудой, – Зелда посадила детей: Шмуэлке, Тайбеле, Эстерку и Курта, а под конец подала Добе Шолемке. Потом влезла на подводу сама.
– Ну, все уже? – спросила Доба, придвигаясь к Зелде.
Зелда не ответила. Она смотрела на свой дом, на завалинку, где они с Шефтлом коротали летние вечера, на палисадник с низенькими вишнями, на куст хризантем против окон, на тополь посреди двора – тень от него тянулась до самого порога, – и от мысли, что сейчас, сию минуту придется все это оставить, она чуть не зарыдала от отчаяния. Здесь она прожила с Шефтлом свои лучшие годы. И сейчас, в последние минуты, она особенно сильно чувствовала, как тяжело со всем этим расставаться. Но – надо было. И, собравшись с силами, Зелда позвала:
– Свекровь, где вы? Пора садиться! Все уже на подводе!
Но старуха не слышала. Она стояла одна в своей опустевшей боковушке и прощалась с голыми стенами, с домом.
– На кого я тебя оставляю, – шептала она, – как я жить без тебя буду…
Зелда снова ее позвала.
Сгорбленная, еще больше высохшая, старуха вышла, сделала несколько шагов и остановилась. Всем своим слабым, худым телом она прильнула к стене, обхватила руками угол дома, точно это было живое существо, и лицо ее искривилось – она горько заплакала.
Их дом был самый старый на хуторе. Построил его старухин прадед, один из первых колонистов, когда полтора с лишним века назад обосновался па этой, тогда еще дикой земле. Потемневшая от времени крыша, низенькая длинная лежанка, где в зимние вьюжные вечера сушились семечки, скрипящие двери – все здесь ей было дорого, как жизнь, и, как с жизнью, трудно было со всем этим расставаться.
Старуха медленно опустилась на завалинку.
– Свекровь… – в третий раз позвала ее Зелда. Старуха не двигалась с места.
Зелда слезла с подводы и подошла к ней:
– Что с вами, вы же нас задерживаете… Идемте, садитесь наконец…
– Подожди, не гони меня… – чуть слышно ответила старуха.
Дети ерзали на подводе; они ужасно боялись, что бабушка передумает и не захочет ехать. Доба тоже забеспокоилась. Один Юдл радовался в душе.
В воротах показался Хонця.
– Выезжай! – крикнул он Юдлу. Голос у него был хриплый, измученный.
Юдл вздрогнул. Нехотя взялся за вожжи, косясь украдкой на Гуляйпольский шлях, откуда он ждал и не дождался гостей. Пара сытых буланых резво тронула с места. Обозленный, Юдл круто повернул подводу, и она, описав дугу, с разгона наехала на цветущие кусты хризантем.
Заметив это, старуха побледнела.
– Изверг! – закричала она не своим голосом, хватаясь за голову. – Он мне все хризантемы передавил! – и, поднявшись с завалинки, с неожиданной прытью пустилась к перееханному кусту, начала поднимать и расправлять сломанные и раздавленные стебли. – Что он с ними сотворил, – причитала она. – Цветики мои… Ох, увидел бы это Шефтл… Он их так любил… Надо же, такую красоту погубить…
– Ну тише, тише, ну успокойтесь же, – упрашивала ее Зелда. – Есть несчастья и пострашней… Сами видите, что творится… Ну идемте же, идемте… – Она взяла старуху под руку, подвела к подводе и уже хотела, подсадить, как вдруг старуха всплеснула руками:
– Постой!.. Хорошо, что вспомнила! Мы ведь забыли медный таз для варенья! Такой таз! Он на чердаке лежит… Погоди, сейчас… я за ним схожу.
Не успела Зелда слово сказать, как старуха поспешно заковыляла к дому. Уже около самых дверей она внезапно остановилась. И вдруг схватилась одной рукой за грудь, другой как-то странно взмахнула в воздухе и упала на землю.
– Свекровь!.. Что с вами? – подбежала к ней испуганная Зелда.
Старуха лежала на земле. Из-под подола выглядывали худые ноги.
– Что с вами?… Почему вы не отвечаете? – растерянно повторяла Зелда.
Старуха не шевелилась.
Зелда приподняла ее голову, странно тяжелую, повернула к себе, увидела тусклые полоски белков, темную дыру беззубого рта, скривившегося, казалось, в насмешливой улыбке, и в ужасе разжала руки. Голова глухо стукнулась о землю. Зелда зарыдала.
Спустя несколько минут двор наполнился людьми. Сбежалась вся Бурьяновка. На подводах, которые уже выстроились гуськом на широкой изогнутой хуторской улице, остались только дети и лежавшая на возу больная Нехамка. Хвост обоза скрывался за поворотом.
Старуха, накрытая Зелдиной шалью, лежала там же, где упала, а Зелда сидела возле нее и тихо плакала. В палисаднике Хонця советовался с мужиками. О том, чтобы отложить погребение, не могло быть и речи. Что делать? Везти старуху на кладбище? Времени нет. С собой везти? Но как? И куда…
– Знаете, что я думаю, – сказал Додя Бурлак. – Пускай нас старуха простит и Шефтл пусть уж не взыщет – ничего не поделаешь. Придется похоронить ее тут, во дворе. Тут она родилась, тут, видно, суждено ей и упокоиться.
Под плач и причитания женщин Липа Заика, Шия Кукуй, старик Триандалис и Додя Бурлак взялись за лопаты.
Когда уже засыпали могилу, со стороны Ковалевской балки прискакал на молодой горячей лошади Сеня. Лицо у него было опалено, волосы прилипли к мокрому лбу. Среди выстроившихся вдоль улицы возов он мигом отыскал глазами подводу, на которой лежала Нехамка, и подъехал к ней.
Нехамка, бледная, полулежала, опершись на подушку, и тоскливо глядела на суетившихся во дворе людей. Ей было грустно и досадно, что она не может, как все, проститься с матерью Шефтла и вообще, вместо того чтоб помогать, сама доставляет хлопоты в такое время.
Увидев перед собой Сеню, она смущенно и даже недовольно опустила глаза, поправила упавшую на грудь косу.
– Нехама… Не сердись, что я приехал, – быстро заговорил Сеня. – Я на одну минутку, думал, может… скажи, как ты себя чувствуешь.
– Ничего, – сдержанно ответила Нехамка.
– Хорошо, Нехама, хорошо, что ты уезжаешь… Немцы уже около Гуляйполя… Может, еще свидимся когда-нибудь, – Сеня покраснел. – А я… – Он быстро оглянулся и, понизив голос, сообщил, что остается здесь, в подполье. Сеня хотел еще что-то добавить, но тут из двора повалили люди и бегом пустились к своим подводам. – Будь здорова, Нехама…
Сеня повернул коня. Через несколько секунд он уже скакал по дороге, что вела к Дибровскому лесу, единственному в этих местах. Когда Нехамка, чуть погодя, оглянулась, она увидела на краю хутора лишь облако пыли.
Подводы, на которых тесно сидели женщины, дети и пожилые мужики, надсадно скрипя, тронулись с места и одна за другой покатили по широкой, чуть изогнутой хуторской улице, вниз по откосу. Миновали последний дом с заколоченными окнами, свернули к Мариупольскому шляху, и вот уже хутор и двор Шефтла со свежей могилой остались далеко позади…
Глава восьмая
Весь день двадцать с лишним бурьяновских подвод, скрипя всякая на свой лад колесами, гремя вальками и пустыми ведрами, подвешенными с боков и сзади, медленно тянулись по пыльному шляху.
Подвода, которой правил Юдл Пискун, шла в самой середине обоза. Юдл был в бешенстве. Он чувствовал себя в ловушке – впереди враги и сзади враги, и все следят, не спускают с него глаз. «Спастись!.. Как спастись?…» – эта мысль ни на минуту не оставляла его. За весь день он не вымолвил слова, только покусывал свой тонкий ус. Зелда и Доба тоже молчали. Зелда сидела на самом краю подводы, с уснувшим Шолемке на руках, и печально поглядывала на остальных детей: те шалили как ни в чем не бывало. Она еще не оправилась после неожиданной смерти свекрови и со стесненным сердцем думала о том, что Шефтл еще ничего не знает… Не знает, что мать умерла и в палисаднике остался только маленький могильный холмик… Не знает, что Зелда с детьми покинула хутор и едет на одной подводе с Юдлом Пискуном неизвестно куда… А сам он? Где он теперь, в эту минуту, когда она думает о нем? Если б можно хоть одним глазом издали посмотреть на него, увидеть, что он делает… Только бы цел был, только бы здоров… больше ей ничего не надо. И письмо. Хоть два слова. И новый адрес. Жаль, не получила она того привета, может, было б спокойнее… Уж она бы того человека обо всем расспросила: где встретились, на какой платформе, куда направлялся эшелон… Разузнала бы, как Шефтл выглядит, как одет, что рассказывал о себе. И может, удалось бы узнать, в какую часть его перевели. Но где этот человек и кто он? Почему не пришел, не передал привета? А если и приедет еще – где он будет ее искать?
В стороне, среди узлов, понуро сидела Доба и грустно покачивала головой. Всего за несколько недель до начала войны она ехала по этой дороге в МТС, к сыну, к Иоське, который ремонтировал в МТС тракторы. Будто вчера это было… Веселый, красивый, вот он бежит ей навстречу, обнимает ее и не знает, как лучше принять ее, куда раньше повести – то ли к себе в общежитие, то ли в столовую, то ли в мастерские. Так и стоит он перед ее глазами… А теперь? Знать бы хоть, был ли кто около него в последние минуты, может, звал ее… За что, за какие грехи суждено ей пережить единственного сына? Нет, если люди не могут жить в мире, ни к чему рожать детей. «Кто знает, что этих-то еще ждет», – с тоской подумала Доба, посмотрев на Зелдиных малышей.
Дети, пригревшись под теплым осенним солнцем, убаюканные мерным движением подводы, уже тихо сопели во сне. Не спал один Курт. Он сидел наверху, на большом узле, привязанном к подводе толстой веревкой, и беспечно болтал загорелыми голыми ножками. Никогда еще не было ему так хорошо. Он так волновался, пока подвода не тронулась с места! Теперь хутор где-то далеко, его уже давно не видно, кажется, будто совсем и не было никакого хутора. А лошади бегут, мотают головами, фыркают. Колеса скрипят, ведра звякают, подвода то катится вниз, в балку, то въезжает на холм, кружит среди зеленых полей, среди черных паров, где вороны с громким карканьем прыгают с кочки на кочку, роются клювами в земле, ищут зерна. А он, Курт, сидит на самом большом узле, выше всех, и ему все видно. Вся степь перед ним. Голубеют холмики, темнеют балки. То тут, то там виднеются живописные села и хутора, блестят ставки. И стоят высокие-высокие тополя, вот один, вот другой, третий… Курт еще никогда не видел столько неба и столько земли. И ему теперь хорошо. Он едет. А старая бабка не едет – ему еще лучше! Всегда она к нему придиралась, все валила на него, только он был во всем виноват, что бы ни случилось. Кто съедал весь сахар? Курт. Кто крошил хлеб? Курт. Кто выпивал молоко? Курт. А он вовсе и не любит молока. Когда бабка сидела за столом, он боялся и подойти к нему близко. И называла она его не иначе как «нахлебник», да «горе мое», да «немчура». Никакой он не «немчура»! Раньше был, правда, Чуть-чуть. Но больше не хочет. Пусть Зузик будет немчурой. Зузик дерется, бросается колючками. Эстерка и Тайбеле его не любят. Вот пусть Зузик и будет немчурой. А Курт, когда вырастет, станет красноармейцем. С настоящим ружьем и гранатой. Он сядет в большой танк и оттуда застрелит Гитлера.
Курт запрокинул голову и звонким своим голоском затянул:
– Зузик-шмузик, карапузик.
– Поглядите-ка на него, ему весело, – простонала Доба.
– Пусть… чем он вам мешает, – заступилась за мальчика Зелда.
– Вот именно… Чем он мне мешает… У меня сердце кровью обливается, а он распелся. Почему ваши дети не поют? Почему они не веселятся?
И чем громче Курт пел, тем сильнее Доба ненавидела его. Сама чувствовала, что не права, – в конце концов, это только ребенок, – и ничего не могла с собой поделать, Довольно было того, что его звали Куртом.
Вся ее ненависть против немцев обратилась на мальчика. Немцы убили ее сына, – не этот Курт, так другой… За что? Что ее мальчик сделал плохого?
Подводы катили вниз по откосу, колеса и ведра стучали, гремели еще громче, и Курт, возбужденный, еще звонче запел: «О-ля-ля, о-ля-ляаа!..»
У Зелды сжималось сердце от жалости. «Он еще не знает, что мы сегодня расстанемся», – думала она, глядя на мальчика. Вот они поднимутся сейчас на гору, а оттуда уже виден Блюменталь. Там она и оставит его. Но пока она ему ничего не скажет. Зачем его огорчать? Он так привязался к ней, к детям… Да и она, и ребятишки тоже к нему привязались, чего уж там, своим стал… Эстерка его больше любит, чем Шмуэлке… И Тайбеле… Да… Нелегко будет с ним расстаться. А что делать? Дорога перед ними тяжелая, дальняя… Зелда слышала, что ехать им до самой Астрахани. Значит, не меньше двух-трех недель. Кто знает, что ждет их на этом долгом и трудном пути, сколько придется намучиться, пока туда доберутся, пока в незнакомом, чужом месте найдут хоть какой-нибудь кров…
У них выбора нету, им надо спасаться. Но Курт? Он немецкий ребенок, его немцы не тронут. Зачем же тащить его с собой? И ведь Зелда дала слово свекрови-покойнице, что дальше Блюменталя Курта не повезет. Так что делать нечего, придется оставить его у тетки. Может, надо было ему раньше сказать, подготовить как-то, он, чего доброго, и не знает, что у него в Блюментале есть тетка… С тоской глядя на Курта, Зелда думала о том, какой тут поднимется плач и рев, когда придется разлучить его с детьми. И ей захотелось обнять мальчишку и прижать к себе.
А Юдлу, сгорбившемуся, сидевшему понуро с вожжами в руках, до смерти опостылели и Зелда, и дети, и Доба, и лошади, и подвода, на которой он ехал, и все остальные подводы, ехавшие сзади и впереди него. С каждой минутой его все дальше увозили от линии фронта, и это была его теперь единственная и нестерпимая мука. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как Дорога круто пошла под гору. Подвода покатилась быстрее, вальки на упряжке, раскачавшись, стали бить лошадей по задним ногам, и кони, задрав морды, бешено понеслись по обочине дороги. Подвода подпрыгивала, кренилась то вправо, то влево, каждую секунду грозя перевернуться. Юдл, бросив вожжи, то и дело растерянно оглядывался, на всякий случай готовясь соскочить.
– Останови! Останови лошадей! – кричала не своим голосом Доба.
Подвода еще несколько раз подпрыгнула и наконец, докатив до откоса, стала медленно подниматься в гору.
– Господи! Ты ж чуть подводу не перевернул, – не могла успокоиться Доба.
«И жаль, что не перевернул. Тогда бы уж дальше не поехали, – подумал Юдл, неохотно подбирая вожжи. – А ты, дурак, чего дожидался? Надо было спрыгнуть и бежать», – укорял он себя и, срывая злобу, изо всех сил хлестнул лошадей по ушам.
Зелда старалась успокоить испуганных детей. Подвода тем временем уже взобралась на гору и приближалась к Блюменталю3. Поселок не случайно так назывался, он весь утопал в цветах. В палисадниках среди деревьев, под окнами добротных, аккуратно побеленных домов, в просторных чистых дворах и вдоль зеленых заборов буйно росли огромные бархатные темно-красные георгины, бледно-розовые и белые, с серебристой изморозью, хризантемы и астры самых разных оттенков. Острый запах хризантем смешивался с винным, сыроватым ароматом вянущих листьев, которыми обильно были засыпаны уличные канавы. Золотистые, нежно-желтые, красные и коричневые листья носились в воздухе, как разноцветные бабочки, и тихо падали на прохладную, осеннюю землю.
Посреди села, у артезианского колодца, бурьяновцы остановились напоить лошадей. Зелда слезла с подводы и пошла узнать, где живет тетка Курта. Первый же двор, в который она зашла, оказался пустым. В соседнем дворе она тоже никого не застала. В третьем, в четвертом – всюду ее встречали замки на дверях. Зелда быстро переходила от одного двора к другому – село словно вымерло. Нигде ни души, даже собаки не лаяли. Зелда не понимала, что это значит. Неужели их тоже эвакуировали? Но, возвращаясь к подводам, она встретила проезжего крестьянина, который рассказал ей, что всех немцев из Блюменталя и из других окрестных сел прошлой ночью вывезли на станцию и отправили куда-то. Так. И что теперь делать с Куртом? – подумала Зелда. Куда его деть? Права была свекровь-покойница, давно надо было отвезти мальчишку к тетке… А теперь она же перед ним виновата. Ничего не поделаешь, придется взять с собой.
И снова бурьяновцы тронулись в путь. Они озабоченно поглядывали на чисто подметенные, пустые дворы, на дома с закрытыми ставнями и думали, должно быть, что точно таким же, брошенным и пустым, выглядит сейчас и их хутор…
– Такое село, такая красота… – с сожалением покачала Зелда головой. – И никого не осталось, никого…
– Никого не осталось? – звонким своим голосом переспросил Курт. – А почему? Разве они тоже евреи? – Он задумался на минуту и вдруг, обернувшись к Зелде, быстро спросил: – Евреи…. евреи… А что это такое – евреи?
Глава девятая
Влажный октябрьский ветер кружил остатки черной, сожженной бумаги, покрывая ими кусты и деревца на центральной площади Гуляйполя. Ночью районные учреждения уничтожили свои архивы и спешно эвакуировались – кто на машинах, еще оставшихся в распоряжении района, кто на подводах, а кто верхом. Спешная эвакуация была вызвана угрожающим прорывом вражеских войск – фронт быстро приближался.
Элька узнала об этом только утром, вернувшись с ночной работы на мельнице. Услышала также, что железнодорожная линия Гуляйполе – Пологи отрезана, поезда не ходят. В первую минуту Элька совсем растерялась. Как же это? Ей никто ничего не сказал! Неужели вся районная власть успела уехать? Не может быть! Кто-то, должно быть, задержался. Велев Свете не выходить из комнаты, она побежала на центральную площадь с надеждой присоединиться к кому-нибудь из отъезжающих. Но никого не нашла. Двери кабинетов были заперты, иные даже заколочены гвоздями. Задыхаясь, Элька побежала назад, домой. На улицах, где вчера еще толпилось столько военных, она не встретила ни одного красноармейца. Ясно, что здесь нельзя ей оставаться. Выход один – идти пешком. Как выдержит такое путешествие Света – об этом Элька старалась не думать. Дома она переоделась, нарядила и Свету в свежее платьице и торопливо отобрала то, что могло пригодиться в дороге. На остальное она махнула рукой. Через час они уже шли по проселочной дороге, что вела из Гуляйполя к Розовке. Элька держала Свету за руку. Заплечный мешок с вещами клонил к земле. У девочки за плечами тоже был небольшой мешочек. Туда положили, завернув в вышитое полотенце, самое драгоценное – папину фотографию в резной рамке, которую Элька сняла со стены. В правой руке Света держала пеструю коробку из-под леденцов, подаренную Шефтлом. В коробке лежало несколько пуговиц и ракушек, с которыми девочка ни за что не хотела расставаться. Элька кроме мешка несла еще сверток с едой. Шли медленно. Но уже на четвертом километре, когда спускались в балку, Света начала жаловаться, что у нее болят ножки.
– Давай все-таки еще немножко пройдем, – попросила Элька. – Вон там горка, видишь? Там мы отдохнем.
– Хорошо, – кивнула Света.
Элька озабоченно посмотрела на дочь. Уже сейчас ей трудно идти, что же будет дальше? Взять бы ее на руки… Но Элька понимала, что с двойной ношей ей самой далеко не уйти, и так подкашиваются ноги. Неожиданно она услышала сзади гудки приближающейся автомашины.
– Светка! Машина!.. – крикнула она. – Может, подберет нас…
Обе застыли на краю дороги: Элька с большим узлом за плечами, Света – с маленьким. Элька подняла руку. Глядя на нее, и Света замахала ручонкой. Так они стояли, подняв руки, смотрели на приближающуюся машину. Ждали, что вот-вот она остановится и им позволят сесть. Но грузовик даже не замедлил ход. С шумом и ветром он пронесся мимо. Кузов был набит шкафами, кроватями, столами и стульями, среди которых, прижавшись друг к другу, сидело несколько человек.
Одного Элька узнала – это был Юхим Харитонович Гольдман…
«До последней минуты укладывал вещи… Из тех, кто ничего не оставит…» – с негодованием подумала Элька. Ей было ужасно неприятно и стыдно за этих людей, которые видели на дороге ребенка и не остановились.
– Пошли, доченька, – она взяла Свету за руку, и они отправились дальше.
Когда начали подниматься в гору, сзади послышались гудки. Элька не решилась поднять руку. Она только отступила в сторону и, тяжело дыша, поправляла свой мешок. Зато Света, даже не оглянувшись на мать, сама подняла руку. И машина, приблизившись к ним, замедлила ход и остановилась.
– Садитесь, – сказал, выглядывая из-за своих воспитанников, заведующий районным детдомом Олейниченко.
И вот уже Элька и Света в машине.
Это была большая, почти невероятная удача. К вечеру, надеялась Элька, они уже будут в Розовке, а там как-нибудь сядут на поезд. Но примерно на половине дороги им встретился летевший сломя голову мотоциклист, от которого они узнали, что поблизости высадился немецкий парашютный десант и путь на Розовку отрезан. Свободна лишь дорога, ведущая к Симферополю. Не долго думая, Олейниченко велел шоферу переменить направление. Машина круто развернулась и помчалась другой дорогой – на юг.
«Повезло… просто повезло…» – мысленно повторяла Элька, прижимая к себе дочь, заснувшую на руках.
Чем дальше они ехали, тем больше попадалось беженцев. Машина обгоняла подводы, на которых сидели женщины с детьми и старики.
Утром на другой день прибыли в Симферополь. Здесь Олейниченко решил задержаться на несколько дней. Ему надо было решить ряд вопросов, связанных с эвакуацией детского дома. Элька мечтала как можно скорее добраться до Ялты и сесть на пароход. Им со Светой снова повезло: тут же подвернулась машина, которая шла в Ялту и захватила их с собой.
Элька никогда не была раньше в Крыму. Не отрываясь, с детским восхищением смотрела она на красочный южный ландшафт. Горы – далекие и близкие; ярко-белые, в ослепительном сиянии солнца поселки; высокие стройные кипарисы. Бахчисарай с его старинными минаретами; зеленые пятна лугов у самой верхушки Ай-Петри… И дорога, дорога, вьющаяся вокруг горы, – то она взлетает вверх, до самого синего неба, то ползет вниз, по краю обрыва, то снова взмывает ввысь…
А в мыслях одно и то же: Алексей. Что с ним? За день до внезапного отъезда из Гуляйполя она снова, в который уже раз, зашла в райвоенкомат. Ответа на запрос комиссара не было. Что это значит? Неужели… неужели… Нет, Алексей не мог погибнуть, в это она не верит, не верит… И вот Элька увидела внизу кусок синевы, еще более густой, чем небо.
– Море!..
В Ялту они, раскрасневшиеся от солнца и дорожного ветра, приехали уже за полдень. В порту стояли два больших корабля – «Чапаев» и «Дунай», на которых из окруженной Одессы привезли эвакуированных и раненых. В шумной толпе, запрудившей порт, Элька узнала, что оба корабля, не задерживаясь, отправляются в Новороссийск. Оставалось получить разрешение у уполномоченного по делам эвакуации. Пробиться к нему было трудно. Но и здесь удача сопутствовала Эльке: в последнюю минуту она все-таки получила разрешение. Уполномоченный выдал ей два посадочных талона на «Чапаев». Держа Свету за руку, с мешком за плечами, она быстро направилась к пароходу. Трап, ведущий на палубу, был мокрый и качался под ногами. Элька поскользнулась. К счастью, ее подхватил какой-то растрепанный пожилой мужчина в очках. Он взял у нее мешок и помог ей и Свете подняться на пароход. Палуба была запружена людьми. Неожиданный помощник отыскал для них свободное местечко. Кое-как устроились.
– А теперь познакомимся, – сказал пожилой мужчина, сняв очки и протирая их уголком пиджака, – Моя фамилия Левандовский. Уполномоченный Одесского станкостроительного завода. А тебя как зовут, шалунья? – наклонился он к Свете, уже сидевшей на мешке.
– Меня зовут Света, – приветливо ответила девочка.
– А фамилия?
– Орешина.
– Очень хорошо. Ну вот мы и знакомы. Если что-нибудь нужно будет, не стесняйтесь, я всегда к вашим услугам. – И, пообещав скоро вернуться, Левандовский ушел,
«Чапаев» тем временем медленно отчаливал. Железный настил палубы чуть заметно подрагивал под ногами. Откуда-то снизу, из глубины громадного корабля, по-видимому из машинного отделения, доносился глухой напряженный шум. Между кораблем и берегом образовалась синяя полоса воды; она становилась все шире и шире. Все смотрели на берег. Вместе со всеми и Элька не могла отвести глаз от берега, от порта, от красивого южного города, раскинувшегося на склоне горы. Над Ялтой садилось солнце, отражаясь в окнах санаториев, белевших среди зеленых садов…
«Неужели немцы и сюда дойдут?» – подумала Элька с тревогой.
– Мама, а мама! Элька подошла к дочери.
– Что такое?
– Смотри! – сидя на мешке, девочка подняла ножки в длинных чулках. На одной ноге не было сандалии.
– Где же вторая? – спросила Элька.
– Не знаю. Я только что посмотрела, а ее уже нет,








